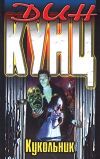Читать книгу "Персонажи (сборник)"

Автор книги: Вирджиния Холидей
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мириам
…Был бы только взгляд подарен,
Как весной в дозор удалый
Сел озера отыскал в сухих глазах.
Смеялись дети нам в ответ,
И было так светло, что вязью Вед
Темнели губы, хлопьями хмелел закат…
Д. Ревякин
Выпал черно-белый снег. Точный состав его, не выходя на улицу, было определить трудно. Мириам поморщилась, показала язык в окно, как бы подчеркивая, что не очень-то и хотелось выходить из дома, и демонстративно с презрением отвернула голову, прошла по комнате, прихрамывая, наступая на отекшую ногу. Все ребята уехали на экскурсию. Коллектив соседнего ресторана взял шефство над ребятами по выходным – причем не только кормил вкусными обедами и устраивал мастер-классы на лучшего поваренка детского дома, но еще и каждый сотрудник проводил с ребятами время по очереди. Сегодня за главного был Женя-водитель, и в программе значился выезд, посвященный родному городу, была предварительная договоренность с волшебной милой Эллочкой – экскурсоводом одного из краеведческих музеев – о культпоходе по городу.
Эллочка была девушкой приятной и не очень красивой. Последнее качество особенно привлекало в ней Мириам. С некоторых пор она стала завидовать любой мало-мальски симпатичной девочке, любой приятной и оформившейся девушке и тем более красивой и ухоженной женщине. Мириам находила в этом блеске что-то издевательское по отношению к ней, она подозревала, что это было не что иное, как нарочно исковерканная черная суть, распиханная по этим девицам и сверкающая заносчивостью, если вдруг проступала наружу. А привлекательная внешность была не более чем оберткой, фантиком от конфеты.
Еще недавно ее совсем не волновали кудряшки, которые она теперь усердно расчесывала по утрам, пытаясь расправить их природную закольцованность; она не рассматривала себя после душа с особой гипнотизирующей придирчивостью; она не пыталась лишний раз просунуть руку через неподдающуюся упругую резинку хлопчатобумажных трусиков, чтобы почувствовать мягкость и воздушность пшеничных волосков mons pubis[1]1
Лонный бугорок (лат.).
[Закрыть]; она не каталась летом на велосипеде часами под бит своего еще не взрослого, но очень желающего им стать сердца, привставая над кожаным треугольным сиденьем, и с щенячьим восторгом от сладкого бурления внизу живота медленно садилась на него; а зимой не елозила попой по санкам, пытаясь пристроить маленькую зародившуюся взволнованность и угомонить ее; она не понимала, почему окружающие находят прелесть в рассвете или закате, которые ей были уже просто не интересны; и она тогда еще не испытывала такой пугающей ненависти к себе и одиночества, как это было сейчас.
День вкатился в темноту, во всем здании включили свет. По коридорам забегали мальчишки. Окружающий мир приобрел привычные очертания, с этим шумом пришел, как это ни странно, покой в душу Мириам, для нее сиротство на мгновение стало блаженством. Потом был ужин, разговоры, теплое молоко с пряниками, хихиканье и покатушки. Мириам все разузнала от своей лучшей подруги Ядвиги о поездке по городу, интересной экскурсии, знакомству в творческой мастерской с художниками – и еще узнала о том, что один из этих художников приедет с Эллочкой к ним на мастер-класс и беседу за обедом. Подруга считала, что он за Эллочкой ухлестывает, поэтому и согласился.
Ядвига была девочка десяти лет, въедливая и рациональная. У нее была бабушка, она давно не приезжала и не звонила. Ядвига объясняла это наводнением в бабушкином поселке в горах, и никакие доводы, приводимые Мириам, как, например, «так ведь уже зима» или «твоя бабушка вроде в городе жила», не действовали, скорее, наоборот, Ядвига нашла и использовала всю доказательную базу: отыскала поселок в горах, который все время то накрывает оползнями, то заваливает камнепадом, а потом заливает, и почти ежедневно писала заметки в тетрадке о новом дне своей несчастной труженицы-бабушки, которая занята написанием жалоб в МЧС, писем в газеты о бедственном положении своей деревни и прочим. Ядвига по утрам перед уроками смотрела последние новости в надежде увидеть свою бабушку хоть на телеэкране. Что же касается Мириам, то придумывай все, что хочешь, сочиняй, вырисовывай, твори этих родителей сколько душе угодно – вся палитра перед тобой, выбирай на вкус, – ничегошеньки не было известно, она не знала даже свои настоящие имя и фамилию и точную дату появления на свет.
День рождения придумали ей в приюте, еще в Ингушетии, когда маленькая потерявшаяся девочка оказалась там. Вполне себе обычный день – 22 ноября, ничем не примечательный для Мириам, полуторалетней девочки, но в этот день по телевизору глава Ингушетии сообщил, что в числе основных мероприятий в Центральной мечети Назрани состоится большое празднование Мавлида, а во всех мечетях республики будут читать проповеди о значимости священного месяца раби аль-авваль и о жизни любимого пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует).
Девочка отозвалась на два совершенно разных имени – Маржан и Ама, тогда общим собранием из заведующей, нянечки и проходившей мимо поварихи решено было дать красивое и заграничное имя Мириам, отчество, что было самым естественным, – Мухаммедовна, а фамилию – Мухаммедова. Так порешили и разошлись.
С родителями девочки была связана одна очень неприятная и криминальная история, о чем ни заведующая, ни тем более Мириам ничего знать не могли. Детей из этого детского дома обычно забирали и воспитывали родственники, у Мириам не было никого, и при расформировании учреждения ее отправили в Сыктывкар. Потом география ее перемещений была столь обширна, что названия городов она намеренно не запоминала, а просто называла место нахождения поселком. «Пойдем в поселок», «Была ли ты в поселке?» и т. д. Она не знала, почему ей приходилось все время переезжать, и даже не задавалась этим вопросом. Надо так надо. В душе Мириам были тонкие механизмы, как у маленькой заводной балерины, спрятанной в коробочку, но желающих в них разобраться и услышать редкую мелодию было немного. Пожалуй, здесь, в этом поселке под названием Нижний Новгород, она наконец встретила людей, которым смогла чуть-чуть довериться, раскрыть ворота мира чувств, хотя и постоянно придерживая дверь, а за дверью – свои тайные мысли и недетские знания. Ядвига и Эллочка вошли в ее жизнь вслед за легким ласковым стуком. И теперь кроме рисования, которому она отдавалась всецело в любую свободную минутку, у Мириам появились друзья.
Мастер-класса и встречи с художником Мириам ждала. Она не знала ни его имени, ни фамилии, но была совершенно уверена в его необычном происхождении и великом таланте. Она садилась за компьютер в библиотеке и искала имена ныне живущих в ее поселке мастеров. Она готовилась к первой в своей небольшой еще жизни встрече с художником.
Ночь Мириам провела почти без сна, все время смотрела в потолок, находила трещину и вела свой взгляд по этой линии медленно, не спеша – потом левая, а затем правая стороны уже расширялись самостоятельно, образовывая над ее головой большое темное пятно, притягивающее к себе своей неизвестностью и одновременно отталкивающее своей реалистичной ощутимостью. Под утро Мириам заснула в мечтах.
– Мириам, давай скорее! Хватит смотреть на себя в зеркало, – прибежала Ядвига, схватила Мириам за руку и потащила.
В зале уже все собрались. Четыре парты стояли прижавшись, задирая носы друг перед другом, в ожидании чуда. Дети и взрослые слились в одно большое кольцо вокруг. Прямо напротив Мириам стоял, прислонившись к стене, высокий, полноватый, густо обросший бородой человек неопределенного возраста в большом лиловом свитере грубой вязки. Глаза у него были большие, добрые и всем улыбались. Эллочка стояла посередине зала и что-то вещала. До Мириам дошел наконец звук ее голоса, как будто плотность воздуха в помещении сопротивлялась произносимым Эллочкой словам.
«Мухаммед Рустамович», – повторилось несколько раз.
Мириам ожидала чего угодно, но только не этого.
Она была девочкой сильной и стойкой, но едва удержалась на ногах, больно толкнув Ядвигу локтем. «Это он», – прошептала она на ухо подруге.
«Да он, он», – вернув удар под ребро, брякнула Ядвига.
Мухаммед Рустамович оказался неместным художником, он приехал с персональной выставкой из далекого Дагестана, имел успех у публики, по словам Эллочки, и задержался на несколько дней. Последние сказанные Эллочкой слова до того смутили ее саму, что она, не зная, как выпутаться из этой ситуации, начала раздавать картон и листы бумаги, на столе появились акварель и мягкие беличьи кисточки, принесенные гостем.
Первый раз в своей жизни Мириам не знала, что делать. Перед ней лежали великие драгоценности: огромный лист бумаги и большой набор акварельных красок, о которых она и мечтать не могла. Но притрагиваться к ним ей совсем не хотелось. В ответ на вопрос, почему она не рисует, который задала ей Эллочка, Мириам заплакала. Тогда к ней подошел Мухаммед Рустамович, присел на колени, поднял обеими руками ее лицо, стер большим пальцем плотную соленую слезу размером с большую божью коровку и сказал: «Давай я тебя научу».
Мириам услышала эхо своего голоса: «Вас зовут Мухаммед и вы мой папа? Правда?»
В зале повисла пауза. Что приходило в голову остальным, Мириам не знала и знать не хотела, ее внутреннее «я» кричало и билось о стенки маленького тела: «Правда, правда, правда, правда…»
Взрослые всегда знают, что делать, или кажется, что знают. Совершенно неважно, о чем поведал ей Мухаммед Рустамович, в каких красках он рассказал ей про пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) и чем закончился этот мастер-класс.
Важно только то, что сказала Мириам вечером Ядвиге, обнимая подушку: «Ну еще бы, будет он при всех говорить! Мы с ним встретились глазами, и взгляд его был пронизан нашей общей тайной».
Падал черно-белый снег священного месяца раби аль-авваль.
Дядя Кося
Она собиралась на очередные похороны члена семьи. Обычно ей удавалось одеться быстро и легко, но сегодня все валилось из рук. Она начала с браслета с черными камушками, купленного по случаю в какой-то разорившейся и давно закрытой навсегда лавке. Потом решила, что начать надо с пары черного нижнего белья. Она разглядела себя пристально и в профиль, и анфас, и у нее создалось впечатление, что из одежды этого, пожалуй, достаточно для грядущего мероприятия. Но, улыбнувшись крамольной мысли, она все же пошла перебирать вешалки с черными или почти черными платьями и костюмами. Симпатичное, чернильное, в меру короткое и с открытыми руками платье пришлось ей по вкусу. А с новыми замшевыми сапогами в наряде так и вовсе засветилась какая-то веселая и бодрящая искра. За ней собирался заехать Федор, потому что тетя Лилося не захотела сама садиться за руль и в качестве скорбящей вдовы предпочла спрятаться на заднем сидении Фединого «ровера» – чтоб хотя бы так оторваться от многочисленных знакомых и родственников. Что это все я пишу от третьего лица? Она – это я. Мисс вульгарность и веселость, фея загородных садов и их окрестностей, олимпиада самых неспортивных игр, это я – Виктория.
Дядю Косю никто особенно не любил. В детстве его звали полным именем Константин, но уже в юности прилипло это – Кося и Кося. Чуть только у них забрезжили отношения с тетей Лилей, по-моему, естественно, они смело стали отзываться на Косю и Лилосю. Ну а нам, младшим, приходилось добавлять: дядя Кося и тетя Лилося. Выразительно об их семейном гостеприимстве говорил мой младший брат Леня. Так вот, он всегда утверждал, что когда дядя и тетя приглашают нас на обед с отбивными или мясным пирогом, то за жутким количеством специй мы просто не чувствуем, а они подсовывают нам самую обыкновенную косулю и обычного подстреленного лося, поэтому вкус еды в их доме сильно отличается от устоявшихся представлений о нем. Это, конечно, спорное утверждение, но… как спорить с братом! Это практически невозможно! Он развеет все сомненья в пух и прах – просто отсутствием себя и с ним всякой аргументации, он живо ретируется, и свои возражения ты будешь высказывать уже в пустоту. Если, конечно, больше нет никого рядом с тобой.
Возвращаясь к дяде Косе, необходимо хотя бы ради его памяти описать внешность этого человека в последние 20 лет его земной жизни: маленькая голова с залысинами, пиджак или кардиган – соответственно случаю, очки на кончике носа, глаза, пронизывающие и пилящие собеседника взором почти в упор из-под очков, вечный запах настоек из самых горьких подножных трав, вельветовые брюки сомнительного цвета; не высок и не мал, не худ и не полноват, обычно в сочетании с газетой или книгой, не сгорблен ими, правда, слегка сутул. Хотя постойте, однажды кое-что произошло, и я увидала такую картину, в которой дядя Кося, хоть и ненадолго, но предстал совсем в ином свете. Дядя Кося вприпрыжку, как юнец, бегал по полю с букетом, насобирал он этих полевых трав и вручил моей подруге Карине, которую я привезла к ним на дачу на пленэр. Весь день дядя Кося молодился и был свеж, как русский бублик, выкатившийся из печки, но, как я и ожидала, тетя Лилося не собиралась этого терпеть и, отведя меня в сторонку, попросила забрать Карину, аккуратненько проехать в город, успевая на мосты, и переночевать в своих, привычных нам кроватях. Вот так с тяжелой руки тети Лилоси был остановлен свежий порыв ветра в жизни дяди, и, как знать, может, именно благодаря этой встрече дядя прожил еще несколько прекрасных лет только на одном воспоминании о ней.
Мы почти уже подъехали к кладбищу, но неожиданно Федя остановил машину и сказал, что им с тетей надо со мной поговорить. Я начала сомневаться, в своем ли они уме, так как мы постояли во всех возможных пробках на нашем пути и уже капитально опаздывали на прощание с дядей.
– Вика, только держи себя в руках, – сказал Федя.
– Да держу я, держу, – с вами-то что?
– Деточка, твой дядя просил тебе об этом сообщить до того, как мы с ним все простимся.
За все это время в моей голове промелькнули всякие глупости о наследстве, о погонях, о великом обмане и спрятавшемся бог весть где дяде Косе. Но тетя продолжила:
– Мы это скрывали от тебя, но для твоего же блага. Видишь ли, дядя Кося – твой родной отец, а мать твоя биологическая, – уточнила тетя, – вскоре после родов умерла от передозировки какой-то дряни, и твой дядя, он же папа, не зная, как быть дальше, приехал к твоему папе, он же на самом деле твой дядя, фу ты! Запуталась совсем. Да и ты что-то не очень-то удивлена?
– Если хочешь знать, о чем я сейчас думаю, так вот: вы тут все сошли с ума или я сплю. Может, вы с утра сговорились и напились под шумок, чтобы все нормальные люди не догадались, что вы пьяны и не в своем уме. И, как я подозреваю, давно. А ты, Федя, чей сын?
– Костя так и сказал: скажи ей до похорон, пусть сама делает свой выбор. Возможно, я и не заслуживаю ее прощения.
Я всегда была девочкой впечатлительной, с при бытием плохих новостей я тут же исчезала из виду и творила невообразимые вещи. Что мною руководило, трудно сказать, но угон мотоцикла в седьмом классе и обрезание кос одноклассницам в пятом имели место. Потом я что-то объясняла своим родителям и директору школы, что так красивее и на пике моды и денег за стрижку я с них не возьму, объясняла родителям учениц и папе Альбины, который остался без средства передвижения, – я сначала разбила его мотоцикл, а потом, чтобы замести следы, утопила в Неве. Так вот, что бы я там ни сочиняла и ни объясняла, «как полагается», на самом деле я делала именно то, что хотела, никто меня не путал, и я всегда точно знала, что это мне надо – и надо именно в том момент.
– Вот что я вам, ребята, скажу, – сказала я после некоторого молчания, – дядя Кося и никак иначе (ни папой, ни батюшкой я его называть не буду никогда) не дождется лицезреть меня на его похоронах. Я выхожу прямо здесь, на обочине, посему прощайте. – Я вышла из машины и еще долго махала руками, как будто меня кто-то удерживает, а я сопротивляюсь.
Что я сейчас думаю о своем отказе ехать на прощание? Я правильно поняла дядю Косю, он не хотел меня там видеть, ему было тяжело всю жизнь ходить в «дядях», да и трудно было бы представить, что я из жалости приду с ним прощаться.
Но в тот день я дошла по обочине до ближайшей кафешки, немного выпила для храбрости и угнала мотоцикл у положившего на меня глаз парня.
Отчаяние бабочки
– Послушай, – закричал он, показывая на зеркало, – там собака какая-то!
– Да это ведь ты сам в зеркале! – засмеялся Барбос.
– Как – я? Я ведь здесь, а там другая собака.
Барбос тоже подошел к зеркалу. Бобик увидел его отражение и закричал:
– Ну вот, теперь их уже двое!
Н. Носов
Бабочкой ночной – Психея!
Шепот: «Вы еще не спите?
Я проститься…»
М. Цветаева
Татьяна Григорьевна протянула номерок гардеробщице и буркнула себе под нос: «Вот, возьмите!» Грузная кособокая женщина выхватила жестяной кружок с номером и, медленно переваливаясь с ноги на ногу, побрела между рядами шуб и пальто, пока не пропала в этой одежной тайге.
– Сплю я или не сплю. Ведь так не должно быть на свете, чтобы раз и все!
И сама себе ответила:
– С другими же бывает, чем я лучше? Но вот она я: руки, ноги, голова работает.
В этот момент Татьяна Григорьевна обратила внимание на свои руки. Одна была протянута вперед, словно номерок все еще лежит на ладошке, а вторая чуть приподнята над шерстяной юбкой, ладонь развернута, как на «Сотворении Адама» Микеланджело, словно вопрошает и тут же отвечает: «А вот так, матушка!» Обе руки были белые, как будто их кто-то припудрил, отошел, посмотрел и для верности припудрил еще раз. Эта матовость отличала их от камня, от мрамора, если угодно. Татьяна Григорьевна ужаснулась и отпрянула, но руки последовали за ней и вяло опустились, не найдя себе места в таком положении. Они проникли в карманы клетчатой шерстяной широкой юбки и там бы и оставались, если бы не были вынуждены принять пальто. Холодными пальцами были застегнуты по очереди все пуговицы, потом все еще стройная талия в кашемире была перевязана кушаком и сильно затянута. Бедра вздыбились, подол накренился больше, чем обычно, тело взвыло, но импульс направился совсем в другое место, видимо, хозяйка этого тела, не соответствующего паспортному возрасту, ничего не почувствовала и, повесив белую сумку на плечо, растерянно вышла из медицинского центра.
Обычно улицы полны важного смысла, они существуют и кричат о своей реальности неоновым светом витрин, яркими и пухлыми фонарями, опрыскивающими светом пространство под собой, мелькающими в поворотах фарами темных автомобилей, психоделическими дорожными знаками, рапсодией народных матерных напевов от ее, улицы, прихожан.
Татьяна Григорьевна вышла на улицу как будто в тепло, хотя был морозец. Вечер накрыл медным тазом все пространство слева и справа, впереди была проезжая часть, и она светилась. И Татьяне Григорьевне так захотелось ступить в этот свет и забыть последние часы, так невыносимо вдруг стало на душе. Она было уже понеслась, даже полетела вперед, но вой сирены вдали вернул ее на землю. Она как будто упала с высоты, ступни в ботинках уперлись в землю, и пальцы ног сжали ортопедические стельки.
– Нет, так нельзя. Еще можно что-то сделать! Я поеду в Москву к дочке, поеду в Германию, пусть они посмотрят, пусть скажут, пусть дадут мне шанс. Я еще толком не жила. Работала, работала. А дочь как без меня, а Степашка – кто им поможет достроить дом? Муж ее непутевый?! Да не боже мой. А Степашка, светик мой ясный, ему всего ничего, я тоже имею право все это увидеть! Как растет мой внук, как трава будет расти в будущем году, как одуванчики из желтых станут пуховыми, я хочу это увидеть…
Татьяна Григорьевна кричала на всю улицу. Прохожие не останавливались – они привыкли, что из этого медицинского центра иногда выходят пациенты и в таком виде тоже, и быстро проходили мимо.
– Я должен вам с прискорбием сообщить, будьте мужественны, Татьяна Григорьевна.
– Ну говорите, не тяните! С «прискорбием»… слово-то какое подобрали, ну не умирать же я собралась, в самом деле.
– Ну как вам сказать, я не могу вас обнадеживать, просто не имею права.
– Доктор, я сильная, справлюсь, мне нужна чистая правда, без вымысла и преуменьшений. На работе, даже когда НДС нам налоговая отказывается возвращать, а это на минуточку 50 миллионов, не меньше, я ищу решения и нахожу, не сразу, конечно… ой, зачем я это все говорю, волнуюсь.
– НДС – это хорошо, это правильно… Татьяна Григорьевна, у вас серьезная опухоль мозга, по-научному – глиобластома.
– Глаукома, знаю – это с глазами, – растерянно произнесла Татьяна Григорьевна. Новое слово страшным не казалось.
– Я вам назначил МРТ, потому что мы обследовали все внутренние органы и не нашли причину ваших недомоганий, но я и представить себе не мог, что мы обнаружим. У меня это первый случай, когда опухоль такого размера, а мы вас еще не потеряли, ходите, дышите.
– Ну слава богу, значит, есть решения. Не запугивайте меня, говорите, чем лечить.
– Давайте так: скажу все, что знаю, а выбор за вами. Как правило, эту опухоль обнаруживают в результатах томографии, когда она уже непоправимо велика и содержит сотни миллиардов клеток. Это самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей. Современная медицина пока не в состоянии полностью вылечить ее. Ее клетки крайне устойчивы к препаратам химиотерапии…
Татьяна Григорьевна кивнула. В горле что-то застряло, дыхание замерло. Доктор говорил минут пять, и за это время океанские впадины разверзались перед пациенткой, вставали горные хребты и вновь проваливались в никуда, в ушах звучало то бульканье, то голос врача; горькие приливы горячего пота сменялись дрожью, вдруг она услышала свой детский голос: «Раз, два, чехарда» – и так несколько раз. Очнулась Татьяна Григорьевна на больничной кушетке от ватного шарика с нашатырем, сестра набирала в шприц какую-то жидкость. Она начала отчаянно вспоминать, как сюда попала. Вспомнив и осознав, что это не сон, Татьяна Григорьевна застонала. Укола она не почувствовала.
А в сухом остатке все было просто: жить осталось совсем чуть-чуть, даже не просто мало, а мизер, ничто. До весны не дотянуть. Хорошо, если три месяца. Можно биться: искать тех, кто не откажет в операции, химии и прочем. Но и если биться, она уйдет не за три месяца, а за год, продаст квартиру, которую собиралась оставить дочери, и проживет несколько лишних несчастных, очень несчастных месяцев. «Боже, почему ты оставил меня».
Поздним вечером Татьяна Григорьевна сидела на своей крохотной кухне, подливала себе коньяк и отрешенно смотрела в экран телевизора. Она не понимала, идет ли ток-шоу или глупый сериал – просто смотрела в светящееся пятно. Подруг у нее не было, их всегда заменяли коллеги по работе. Школьные друзья остались в далеком маленьком украинском городе, который она давно сменила на большой российский. По привычке она хотела было позвонить дочери, но ей одной-то было невыносимо ощущать себя лицом к лицу с накатившей бедой, а еще чьих-то причитаний она не выдержит, сломается совсем. И потом – она твердо решила, что квартиру оставит дочери и внуку, а дочь, узнав о болезни, может пытаться настаивать на продаже. На это Татьяна Григорьевна пойти никак не могла.
Головную боль она почувствовала еще год назад, тошнота появилась много позже. Но с ее работой, с постоянным недосыпанием (Татьяна Григорьевна даже иногда ночевала на диванчике в своем кабинете), с нервотрепкой, с недовольством начальства и заместителей можно было не только головную боль получить. Вот она и получила. О жизни вообще думать не хотелось, что о ней думать, если ее, увы, уже не будет. Воспоминаниями она не увлекалась: зачем вспоминать о том, что давно прошло. Да, виновата во многом, но что теперь исправить? В церковь надо пойти, помолиться, авось там помогут. Где «там», Татьяна Григорьевна боялась думать – тот мир представлялся приближающимся к ней ураганом, который сметет и не пожалеет, а дальше – какой-то пустыней. Думать об этом было совсем сложно. Коньяк не помогал, стало еще страшнее, две таблетки снотворного и будильник на 7 утра.
В 8 утра Татьяна Григорьевна по привычке вышла из дома и поплелась на работу, но, дойдя до метро, резко передумала, достала почти разряженный телефон и набрала своего зама. Коротко сообщив ему, что сегодня не придет, она решила пойти куда глаза глядят. Она дошла до соседнего парка. Две старушки проковыляли мимо с палками для модной среди тех, кем ей никогда уже не стать, забавы – скандинавской ходьбы. В какой-то момент она обнаружила, что подсматривает за старостью. Раньше она ее боялась, а теперь завидовала ей. Можно же жить в любом возрасте, главное – жить. Какая разница, как ты выглядишь, если в душе ты молод и полон желаний – выбирай на свой вкус.
В далекой молодости ей нравилось, несмотря на запрет родителей, наблюдать за неформалами. Их в ее городке было раз-два и обчелся, но они были, небольшой компанией они собирались у вокзала, милиция их гоняла. Они одевались в черное, у парней были серьги в ушах, а у одного, самого дерзкого, даже татуировки: какой-то гриб-мухомор и буква «А» – то ли он был фанатом «Алисы», то ли обозначил так свою принадлежность к анархистам.
У Татьяны Григорьевны даже уши были не проколоты. Ей очень хотелось носить серьги, но родители в детстве не отвели куда следует, потом не до этого было, да и боли она очень боялась.
– Лысый, бабка к тебе пришла какая-то не в себе.
– Скоро закончу и выйду. А лучше пусть заходит.
Лысым звали здорового мастера татуировки, который в этот момент работал над усовершенствованием своего правого колена шипами и розами. Они спускались с его, Лысого, бедер – пышный букет обвивал его толстые ноги. В местах над костями, как известно, боль чувствуется намного сильнее, поэтому работа шла медленно. Рисовать Лысый так и не научился, сколько ни пытался.
Даже чтобы скопировать примитивную картинку с сердцем или куполами, ему приходилось попыхтеть. Купил рабочую машинку по случаю и сначала «испортил» своей мазней плечо какого-то отморозка, из-за чего чуть не лишился детородного органа, но потом исправил картинку, полностью забив рисунок черной краской. Среди мастеров он начал славиться этой черной мазней-размазней. К старой кликухе, полученной за бритую голову, добавилась еще одна – так он стал Лысым Малевичем.
Завидев Татьяну Григорьевну, Лысый сперва напрягся – первая мысль была, что пришла бабка той малолетки, которая уговорила набить ей черное жирное сердце на груди. Но тут же успокоился: бабка выглядела безобидной и даже слегка растерянной, да и совсем не бабкой показалась ему Татьяна Григорьевна.
– Я бы хотела татуировку себе на плечо. Мне сказали, что вы сможете мне помочь, вы лучший мастер.
– Здрасте, выбрали уже?
– Ой, простите, я не поздоровалась.
– Бывает. Говорю, что замутим? Рисунок покажите.
– Рисунка нет, но я бы хотела что-то красивое, утонченное, женское.
– Сердце могу или рыбу. Вот женщины сами не знают, что хотят. И вообще, вы уверены, что вам это надо? Дед из дома не выкинет? – Лысый заржал над собственной глупой шуткой.
– Вы правы, и, возможно, все это глупость. Я так зашла, спросить, но в голову ничего не приходит.
– Не мое это дело, но на фига вам татушка?
– Знаете, я и сама толком не понимаю, что ответить, просто знаю, что с ней я проживу чуть дольше. Я больна, и жить мне осталось совсем недолго, но мне кажется, что никогда я ничего так не хотела, как сделать то, что хочется сейчас. Ой, я вас запутала и сама запуталась. А все, что я могу теперь себе позволить, – это проколоть уши, надеть серьги, сделать татуировку на плече. Вроде это так мало и так много для меня. Вы мне поможете?
Все это время Лысый смотрел на Татьяну Григорьевну открыв рот.
– Как вас зовут, молодой человек?
– Павлик.
– Очень приятно. А меня Татьяна Григорьевна.
– Давайте я вам альбомы принесу, и мы вместе выберем что-нибудь красивое.
Татьяне Григорьевне понравилась бабочка, она примерила ее на плечо, ближе к лопатке. Лысый выбор одобрил и сообщил все, что знал о значении этого символа у японцев, а именно то, что бабочка ассоциируется с легкостью, грацией и женственностью. Он понимал, что такую тонкую работу ему не выполнить так же красиво и изящно, как в альбоме, но отказать Татьяне Григорьевне он не смел и принялся за дело…
Ее бабочка несла в себе признаки бессмертия. Она родилась, потом умрет и опять будет жить в другом обличье.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!