Текст книги "Крытый крест. Традиционализм в авангарде"
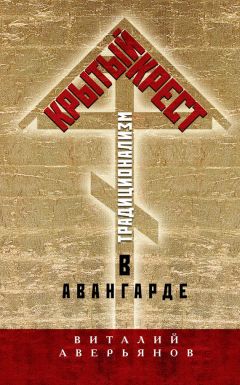
Автор книги: Виталий Аверьянов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Взаимодействие внешнего и внутреннего в поэтическом самопостижении Айзенштадта с неминуемостью приводит к открытию тех законов духовного пространства, которые никак не согласуются с законами пространства тварного. Так, будучи для души Айзенштадта чем-то почти внешним, отдаленным от центра (блуд, смерть, насилие всегда сосредоточиваются как бы «на выходе» из живой души, «жмутся» по ее краям), демонические силы души вместе с тем оказываются внутренним пределом для других, сердцевинных и просветленных ее сил. Эти последние, имея внутренний предел, внешне никак не ограничены – они все раскрыты как для восприятия бытия, так и в самоприложении к нему «Внешнее» души оказывается внутренне свернутым, ограниченным – «внутреннее» же бесконечно. Это еще один знак глубинной религиозности Вениамина Блаженного.
Из основных ритмов-тем светлейшим лейтмотивом в поэзии Айзенштадта стало постоянное воскрешение детства, того мальчишеского края бытия, который питает собою всю жизненную половину поэзии и входит в равновесие со смертью. «Агрессия» детства не встречает себе сопротивления, благодаря чему любой этап своей судьбы поэт характеризует формулой «еще молоко на губах не обсохло». Вечное мальчишество сопровождает немолодого поэта, так что, казалось бы, и воскрешать нечего, но воскрешение происходит на стыке с другими поэтическими гранями:
И напрасно сказал я, что все сожжено,
Если детское иго в душе.
Нему моей вечностью быть суждено,
Даже вехой на том рубеже,
Где дорога за край горизонта видна,
Где так много спешащих гонцов, —
Это детства вдали голубая страна,
Голубая страна мертвецов.
(1985)
За воскрешением умерших матери, отца, брата развертывается и воскрешение всякой детали детского бытия, многих его планов. Персонажем, символизирующим детское воскрешение, стал образ матери. Она неотрывна от сущности того могучего мальчишества, которое держит и преобразует весь душевный мир поэта. И действительно, именно материнское молоко не обсыхает на его губах. Все и во всех тонкостях детство пронизано токами глубокой интимности материнско-сыновних отношений. Казалось бы, сугубо диалогическое звучание темы лишь подчеркивается взаимностью («люблю его больше Бога», – говорит о сыне мать, а он: «В слове «мама» такое счастье, что не снилось оно и Господу!»). Но за этими внешне кощунственными фразами угадывается другая истинность – по ту сторону кощунства и богобоязненности:
Вот так я и жил на греховной земле, —
И горестными ночами
Одна лишь звезда мне светила во мгле —
Звезда материнской печали…
Она окружала меня тишиной,
Она уводила тревоги, —
И вот уже жизни хотелось иной,
Нездешней и звездной дороги…
(1987)
Внимание к собственным родителям является не воплощением опоэтизированного инфантилизма, а распутыванием своего человеческого душевного происхождения (родители даруют нам не только тело, но и самую земную неповторимость нашу, лежащую кирпичами генетики в кладке души). И если мать, таким образом, на полных и естественных правах выступает двойником всего детства, то неподалеку от нее основывает свое царство и отец поэта, «праведная душа», «избранник горя». В наследство от отца было получено немало: традиции того же несения горестей и той же праведности, нестяжательства и христовой кротости. Сам Всевышний, потупив взор, обращается к нему:
Позволь же и мне с сумою
Брести за тобой, как слепцу, —
А ты называйся мною —
Величье тебе к лицу.
(1991)
Этот царственный «Михоэл» в совестливом своем убожестве был евреем не иудаистской, а как будто христианской ориентации – с огромным даром сострадания.
Когда еврею в поле жаль подбитого галчонка,
Ему лавчонка не нужна, зачем ему лавчонка?
(1964)
Христолюбне и зверолюбие вошли почетными членами в семью поэтических тем Айзенштадта. Так был вызван к жизни многочисленный святой народ зверья, звери с евангельской верою, – что не то чтобы взято из самого новозаветного предания, но, если присмотреться, удивительно совпадает с ним, полным внешне жесткого антропологизма, по духу Этим Айзенштадт по-своему воспроизводит, возрождает евангельские традиции; тема звериного как инобожьего и в христианском, и в христологическом смыслах разрабатывается поэтом с уверенной полнотой воодушевления.
В. М. А.: «Айзенштадт – городок в Австрии, значит, предки мои были европейскими евреями, воспринявшими дух христианства. В моей семье было великое почтение ко Христу, совсем не так, как в ортодоксальных еврейских семьях. И для меня истинность этого Равви была непреложной. Никакие философы и мудрецы, которых я читал впоследствии, – никто не заменил мне Христа».
Зверолюбие Айзенштадта (распространяемое, как и все у него, не только на поэзию, но и на реальную повседневную жизнь) можно рассматривать и как пересадку на нашу мировоззренческую почву заповедей восточных культов (например, не убивать животных). Но здесь есть большое отличие: в морали одних народов изначально присутствует то, что другие со временем могут присваивать. Между тем Айзенштадтово зверолюбие по духовной своей форме совершенно не противоречит православным понятиям о благости тварной жизни – напротив, даже является закреплением этих понятий на новых ценностных рубежах. Отсюда столь эстетически прочувствованная и этически выверенная «христианскость» всех этих «резвящихся небылиц». Звери, страдающие от людей, звери, людьми гонимые, презираемые и убиваемые, становятся в мире Айзенштадта не только природными параллелями Христу, но и его духовными воплощениями. Вспоминается не христианское (но крестьянское!) почтение к «зверью» С. Есенина (вообще Айзенштадт на уровне детали частенько перекликается с Есениным). Иначе, по-апостольски и манифестально, как будто он преодолел адамово грехопадение, заявлял о своем отношении к зверям Александр Добролюбов: «Я поднял примиренья знамя, //Я братьями скотов считал», – а в другом месте предлагал живым тварям в честь пасхального торжества «погрузиться в глубокое размышление» («Примирение с землей и зверями»).
Айзенштадту довелось ощутить особенную привязанность к бродячим божьим созданиям, исключительное родство с ними на отшибе людского житья-бытья. Поэтому Господь на своем Престоле однажды изгоняет человеческого апостола, принимая апостола Полкана: «Рад и вправду я, Бог, не людской, а собачьей святыне, // Даже пахнет по-свойски – родное, блажное, лохматое…» (1980).
Итак, давным-давно, когда я спал в сарае
И духом угасал, —
Приснился мне Господь, бредущий за горами, —
Он брел в обличье пса.
Свисала доброта с его косматой шерсти
Лохмотьями репья,
Он брел, но не один – со мною брел он вместе,
Судьбу свою стерпя, —
И был Господь так слаб, глаза слипались болью —
В глазах была тоска, —
И брел я рядом с ним с суровою любовью
Собаки-старика…
(1988)
Можно среди птиц, кошек, псов и разной лесной живности увидеть у Блаженного и много прямо помещенных в контекст святости персонажей. Здесь есть и волк-монах, и монах, подвизающийся в лесном скиту в окружении лесных зверей (прототипы такого подвижника обитают в нашей пустынножительской агиографии). Убиенные звери сопоставляются с убиенными русскими поэтами, и как бы в пику описанным в предыдущей главе покойникам эти мученики называются «мертвецами от Бога». В божьих тварях Айзенштадта открывается некоторая отвлеченная, незвериная истинность, но, кроме того, начало божественного зверя (интересно, что зверем в Апокалипсисе назван Антихрист) не перевешивает начала Богочеловека, происходит общее им «горение»:
– Но разве раны не были святыми? —
Спросили дети. – Разве неспроста
Мы видели и в пламени и в дыме
Святыню сумасшедшего Христа?..
– Да, был и суд, и поздняя расплата,
Горели раны и горела соль,
А боль – она всегда на свете свята,
И нет святее святости, нем боль…
(1990)
Но порою Господь мне дороже животного
В его сирой судьбе, —
Столько горького в нем, столько сиро-беззлобного,
Столько горя и бед…
И бреду я – бреду я за бредом и мукою.
И горит моя грудь…
– О Господь, этот путь не грозит нам разлукою,
Этот жертвенный путь…
(1991)
У Вениамина Блаженного никогда не встретишь четкой иерархии вещей – она текуча и условна. На удивление Богу поэт обещает выучить звезду «на небе лаять по-собачьи», верит во всеобщее бессмертие. Здесь и обнажается неповерхностное христианское мировидение Айзенштадта – это «малые сии» у Господа, слабые существа «меня передадут в Христовы руки, // Под горестные крики торжества…». Такое миссионерство во зверях перерастает собственные рамки и смыкается непосредственно с новозаветными ценностями. Внутри же поэзии Айзенштадта звери объединяются с детьми, царство звериное – со счастливым краем детства, мир матери – с миром отца. Они даже не столько уединяются, сколько по сути являются нераздельными. «Я различья не вижу почти», – говорит в таких случаях Айзенштадт. И посему поэт обращается малой птахой:
Подставлю, Господи, крыло я мамино
Под ветер, а затем крыло отцово —
Ах, мне всего-то и хотелось малого —
В полете видеть песенное слово…
(1985)
В этом наибольшем средоточении светлых сил вырастает вдруг и отталкиваемый антипод этого союза, некое все более напряженное ему противление. С одной стороны, «тот, кто ничего не понимает, – // Ребенок или зверь», который «шествует на воле – // И лижет мир шершавым языком». С другой стороны, «взрослый», общественный, выхолощенный умствованиями и опытом мир человеческого греха. Муравьи, воробьишки, мошки обращаются тогда в хищников, на первый план выходит волчья разновидность зверья, возникают мотивы берлоги.
Буду спать и сопеть, будет сон мне диковинный сниться,
Как двуногие звери меня окружают кольцом.
(1975)
Сумасшедший дом теперь есть социум, взятый уже в биологическом смысле. Но биологическое ли, психическое ли – у Айзенштадта все это всегда является проблемой его собственной судьбы: «Не демон, не дух. // Я всегда лишь умершая псина…» Или:
Называл я себя то Спасителем, то Сатаною,
Но один лишь котенок на Богом забытом дворе
Был воистину мной и пребудет воистину мною, —
Тот, кто робко сидит на дырявом помойном ведре.
(1983)
Это последнее самоотождествление есть на деле «первое», есть возвращение к истоку. Пред взором поэта стелются дороги и тропы – и лапы прежнего котенка эти пути исходят. Бродяжничество, не являясь отдельной темой, является сущностью временного бытия души. Звери у Айзенштадта – дикие, бродячие или по крайней мере бредущие и «забредающие» куда-то. Целый ряд стихотворений посвящен цыганству и цыганам, которые названы «моей чертовой родней». Воспевая «высокую участь поэта-бродяги», Блаженный имеет в виду и собственное прошлое, и образ жизни почитаемого им Велимира Хлебникова, говорившего в свое время: «Поэты должны бродить и петь». Наконец, главный бродяга, первобродяга мира – Спаситель – открывается поэту далеко не в последнюю очередь именно через эту свою ипостась, в которой он
Пел-бродил тропой между колосьями,
Пел и на евангельском листе…
(1990)
Не по вашей земле – я бродил по господнему лугу.
Как двенадцать апостолов, птицы взлетели с куста.
И шепнул мне Господь, как на ухо старинному другу,
Что поет моя мертвая птица на древе креста.
(1967–1991)
Текучесть и размытость той «информации», которую мы получаем из стихов Айзенштадта, не противоречит единой мере ценностей, а как раз подчеркивает широкие и свободные связи, заметные лишь с высоты птичьего полета, непригодные для наземного разглядывания. Так, мобильность поэтова зрения и хаотичность его воспоминаний вызывают, в виде реакции, бродяжничество, но уже не только в буквальном смысле. Все, о чем пишет Айзенштадт, бродит по дорогам его памяти, как «волки с загадочными ликами Христа»:
А кто-то говорит, что он охотник
И держит эту стаю на прицеле…
Но это ведь стенаний моих сотни
Бредут в неутихающей метели.
Не волчьи стаи – дни бредут за днями,
Их тысячи без племени и роду,
И молча издыхают на поляне
Они, себя приведшие к исходу.
(1985)
Бесконечная маета была бы невыносима, если бы не внутреннее ядро посреди душевного хаоса и если б не внешнее пространство бродяжнической судьбы, где этот внутренний покой обретается. Таким образом, внешним пространством судьбы (внутри – маета) оказывается сокровенная глубь души (извне – расплавленный мрак мира).
Само по себе бродяжничество было бы бессмысленно без внешнего пространства судьбы, называемого у Блаженного «простором». Он и является «тайной пути», которая единственно прекрасна, – на просторе душа «буянит» и обретает истинную свободу. Очевидно, душа, выносимая бродягой в метафизический простор, собирается в самой глубине своей, очищается ото всего внешнего, случайного, искаженного. На этой победоносной ступени творчества и веры обретается, должно быть, и сам Айзенштадтов покой. Но о покое говорить рано, пока «на жизнь мою, на честь, // На мир моих высот» устремлены угрожающие «внешние» силы, пока в судьбе самого поэта не исчерпан этот конфликт, замутняющий ясное и потрясающий незыблемое.
В. М. А.: «Одним из толчков к моей болезни послужила смерть Пастернака. В те годы мы безмерно идеализировали его. Моя же любовь увеличивалась добрым отношением ко мне самого Бориса Леонидовича, его огромным личным обаянием. Ведь тогда, при встречах, я слезами обливал его руки, и он понимал, что это мое сердце так расположено к нему.
В эту страшную эпоху стихи были для меня не искусством, они были «человеческим словом». Не издавали Блока, запрещали Есенина, в годы моей молодости ничего не было известно. Строки цитат из агитационных статей против «есенинщины» западали в сердце. Добрый человек подарил мне большую антологию поэзии 20-х годов, – в этой книге тогда была моя религия, поэты были провеяны духом христианства, духом человечности.
Смерть Пастернака лишила опоры. Меня в тот день насильно затащили на футбольный матч, и все было черно – и фигуры, и небо, я плакал бесконечно. Я почувствовал себя страшно одиноким в этом мире.
Были и другие причины. Преследовали на работе, таких, как я, всегда унижают, всегда издеваются над ними… Многое тогда сошлось в одной точке».
Разгадка как богоборческих кощунств разного рода, так и вообще всей подвижности категорий у Айзенштадта – в глубоко душевном характере его творческой жизни. Все, к чему ни прикоснется Айзенштадт, становится душой; и даже то, на что он лишь украдкой посмотрит, заключает в себе потенциальную душевность, пульсирует «сердцем немоты».
Полное чувство простора редко у Айзенштадта, оно для него нечто вроде конечного зияния. Простор открывает выход к духу, где все уже освящено и обожествлено и где разговор о поступательном движении судьбы, собственно, заканчивается. «Темничные тучи» мира и опасность погрязнуть в низших узилищах души отражаются в причудах бредовых ассоциаций (торговля нимбами, Бог-ловчий, которому предлагается сожрать гонимого Его миром бродягу, и многое другое). Можно говорить о том, что этот «бред» метафоричен и с точки зрения социальной весьма заострен: и сатана, и блуд, и смерть у Блаженного практически без исключения коренятся в обыденности и находят себе «реалистические» примеры, – но мы лучше отметим другое: пульсация души (сужение – расширение) лежит в основе ее природы, блуд и плотское самопогружение означают «узость» небес, нехватку полного и трезвого взгляда, кислородное голодание духа. Эти приливы и отливы души поражают даже и не сами по себе, а своим космическим масштабом.
Именно Блаженному удалось, в конце концов, овладеть этой извечной неосознаваемой пульсацией, амбивалентной «тягой» лирической памяти-фантазии, по течению которой так часто устремлялись поэты-индивидуалисты. У Батюшкова такая двойственность выражалась в отношении к мечте, которая «обманчива», но и – «неба дар благой» («Мечта»), у Баратынского данное противоречие формулируется в строке «смешной недуг иль высший дар?» («Рифма»); Тютчев воплощал его в контрасте переживаний дня и ночи («О, вещая душа моя!»); Лермонтов зачастую просто разодран в этом противоречии «желания чудного» души («Ангел») и «мечты души моей больной» («Звезда»). Здесь, вероятно, знак особой близости с Лермонтовым Айзенштадта, у которого трагические взаимоотношения с убывающей душой легли в основу лирического сюжета, порой называемого им «возвращением к душе».
3. Убожество и БожествоО чем в стихах Айзенштадта идет речь – о мировой ли душе или о личной душе поэта, – сказать нельзя. Во всяком случае, когда говорится «моя душа», вовсе не подразумевается «Айзенштадтова душа». Айзенштадт потому и является собой, что уже не является Айзенштадтом. «Я души своей нищая веха», – говорит он. И хотя вся она «не всегда со мной рядом», однако же, если что-то и есть рядом, то это тоже часть души. Просто нередко такая часть способна заслонить остальное. Поэтому, когда самоубийца озирает собственную судьбу, он видит, что —
Ее опасные ущелья,
Ее пути – за ровом ров —
Вдруг превратились в новоселье
Каких-то праздничных миров.
И мертвый смотрит с удивленьем:
Какая дивная земля, —
А он ведь проклял эту землю,
Ушел в загробные поля…
(1985)
Как же при жизни разглядеть эту «дивную землю», за чем она скрывается? Кажется, этим вопросом – улавливанием ускользающей истинности образов бытия – поэты и занимаются. По крайней мере Айзенштадт положил много сил на называние души. «Душа-скиталица» уподобляется у него и валенкам, которые он подшивает на виду у «блатной» ватаги ангелов, и покинувшей ветку тела птице, что «совершила свой певчий полет // И теперь не оставит меня до последней разлуки». Душе можно уподобить лишь то, что является ею самой, или же ее можно постигнуть через гармонию с телом и миром:
Душа цвела – она была собою
В закровеневших язвах и рубцах…
(1976)
В одном из самых красивых по форме стихотворений Вениамин Блаженный, сравнивая себя с «Меджнуном-караваном», изрекает новооткрытый закон: «Когда витию окружает пустошь, // Он постигает искренность шута». Воистину свобода от этой «искренности» и покой от окружающей суетящейся пустоты могут быть обретены в самом изначальном месте, куда надо возвратиться. Проблуждав по каким-то тропам, поэт, наконец, восходит на крыльцо:
Наконец я ступил на родимый порог,
Наконец захожу я в свой дом…
Здесь и мать и отец, здесь и братья и Бог,
Седовласый старик за столом.
Даже кошка, состарившаяся слегка,
Восседает при прежних усах,
Ибо все на земле пребывает века,
Пребывает навек в небесах.
(1985)
Мы ощущаем, какие нити тянутся от поэта ко всем обитателям «своего дома», какое единство, близкое целостности поэтического «я», открывается на последнем, целевом этапе постижения судьбы. Через свою душу поэт обретает бесконечную власть «узревания», «ширь всесветную» (в стихотворении «На высоких горах…» душа признается равновеликой вездесущему всевидящему оку). Тяготясь земной судьбой, он снова обращается к Богу с полукощунствами, но уже другого толка —
Зачем зовется «я» беспомощное тело?..
Когда бы это «я» и вправду было «я»,
Я затопил бы мир душою без предела,
Я стал бы, словно Бог, грозою бытия.
(1987)
«Душа-государыня», преданным рыцарем которой видит себя Айзенштадт, обладает воистину безмерной властью, и, служа ей, поэт готов помериться силами с самим «Господним оком»:
И даже тех, кого не зрел ни разу,
С кем не был связан ни одним мгновеньем,
Я помню по какому-то приказу
Моей души с ее замирным зреньем.
(1991)
И все-таки здесь уже нет противостояния – здесь власть пребывает не на полюсах отношений, а в сосуществовании этих полюсов, в богожизни Отца и Сына, Творца и твари. Эта высшая связь бытия раскрывается в мнимоперевернутой формуле: «Ты не умрешь, ты не погибнешь, Боже, // Пока жива у смертного душа» (1979). Айзенштадт не борется с Богом, он по существу даже не может бороться с Ним:
И я назову себя, Вениамина,
Себя назову я Блаженным,
Затем, что святыня меня истомила
Сияньем своим сокровенным.
Затем, что не сам я бреду по дорогам, —
Бредет и поёт Соглядатай, —
Он вечность увидел, и видел он Бога
В дороге своей незакатной…
(«Вениамин», 1985.)
Бессмертие выступает в стихах Блаженного высшей ценностью, с которой не сравнится даже вожделенный покой. В «классическом» стихотворении «Я поверю, что мертвых хоронят…» читаем:
Я раскрою глаза из могильного темного склепа,
Ах, как дорог ей свет, как по небу душа извелась, —
И струится в глаза мои мертвые вечное небо,
И блуждает на небе огонь моих плачущих глаз…
Можно с уверенностью сказать, что Айзенштадт ориентируется на Бога онтологически, а из этого следует, что все его богоборчество не носит отрицающего характера. Тоска о бессмертии в устах поэта убедительна уже сама по себе, она, можно сказать, «доказывает» существование Бога.
В качестве же части души Бог, хотя и занимает центральное место, способен смещаться – порою частично (в виде эманации или воплощения), порою целиком (в виде метаморфозы-инкарнации или искажения). Но «нормальное», спокойное боговидение заключается в созерцании седого Господа на Престоле (Престол практически всегда означивает благость Бога, Его неискаженность). Разнообразие богопроявления у Айзенштадта довольно богато – не менее богато, чем разнообразие чувств самого поэта к Богу. Бог-старик есть скорее мифологема, чем реальное ощущение Его (ощущение же это всегда неопределенно). Как говорится в стихотворении «Сны», он был «многим – только не собой…»[123]123
Посылка эта, ведущая у В. Блаженного к дальнейшему, весьма оригинальному поэтическому продвижению, в догматической теологии приводила к предпочтению отрицательного («апофатического») метода богопознания: «неведением и невидением узреть и познать Того, Кто превосходит созерцание и познание» (Дионисий Ареопагит), ибо при обнаружении сходств Божества с образами бытия «гораздо больше ускользает» (св. Григорий Богослов).
[Закрыть]. Посему богописание перестает быть священным в смысле сугубо религиозного акта. Бог живой, Бог – Созиждитель мира рисуется в каком-то текучем видении, порой (но за исключением ипостаси Спасителя) доходящем до пародии или до антитезы пародируемому. Эффект от этого возникает, естественно, в тех проекциях, которые пролегают от знака к означаемому, от результата иронического переосмысления, от итога трагического преображения к истоку – некоему подразумеваемому объективированному Божеству. Разные «боги», разные теологические вариации Блаженного все-таки не лишены кощунственного ерничанья, что имеет по крайней мере два объяснения.
Первое из них то, что трагически ли усеченный или иронически перевернутый образ Бога вызывает к жизни новые смыслы (подобно тому, как икона может фигурировать внутри картины) и восполняет совершенно недостаточное без того живописание мира-души у Айзенштадта.
Господь, седой, как лунь, сидел на белом троне,
А я, седой старик, скитался по земле,
Но был и я слезой в святой его короне,
Он помнил о моей бродяжьей колее.
Порою брал Господь, свою корону в руки —
Все так же ли горит и светится слеза, —
И благостно лилось сиянье моей муки
В бездонные, как мир, господние глаза.
(1984)
Если признать, что поэт волен создавать не только псалмы, но петь – что ему угодно и о чем угодно, то останется лишь признать, что эта вольность весьма опасна и поэт, говоря о Боге, берет на себя великую ответственность за слово. Айзенштадт ощущает эту ответственность прежде всего как долг искания.
С тех пор, как я узнал, что Бога нет на свете,
Я стал его искать в любой глухой дыре…
О, как прекрасен Бог во гневе и печали,
Но вижу я не меч – господнюю слезу,
И смотрит на меня печальными очами
Тот, чей сиял мне свет и сверху и внизу…
Все эти мотивы можно было бы признать еретическими, если не учитывать, что у Айзенштадта нет «последней инстанции». Воистину все инстанции промежуточны, поэтому они сами уравновешиваются друг другом, – нельзя опереться на стих: мол, так мыслит Айзенштадт, – его мысль и воля живут в пространстве между стихами. Как глубокомысленны в контексте и как опасны для цитирования такие строки, как «Я Бог и даже больше Бога», или другие, с обращением к Господу, – о своей матери: «С тебя ведь тоже слезы эти спросят, // Старушеские слезы»! Было бы однобоким цитировать только «благочестивые» стихи, хотя даже в самых умеренных из них дает себя знать поэтика вольного поворота слова:
– О, Боже мой, еще я жив в дороге,
В напутствии твоих заветных слов,
Еще я жив не в Дьяволе, а в Боге,
Еще я слышу твой вселенский зов…
И я не сетую, что путь мой долог,
Что не обрел я отческих даров…
О, Боже, – я всего лишь мелкий сколок
Твоих свершений и твоих миров!..
Буквально на соседних страницах этой поэтической тетради возникает реминисценция сумасшедшего дома:
Я просуну сквозь ржавые прутья кулак,
Обитатель темничного дома:
– Это ты, а не я, мой Создатель, дурак
С атрибутами бури и грома…
Впускай меня заперли недруги в дом,
Где не раз исходил я слезами.
Мне не страшен господний карающий гром,
Я еще поборюсь с небесами.
(1991)
Не станем вновь комментировать строки кощунства[124]124
В одном из своих писем автору статьи Айзенштадт говорит: «Мои «кощунства» чаще всего – затаенный смех Вечного Мальчика, любившего в детстве ходить по кромке крыши (если и упаду, то подхватят чьи-то добрые руки и унесут в небо). Мой дьявол – это наше людское несовершенство, а не изъян в творении Господа Бога. Как в оркестре фальшивая нота ранит слух дирижера, и он тревожно стучит палочкой по пюпитру, добиваясь совершенства, так визиты дьявола оставляют для меня открытой дверь в луговой простор Господа Иисуса».
[Закрыть]. Дабы еще раз показать, что мотивы «большебожия» и им подобные условны, можно процитировать не менее условное, по сути дела, «уничтожение» Бога в тесноте душевной боли:
В дыму моих невыдуманных бедствий
Сгорел Господь, и тлели волоса
У ангелов, толпившихся в соседстве…
И был одним из ангелов – я сам.
И был одним из ангелов сам дьявол,
И это он обрек меня Руси,
И я, как зверь, бродил в багряно-алом,
Звериной боли лапу прикусив…
(1966–1990)
Когда Баратынский начинает воплощать поэтичен теорию «мечты», у него получается не просто психологическое судьбописание, но судьбописание вообще – от личных переживаний до апокалиптических картин («последняя судьба всего живого» в «Последней смерти», вознесение над судьбами в «Недоноске»). В отличие от него (и, скажем, Д. Андреева) у Тютчева заметна ориентация на исторические воззрения ветхозаветных пророков. Еще оживленнее та же тенденция проходит сквозь этномифологический традиционализм Клюева, который предварил многие Айзенштадтовы антиномии, но надындивидуалистически, в причастности к истории народа. Ближе всех Айзенштадту напряженная авторефлексия Лермонтова, который занят собой как духовной сущностью и в то же время измучен безответной загадкой земного призвания. Собственно, это та же ориентация на пророков Древнего Израиля. Но знаменитый лермонтовский «Пророк» (это не мистический «шовинизм» Тютчева, это не оптимистически заклинательные пророчества Клюева о воспарении в Царствие Небесное «Руси избяной») особенно близок именно Вениамину Блаженному. «Провозглашение» истин в итоговом стихотворении Лермонтова глубинно сопряжено с гонениями на провозглашающего, бегство же «из городов» предполагает воссоединение с миром земных тварей и звезд. Все это принципиально важно для Лермонтова хотя бы в символическом плане, и все это относится к определяющим свойствам Айзенштадтовой лиры. Широкая ориентация на пророков приводит, в конечном счете, к задействованию традиции Псалтыри (в частности, у Лермонтова – в «Молитвах», у Айзенштадта – в «Молениях»). А у Блаженного мотивы из Псалтыри и пророков уживаются с духом Книги Иова.
Но вот вторым обещанным оправданием псевдокощунств, или, если хотите, кощунств-приемов, является эстетика шутовства, которую Айзенштадт культивирует с небывалой для XX века энергией и убежденностью. Это не какое-нибудь социальное, моральное шутовство, это настоящее мистическое юродство и, как нам представляется, мощный вклад поэта в духовные слои нашего времени.
Не правда ли, многое из предыдущих противоречий объясняется тем, что – согласно одному из «Молений» поэта – «был шутом у Господа у Бога, // Я был шутом, пустившим душу в пляс»? И с достоинством:
Я не только твой шут, я избранник твой, Господи, тоже,
И поскольку моя с сумасшедшей слезою судьба,
Будь со мной подобрее, Господь, будь со мною построже —
Я не только твой шут, я твоя боевая труба.
(1990)
Юродственное богопознание начинается с установления некоей идентичности Господа – себе: «Меня повстречает загадочный вечный Убогий». В Убогом Божестве сливаются ручьи бродяжничества, христианственности, звериности и душевной воли. Как бы ни сгущалась эстетическая условность стихов этого ряда, они несут в себе начало ясности, душевного здоровья, просветленности: «Я отмылся до сути Христовой, // До юродивых светлых морщин…» Вообще стихи ясные составляют в поэзии Айзенштадта несомненное большинство, и отличить их нетрудно, если только не принимать за замутненность духа трезвую иронию или огненный сарказм божьего шута.
Убогий Бог – это вовсе не подобие куртуазного бога из европейских «Видений» XIV века, который «равняется» по автору. Это единственно возможный в эпоху новейшего безбожья Бог – всякий другой Бог мним, неверен, потому что «спрятан». «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом…» (Мф. 5,15), а бродяга не имеет тайника, его тайник – весь мир. Религиозность в душе русского народа сохранялась, как нам представляется, в основном на подсознательном уровне (мы не имеем в виду коммунистических служений, эти массовые ритуалы не вытесняли подсознательной совестливости). У Айзенштадта есть картина и самосознающей народной религиозности:
Я на ранней заре покидаю полати,
Полно спать, надо землю готовить к венцу
И какой-то цветочек оплел мои лапти,
Эти лапти и Господу Богу к лицу…
Он ведь тоже, Господь наш, крестьянского званья
И всегда пребывает в заботе-труде,
Ладит сбрую весною, зимой ладит сани,
Поспевает в лаптях поднебесных везде…
(1990)
«Потешный» Бог у Айзенштадта – это уже не просто очередная вариация на теологическую тему Всевышний как будто охотно подключается к игре своего шута: «Он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет…» Однако делает это Господь украдкой, с небес, чтобы приободрить убогого поэта, – встреча же носит на себе отсвет душевной трагедии, она посмертна:
Ничего не сберег я, Господь, этой горькою ночью,
Все досталось моей непутевой подруге – беде…
Но в лохмотьях души я сберег тебе сердца комочек,
Золотишко мое, то, что я утаил от людей…
Вот и будет вдвоем веселее поэту и Богу…
Что за чудо – поэт, что за чудо – замызганный Бог…
Па кладбище в ночи обнимаются двое убогих,
Не поймешь по приметам, а кто же тут больше убог.
(1976)
Тема безумия тесно спаяна с трагическим мирочувствием поэта – на грани жизни и смерти даже Бог проходит «сумасшедшей походкою». Но в отличие от «ясной» трагедии в «безумных» стихах нет уже отрешенной безмятежности духа – в них ощущается мутация сознания, наплыв безрассудной демонической ярости:
Да, люто восседала потаскуха
И вся была, как ад, огнеопасна,
Но есть соблазны бешеного духа —
Они страшнее плотского соблазна.
Они крушат небесные престолы,
Ничьим святым не кланяясь порогам,
Н дух выходит в ярости веселой
На страшный поединок даже с Богом.
(1987)
В «безумных» стихах, несмотря на их необузданную порывистость, существуют жесткие законы: в частности, как говорилось в первой главе, сумасшествие всегда связывается у Айзенштадта с его демонологией, за которой следует, скажем так, «блудовольство». С другой стороны, в «ясных» стихах богоборчества не бывает, бывает только трагическое иронизирование (в широком смысле слова), иногда имитирующее безумие и безбожие.
А кто же этот бес, бредущий в поднебесье?
О Господи, я в нем узнал свои черты, —
Так, значит, и меня коснулось бремя бесье,
Так, значит, я и сам исчадье темноты?..
Но нет, еще могу я искупаться в луже
И голову венчать дорожным лопухом.
– Я, Господи, других бродяг твоих не хуже,
Расстался я в пути и с бесом, и с грехом.
(1990)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































