Текст книги "Крытый крест. Традиционализм в авангарде"
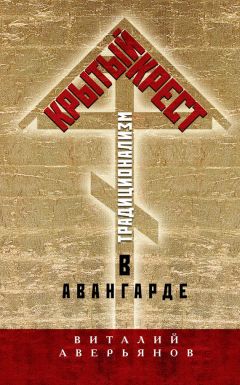
Автор книги: Виталий Аверьянов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Но посмотрев на свои создания со стороны, поэт как будто сам поражается размаху и облику содеянного:
Ах, слова мои, бражники, горе-сермяжники,
даже бойцы-рукопашники,
Я и вправду Емелька Пуган, необузданный норов,
– Или это орда бесноватая мертвых и ряженых,
– Или это один я кружусь на российских просторах?..
(1983)
Высокий риск юродивой игры, опасность, веселящая душу «разбойного» поэта, несет в себе скорее эстетический, чем религиозный смысл. Ведь юродство это есть юродство во Христе, безумие Христа ради, освященное и церковной традицией, хотя Айзенштадт вполне справедливо замечает, что безумец бредет «в стороне от Бога», «от парадных крыл». Юрод (или урод) на Руси был синонимом слова «убогий», этимологически обладатель такого имени признавался за находящегося «у», сбоку от общего народного бытия и в то же время не мыслился в отрыве от него. Уродивый давал возможность народу глядеть на себя со стороны, был чем-то вроде независимого духовного арбитра, неподвластной царю совести. Отсюда и глубокое почитание самых выдающихся из них.
В. Блаженный не углубляется в историческую традицию, а исходит из собственных реалий. Его авторское «я» приблизительно к началу 80-х годов замыкается в цепочке «юрод – пес – шут», хотя по отдельности мотивы эти у него изначальны. Тогда же разрабатывается с новой силой оппозиция «я – Бог», решение ключевых «богословских» исканий Айзенштадта становится неотделимым от решения проблемы убожества. Если убог = урод, то по-своему равны Бог и Род. Это действительно так в том смысле, что сотворение и порождение в языковом сознании тесно перекрещены – Бог есть Начало Порождающее. Уродивый – это какой-то особый, ни на кого не похожий сынок у Бога, и с Богом у него, должно быть, свои, личные счеты. Эта мысль принадлежит не только Айзенштадту – четыре и более веков тому назад таково было сознание русского человека.
Как бы по житийным законам поэтика отрывается от насущной для нее земной жизни, но мстит за это причудами смыслообразования. Происходит посягновение на ослепительную и неприступную Господнюю обитель, – так проклевывается и разрастается «окольный» язык юродства.
Когда Вениамин Блаженный обращается к Богу, он говорит Ему о чем-то своем, и не дело земного ума оценивать эти речи. В XV веке их слушали и старались разгадать (хотя за глаза убогих и называли «пахабами» – уважение перемешивалось с отчуждением). В веке XX их вовсе не слушают, но пытаются заклеймить потерявшего рассудок поэта:
Его и дьявол в ад с собою брать не хочет,
На черта сатане подобное добро,
А он-то, блудодей, о святости хлопочет —
Пускай его Господь повесит за ребро…
(1987)
Такие перипетии проходит гонимый лермонтовский пророк в лироэпическом опыте Айзенштадта. И когда юрод прикидывается в самоуничижении дурачком, когда и впрямь безумен, когда издевается, а когда посмеивается над собой, – рассудку приземленному распутывать и мудрено, и незачем. XX век для «божьего шута», пожалуй, наихудшее пристанище, но и неповторимое, ни в коем случае не сводящееся к средневековым своим аналогам (атмосфере юродства Руси, Византии или же западной «святости» в духе Франциска Ассизского).
В. М. А.: «Пророк, поэт – это ведь нераздельно, и со времен Пушкина нераздельность эта даже неоспорима.
Конечно, не каждый поэт – пророк, но я ведь и не настоящий пророк, и не в полном смысле слова поэт. Я – Блаженный, а это какая-то живая ступень, живая перекладина, проходящая сквозь век духовного мрака. Блаженный – это не псевдоним, а имя некоей сущности, некоей частицы вечности жизни…
У Толстого есть фраза: «Юродство – лучшая школа добра». В этом духе я и мыслил себя уже начиная с 40-х годов. Самоуничижение паче гордости – это был путь к внутренней ценности в кровавой и безумствующей вселенной».
О своей национальности и ее генетических грехах (древние юродивые, к слову, часто были обрусевшими инородцами) Айзенштадт скажет:
Не спрашивайте, я еврей ли, не еврей ли,
Я – тот, кто возлюбил земную красоту',
Но было суждено мне жить в такое время,
Когда и красота пошла на корм скоту.
Но вы-то знали толк в кровавой этой каше!..
И все же говорю я вам как на духу:
Стези мои – они господние, не ваши,
Причастен я лишь был к небесному греху.
(1990)
Как видим, это есть царственная национальность, национальность убожества (свойство вполне этническое, если бы юродивых собрать вместе).
Где же хоромы?.. А это и были хоромы.
Где-то на свалке сидел я с державным лицом,
И сквозь меня проходили, как лошади, громы… —
Был я царем и гордился царевым венцом.
(1968–1990)
В юродивом имени «Блаженный» для Айзенштадта соединяются и юродство, и убожество, и религиозный дух, и какая-то необъяснимая закономерность судьбы:
Я – человек монашеской свечи, —
Я вижу одинокий свет ночами
И тихих звезд движение в ночи,
Как братьев во спасенье со свечами.
И вижу я звезду, которой нет,
Она погасла при моем рожденьи,
Вот отчего я называл «Блаженный»
Себя – рожденный смертию поэт…
(1985)
Я случайно нарушил порядок вселенной,
И пошла обо мне никудышная слава, —
Ведь когда говорил мне Всевышний «налево»,
Я сбивался с ноги и бросался направо.
(1987)
…Он и сам был звездою, однажды сгоревшей,
Только слабая искорка где-то дрожала.
Где-то в теле дрожала, в душе и во вздохе. —
Нет, он все-таки был человеком счастливым,
Подбирал он господние жалкие крохи,
Был в согласье с судьбою и слыл юродивым.
(1990)
Казалось бы, в поэтическом безумии Айзенштадта есть мотив, не подпадающий под рассматриваемые ранее категории: это и не юродство, и не смутоносное бешенство, и не трагическая ирония, а какое-то просветленное сумасбродство («Сойти с ума – сойти с крыльца тюремного…»). Как в стихотворении «Вечный мальчик»:
И последнее – всех откровений верней,
Я и вправду лишен был земного рассудка,
И я счастлив всегда был в сумятице дней,
И беспечен, как чья-то досужая шутка.
(1986)
Природа этого «телячьего» сумасшествия далека от прежних тяжелых и темных безумий: это поэтизация творческого восторга, поэтизация отрыва от обыденного. Посему здесь есть элемент своеобразной иронической игры: иронизируется понятие «земного рассудка». Именно рядом с таким рассудком поэт и ощущает себя безумным, именно в уходе от этого рассудка и его губительных законов – поэт и счастлив, и свободен.
Не менее идиллическое разрешение находит и тема «смертеборчества» – умиротворенную и ясную картину смерти мы встречаем в стихах, с позволения сказать, «смертелюбческих», где эта героиня лирики рассматривается как необходимое благо. Благостность смерти всегда связана с ощущением бессмертия, с ощущением легкости и беспечальности сего переходного состояния бытия (смерть «всегда лишь сон» или даже «смерть – это птица на взлете»).
Зрелый Айзенштадт, «перебесившийся», переболевший многими болезнями и страхами, приобретает особое достоинство, идущее из юродства, из осознания уже и высшего долга, и духовных завоеваний, требовавших стойкости и воли. Это чудом произродившийся и уцелевший поэт-юрод. Но в своих фантазиях он не уготовил себе рая, в рай он придет с той же «волчьей повадкою», хотя никого и «не тронул укусом», – а если Господь будет не таким, каким быть должен, то уйдет «и из неба», уйдет в свой простор («Стихи ухода»).
Достоинство и суровое счастье поэта сквозят и в стихотворении «Разве я виноват…», где описывается чудесное превращение «неведомой» ему энергии в осознаваемый Божий дар. Это у Блаженного свой вариант «Пророка»:
Да, нездешняя сила меня сотрясала, как дрожь,
Диктовала стихи, беспризорные строчки-страницы…
И гремели тревожные громы: – От нас не уйдешь,
Ты от нас не уйдешь, – говорили мне звери и птицы.
И тогда я увидел на клювах у птиц имена,
И тогда я увидел, что звери смеются и плачут,
И я понял, что мне чудотворная сила дана —
Заливаться в лесу соловьем или выть по-собачьи.
И утихли все бури, пришли в равновесье весы,
Убывает и сходит на нет моя долгая мука,
И я счастлив теперь, что я неба ничейного сын
И меня языком облизала безродная сука.
(1990)
80-е годы для Айзенштадта – годы интенсивного поэтического труда. Это уже не былой бродяга, ловящий в дорожном воздухе свои вдохновения, это – поэт с самосознанием творца, с самосознанием чудотворца, который служит юродом и боевой трубой, служит Христу строительством своей «церкви-теремка»:
Я худо жил в миру, краюха хлеба с солью
Худые ублажала телеса,
Ио все, что было сном, но все, что было болью,
Вознеся, как святыню, в небеса.
(1985)
Творчество Айзенштадта и впрямь подобно церкви: человеку верующему здесь пристало молиться. Как и полагается, в росписях церкви есть и диавол, и соблазны, и грехопадение, есть и святость, и Спаситель, и Отец, и Утешитель. Церковь сия необычна, росписи ее могут поразить своей пестротою и парадоксальностью образов. Найдутся и такие, кто увидит в этих росписях много лишнего, опасного, слишком сложного и чересчур самонадеянного. Но, как говорится в одном из стихотворений, «эти слухи пришли не от Бога».
– Хорошо, – говорю Сатане я, —
Но известно ли вам, остряку,
Что могу я и землю, и небо
Заточить в золотую строку?..
Что у словами на воле играя,
Я могу над землей барыша
Поселить себя в области рая,
Где моя возликует душа?..
…Не найти вам такого, как я, вот,
Заклинателя слов – посему
Мне не страшен ни Бог и ни Дьявол, —
Я владыка в своем терему…
(1990)
И это, конечно, не вызов добру и злу «со стороны», это уже уверенность творца, знающего себе цену, ведающего свою величину, свой вес на мировых весах: «….Я уже давно шагнул за тот предел, // Где, лапти развязав, сидят и дремлют боги…». Если взять всю поэзию Айзенштадта в целом, то ее можно представить в виде величественного «жития Вениамина Блаженного, написанного им самим», жития в стихах, жития непоследовательного, но подробного и полного.
Обнажаемая глубина Модильяни[125]125
Статья напечатана в газете «Книжное обозрение», 1995, № 41.
[Закрыть]
Модильяни – один из наиболее загадочных художников «парижской школы». Не вписавшись ни в какую конкретную группу или течение нового искусства, он заставляет подозревать о какой-то личностной тайне, художественно-мировоззренческом секрете, который позволил ему однозначно заявить своеобразное видение вещей, очень современное и в то же время уводящее из его времени в иную глубину Вряд ли кто-нибудь даст четкий ответ, было ли творчество Модильяни и его судьба пародией на эту глубину, которую он искал в облике человека, или же сквозь пародию прошла энергия несомненной жизненной правды.
Судьба и творчество Амедео Модильяни (1884–1920) в России известны в первую очередь благодаря книге искусствоведа В.Я. Виленкина, третье издание которой предпринято издательством «Республика». Текст книги в сочетании с богатством цветного иллюстративного ряда (более 90 репродукций и фотографий) восполняет серьезную недостачу русского художественного контекста, особенно если учесть, что наследие Модильяни в отечественных музеях никак не представлено.
За свою короткую творческую жизнь в Париже, куда Модильяни перебирается из родной Италии в 1906 году, художник все более укрепляется во владении самобытным языком живописи, в неповторимой стилистике, которая, как и все молодое искусство того времени, отталкивается от опыта постимпрессионизма и неоимпрессионизма. Для раннего Модильяни это в первую очередь П. Сезанн и В. Ван Гог, хотя уже в самом начале он удивляет коллег нежеланием следовать определяющим принципам признанных мастеров. Самому Модильяни так и не суждено было вкусить признания – притом, что оно не замедлило нагрянуть тут же после его смерти. Это обстоятельство обрекло его на рваную траекторию жизни, жизни «бездомного бродяги», полунищего подвижника, никогда не отступавшего с пути бескомпромиссного искусства.
Виленкин, обрабатывая огромный фактический материал, не обходит и острых углов, говорит, в частности, о «парадоксе силы и слабости» художника, состоявшем в его пристрастии к алкоголю и гашишу. Многие биографы на Западе долгое время раздували в связи с этим легенду о «проклятом художнике», буяне и пьянице, чей гений пробуждался под воздействием «дьявола гашиша». Виленкин прямо противоположен в оценке причины творческих достижений Модильяни – в основе успеха, по его мнению, была заложена не наркотическая деградация, а сознательный упорнейший труд. Тем не менее, нельзя отрицать того, что неупорядоченность жизни была для Модильяни – необходимым и неизбежным источником творческих озарений, и если он мог отказаться на время от вина и наркотиков, то этой неупорядоченности он ни за что не изменял. А.А. Ахматова, одна из главных вдохновительниц Виленкина в его исследовательском труде, вспоминала о своем парижском друге: «Будущее, которое, как известно, бросает свою тень перед тем, как войти, стучало в окно… И все же божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак».
В Париже художник варится в котле многонациональной и многостилевой творческой жизни. Несколько лет он обитает в «Улье», общежитии, которое Луначарский назвал «огромным коллективным гнездом художников». В эти предвоенные годы там жили такие выходцы из России, как Ларионов и Шагал. Искусство нового века не стояло на месте, образовывались новые течения, но Модильяни сохранил приверженность каким-то, не определяемым в слове, явственным в линии и цвете внутренним началам творчества – и, как следствие, не подписывал манифестов кубистов и фовистов. Вместе с тем, если говорить о техническом и пластическом родстве художественных систем, то, как представляется мне, произведения Модильяни более сопоставимы с полотнами близких фовизму и раннему кубизму художников (например, молодого А. Дерена), чем столпов постимпрессионизма.
На самом же деле, пересекаясь в чем-то с новыми экспериментаторами, Модильяни уходил все глубже в своеобразие собственного стиля, сохраняя потенциал художественного метода Сезанна, цветовых и пространственных открытий Сера и Синьяка. Среди записок Модильяни сохранилось такое характерное высказывание: «Поостережемся углубляться в подпочву бессознательного; это уже пытались делать Кандинский, Пикабиа и другие. Организовать хаос… Чем дальше копаешь, тем больше впадаешь в нечто бесформенное. Попробуем организовать форму, сохраняя равновесие между пропастями и солнцем». Странно, но факт: Модильяни, этот саморазрушитель, этот «скорпион» собственной судьбы, в творчестве действительно удерживает некоторое равновесие, не превращаясь в «слишком» современного, не рассыпаясь в порывах абстрагирующего реальность духа, свойственных кубизму, дадаизму, сюрреализму.
Уже с самых ранних этюдов «скульптурных рисунков», плоскостных скульптур Модильяни ухватывает основную жанровую характеристику своего творчества – портретность. Многие мемуаристы поражались тому портретному сходству, той узнаваемости модели, которое впоследствии выявлялось на практике. Модильяни удавалось достигать этого эффекта при «искажении» перспектив линейного очертания, хотя, с другой стороны, не каждый человек мог стать его моделью. Модильяни сам выбирал предмет изображения. По мысли Виленкина, художник в своих полуимпровизациях синтезировал личность, вскрывал внутреннюю драму души человека, будучи чем-то вроде Моцарта и Достоевского в одном лице, «психологом, но совсем не бытописателем».
Книга русского искусствоведа и педагога отнюдь небезынтересна сама по себе. Автор проводит искреннюю апологию нового искусства перед академическим консерватизмом. Он не только сам «вжился» в чужой художественный язык, к чему он призывает и читателя, но и передал в слове полноту собственной завороженности картинами Модильяни. Магия образа художника для Виленкина сопоставима с высшими достижениями мировой живописи: «У меня нет чувства разрыва или несоизмеримости; я снова во власти чудотворства «несравненного» искусства, чудотворства извечного, вневременного и внемасштабного».
Ценители Модильяни всегда особо отмечали ряд жемчужин его творчества, выполненных в русле французской традиции обнаженной натуры. По мысли Виленкина, обнаженная натура у зрелого Модильяни есть развитие его портретного мастерства: «Его ню – это тоже почти всегда и характер, и судьба, и неповторимость душевного склада, только все это еще глубже запрятано, чем у его моделей, одетых в платье». От себя могу добавить, что Модильяни живописует в своих ню мир не разврата, а интима, его занимает в женщине начало личностно-человеческого родства с созерцателем-мужчиной, а не их отчужденность.
Даже на основе репродукций трудно не вынести впечатления, что Модильяни исследует не «внешний вид», а «облик» человека, не его поверхность, а его одухотворенную явленность в определенные моменты судьбы. «Человеческое лицо, – записал в 1919 году художник, – наивысшее создание природы». Однако на его картинах не только и не столько лицо, сколько все человеческое тело, одетое или обнаженное, стремится представить собою «сгусток» данной личности. Удается или не удается это художнику – вопрос вряд ли разрешаемый, однако явный сдвиг искусства от идеала «похожести» к идеалу «откровения» говорит сам за себя.
И это обостряется в последний и наиболее бурный период творчества Модильяни, когда он писал в Ницце и Париже. Для меня в этот период особо значимыми кажутся уже не столько ню, сколько порог чего-то уже действительно беспримерного для начала XX века – ряд схематически-символических портретов, в том числе портретов супруги художника, в которых, вероятно, отразилось неразрывное единство трагической судьбы Жанны и Амедео накануне смерти одного и гибели другой. Уже несколько лет Модильяни в ряде произведений отказывается от детализации глаз на портрете – однако, без зрачков выражение лица не разрушается, смысл «взгляда» человека сохраняется, только глядит и говорит уже весь, человек, его поза, цвет, глубина, все то, через что душа является в этот мир («Эльмира» из музея в Берне). Последний же портрет супруги («Жанна Эбютерн» из частной коллекции в Лос-Анджелесе) концентрирует предсмертное стремление художника дать на холсте какую-то чистую сущность человека и его судьбы. Такие вещи позднего Модильяни сближают его, пусть только на уровне настроения и пластического звучания, с традицией средневекового символизма, иконописью. Данный мотив – не случайная «оговорка» художника-модерниста, это итог его таинственных поисков, не осознаваемое им самим прозрение в тайну жизни и смерти, в их обнажаемую глубину.
Велимир Хлебников: традиционализм в авангарде
ПредисловиеДанный очерк является одновременно авторефератом и автокомментарием к одноименной, но более обширной работе. Я пытался удовлетворить потребность в целостном очерке хлебниковской системы. Не литературоведение, а философия литературного явления – таков определяющий ракурс видения проблем. Это важно в поэтических случаях, подобных хлебниковскому, поскольку здесь особенно ощутим и не подлежит игнорированию творческий синкретизм художественного и мировоззренческого начал. Формула «философия литературы» позволяет избегать узости литературоведческой, филологической, лингвистической методологии и привлекать самый широкий культурологический материал.
В науке неоднократно указывалось на параллели Хлебникову как внутри авангарда (с В. Маяковским, А. Введенским, Л. Филоновым, В. Кандинским, С. Дали), так и за его пределами, как в искусстве, так и в философии (с К. Леонтьевым, Н. Федоровым, П. Флоренским, М. Хайдеггером, Тейяр де Шарденом, структуралистами). Задача данной работы – дать внутренний облик хлебниковского творчества – связана с тем, что гений Хлебникова, взятый в его широте, остается, в сущности, одиноким в мировой культуре. [126]126
Работа опубликована в альманахе «Волшебная гора», V, 1996.
[Закрыть]
Как ни странно, уникальность Хлебникова растворяется не столько в сопоставлении с современниками, сколько на фоне «больших» мировых традиций.
I. О велимироведенииНаука о Хлебникове – одна из наиболее богатых областей в исследовании русского авангарда. Существует ряд убедительных биографических и лингвистических версий хлебниковского творчества. В последние десятилетия получены серьезные результаты в изучении его словотворческого аспекта. Предпринимаются решительные попытки найти ключевые решения и для всех остальных аспектов велимироведения. Вместе с тем в этой, наиболее молодой генерации ученых последних десятилетий удивляет несоответствие между подразумеваемым в большинстве работ пониманием многослойной творческой вселенной Хлебникова и практическим отсутствием попыток дать всесторонний очерк такого целостного понимания. Исключение представляет разве что монография Р.В. Дуганова, в которой закладываются первые основания для трактовки, в какой-то мере удовлетворяющей потребность в широкой реконструкции художественного и теоретического миропонимания поэта[127]127
В диссертации В.Г. Вестстейна, где блестяще разрабатывается словотворческий аспект, а также много внимания уделяется литературному контексту творчества поэта, подобная работа не проделывается – мировоззрение Хлебникова теряет многое из своей специфики в связи с рассмотрением его через призму традиционного литературоведения. Можно собрать вместе многочисленные статьи X. Барана, но получится опять же мозаичное, а не целостное воссоздание.
[Закрыть]. Эта неуравновешенность велимироведения симптоматична для XX века. Ученые боятся пробелов в реконструкции. Но ведь сами пробелы говорят сознанию не меньше, чем порою до бессмысленности тщательные изыскания в конкретных поэтических случаях.
«Сконцентрировавшись на деревьях индивидуальных образов, – самокритично пишет об этом X. Баран, – мы потеряли из виду лес целостной хлебниковской системы».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































