Читать книгу "История зарубежной журналистики. У истоков журналистики"
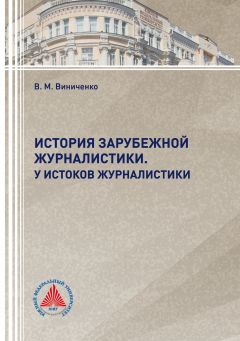
Автор книги: Виталий Виниченко
Жанр: Учебная литература, Детские книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
Пражурналистские явления античности и средневековья
Итак, мы упомянули о том, что существует два лагеря исследователей журналистики: одни, подобно Д. Хартли и
М. Шадсону, считают её продуктом современности, чья история насчитывает в лучшем случае две-три сотни лет, а другие, как М. Стефенс, полагают, что её корни уходят глубоко в прошлое, ко временам Античности, а возможно, и дальше.
Но что именно в эпоху Античности следует рассматривать в качестве пражурналистских явлений? Существует несколько ответов на этот вопрос.
«Сами журналисты склонны отодвигать дату рождения своей профессии как можно дальше в прошлое, – утверждает в одной из своих работ Ж. Челаби, – и журналисты, переквалифицировавшиеся в историков, часто приводят римские Acta Diurna, ежедневные отчёты о политической жизни, записанные на стенах Форума, как первый пример журналистики» [70, р. 1]. Это саркастическое замечание является наглядным примером разногласия двух «интерпретационных сообществ» в журналистике, самих журналистов и её исследователей. Тем не менее в замечании Челаби содержится известная доля правды. Так, в одном из учебников, изданных при поддержке ЮНЕСКО, утверждается: «История современной журналистики уходит в прошлое по меньшей мере ко временам античного Рима. Город обладал всеми компонентами для создания современной медиасистемы: высоким уровнем грамотности и обширной потенциальной аудиторией, испытывавшей значительный интерес к текущим событиям и располагавшей досугом для чтения. Acta Diurna Populi Romani (Ежедневные свершения римского народа) представляли собой рукописный отчёт о новостях империи» [96, р. 91].
Наконец, нам никуда не деться от того факта, что к латинскому прилагательному «diurnal», т. е. «ежедневный», восходят своими корнями английские слова «journal» и «journalism».
Причина «исторической близорукости» исследователей, подобных Ж. Челаби и Д. Хартли, заключается в том, что они склонны отождествлять журналистику с газетами, – полагает австралийский исследователь К. Уиндшул. По его собственному мнению, «истоки журналистики лежат там же, где лежат истоки истории». В качестве подтверждения тому он указывает на «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида, которая, по его мнению, представляет собой «не описание событий прошлого, а, скорее, текущие комментарии о ходе войны по мере её развития». «Фукидид заслуживает признания не только как первый историк, но и как первый журналист, – настаивает Уиндшул, – а его “История Пелопонесской войны” – как произведение, заложившее фундамент традиции, из которой выросло содержание современных газет и журналов» [133, р. 52].
Наконец, ещё одна точка зрения предполагает, что журналистика является закономерным порождением демократии как формы государственного устройства, а потому истоки первой должны лежать там же, где и второй: «И журналистика, и демократия возникли в античной Греции. Обе оказались неразрывно связаны», – утверждает австралийский автор С. Лэмбл [98, р. 4]. В соответствии с этим взглядом, «главное предназначение журналистики заключается в том, чтобы обеспечивать граждан информацией, необходимой, чтобы они могли оставаться свободными и осуществлять процесс самоуправления» [115, р. 12]. И хотя существование подобной связи порой оспаривается, как это делает соотечественница С. Лэмбла Б. Джозефи, полагающая, что для журналистики важна не демократия как форма политического устройства, а свобода выражения и определённая степень профессиональной автономии сотрудников СМИ [94], вопрос о взаимосвязи журналистики и демократии, несомненно, заслуживает пристального рассмотрения.
«Афинская демократия не была самой первой в греческом мире, – пишет И. Е. Суриков. – …Однако именно демократия, сложившаяся в Афинах классической эпохи, стала, во-первых, самой развитой, сильной и яркой во всей античной истории, во-вторых, наиболее стабильной и долговечной, а не эфемерной, как демократии периода архаики (она просуществовала почти два столетия), в-третьих, оказала, бесспорно, наибольшее влияние на всю последующую историю человечества. Многие ключевые категории (хотя, естественно, отнюдь не все), выработанные афинской демократией, легли в основу устройства современных демократических государств» [46, с. 7—28].
Одним из наиболее важных отличий афинской демократии от современных было то, что она являлась прямой, а не представительной, и её высшей властью выступало общее собрание граждан, а не какой-либо выборный орган, подобный парламенту. Кроме того, большинство выборных должностей в Афинах (за исключением тех, что были связаны с ведением войн и управлением финансами) замещались по жребию[4]4
При этом исполнение подобных должностей оплачивалось, благодаря чему их могли занимать не только состоятельные люди, как в олигархических государствах. Вместе с тем это сделало демократию довольно дорогостоящей вещью, позволить себе которую Афины могли благодаря форосу, т. е. военному налогу, поступавшему от союзников по Делосской симмахии.
[Закрыть], в силу чего, как справедливо отмечает И. Е. Суриков, это была «демократия непрофессионалов» [там же, с. 38].
«Древность не знала представительной системы правления, власть в государстве принадлежала только тем членам правящего сословия, которые являлись в сенат, и только тем гражданам, которые толпились на площади народного собрания; и, обращаясь к ним лично, хороший оратор одной выразительной речью мог решающим образом повлиять на государственную политику», – писал известный российский литературовед М. Л. Гаспаров [12, с. 7]. Эта особенность античных демократий привела к превращению ораторского искусства в необходимый элемент всей государственной системы и, в свою очередь, к появлению софистов – группы странствующих учителей, обучавших молодых людей тому, как добиться успеха в обществе. Средством для этого выступала риторика – искусство говорить красиво и убедительно.
Софистика, утверждает М. Л. Гаспаров, «была духовным детищем демократии. Демократическим было прежде всего само предложение научить любого желающего всем доступным знаниям и этим сделать его совершенным человеком – предложение, которым больше всего привлекали к себе внимание софисты» [там же, с. 9]. Другим проявлением демократического характера софистики, по его мнению, становится признание относительного характера истины. «Человек есть мера всех вещей, тех, которые есть, – что они есть, тех, которых нет, – что их нет», – утверждал Протагор из Абдеры, а следовательно, каждый вправе иметь своё мнение о любом предмете, и оно имеет столько же прав на существование, как и любое другое. В подобной ситуации нельзя утверждать, что одно из них является более истинным, можно лишь признать, что одно мнение убедительнее другого. Обучением тому, как представить своё мнение наиболее убедительным, и занимались софисты.
Тремя основными разновидностями красноречия, выделившимися в период Античности, выступали: совещательное (симбулевтическое), торжественное (эпидейктическое) и судебное.
Судебные речи являлись наиболее распространённым и приземлённым видом красноречия. Создание суда присяжных – гелиэи – стало важной частью реформ отца-основателя афинской демократии Солона. Закон предусматривал, что любой житель города должен лично отстаивать свою позицию в суде, что закономерно привело к появлению логографов – людей, занимавшихся составлением судебных речей на заказ. Это было не слишком почитаемым, зато доходным занятием, которому отдали должное многие видные ораторы древности, включая Цицерона и Демосфена. Последний даже сумел вернуть себе таким образом состояние, расхищенное недобросовестными опекунами.
Одним из наиболее известных афинских логографов считается Лисий, мастерство которого, по свидетельству историка античной литературы И. М. Тройского, заключалось в умении создать у суда благоприятное впечатление о личности говорящего, представить её в наиболее выгодном свете, сохраняя при этом всю её жизненность и естественность. Но при этом данный портрет мог быть очень далёким от действительности [49, с. 176], что становится одной из причин критического отношения к риторике со стороны Сократа. В одном из диалогов Платона он говорит, обращаясь к своему собеседнику: «В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобии, на чём должен сосредоточить своё внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор изо всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной. Провести это через всю речь – вот в чём и будет состоять всё искусство» [39, с. 463].
Это критическое замечание, вложенное Платоном в уста своего учителя, является лишь одним из проявлений глубинного конфликта между софистикой и философией, закономерно вытекавшим из релятивистского подхода софистов к истине.
Риторика представляется Платону дисциплиной, лишённой собственного содержания, которой он отказывает даже в праве называться искусством: «Искусством я его не признаю – это всего лишь сноровка, – ибо, предлагая свои советы, оно не в силах разумно определить природу того, что само же предлагает, а значит, не может назвать причину каждого из своих [действий]» [40, с. 287]. Он считает её лишь «призраком одной из частей государственного искусства» [там же, с. 286], угодничеством, которое «прикидывается тем искусством, за которым укрылось, но о высшем благе нисколько не думает» [там же, с. 287].
Будь это иначе, главной задачей риторики стало бы «познать истину относительно любой вещи, о которой говоришь или пишешь; суметь определить все соответственно с этой истиной, а дав определение, знать, как дальше подразделить это на виды, вплоть до того, что не поддаётся делению. Природу души надо рассматривать точно так же, отыскивая вид речи, соответствующий каждому природному складу, и таким образом строить и упорядочивать свою речь; к сложной душе надо обращаться со сложными, разнообразными речами, а к простой душе – с простыми. Без этого невозможно искусно, насколько это позволяет природа, овладеть всем родом речей – ни теми, что предназначены учить, ни теми – что убеждать» [39, с. 468].
Как утверждает М. Л. Гаспаров, выступление Платона против риторики становится высшей точкой в противостоянии философии и риторики, вслед за чем неизбежно последовало их определённое сближение. Со стороны риторики первый шаг в этом направлении совершает Исократ.
Ученик одного из наиболее известных представителей старшего поколения софистов, Горгия из Леонтин, Исократ являлся продолжателем традиций практического красноречия. Около десяти лет своей жизни он посвятил ремеслу логографа, после чего обратился к более почётному занятию – политической деятельности. Однако, не располагая природными задатками, необходимыми для успеха на этом поприще, Исократ решил посвятить себя преподаванию красноречия.
Программу своей школы он изложил в речи «Против софистов», написанной около 390 г. до н. э. Она в равной степени направлена как против философов, обучавших добродетели, так и против тех преподавателей красноречия, которые «не придают никакого значения ни опыту, ни природным дарованиям ученика, но утверждают, что искусство красноречия они смогут передать всё равно что знание алфавита» [19, с. 284]. В противоположность первым Исократ полагает, «что вообще нет никакого такого искусства, которое могло бы привить целомудрие и справедливость людям с плохими задатками к добродетели» [там же, с. 287]; в отличие от вторых – что «способность к ораторской деятельности и ко всяким другим занятиям присуща прежде всего тем, кто одарён от природы и кто достаточно много занимался этим на практике» [там же, с. 285–286].
Обучение риторике в школе Исократа предполагало овладение всей суммой знаний, необходимой для деятельности успешного оратора, более того, оно становится средством не только образования, но и воспитания, поскольку именно занятие политическим красноречием, по убеждению Исократа, более всего могло бы побудить человека к выработке добродетели и чувства справедливости [там же, с. 287]. Понятая таким образом, риторика вступает в прямую конкуренцию с философией.
Со стороны последней первые усилия по сближению с риторикой предпринял Аристотель, попытавшийся превратить её в искусство, право называться которым не признавал за нею Платон. Аристотель посвящает риторике одноимённый труд, состоящий из трёх книг. В первой из них он рассматривает место риторики среди других наук. С его точки зрения, она выступает «как бы отраслью диалектики и той науки о нравах, которую справедливо назвать политикой» [4, с. 68], а её предназначение заключается не в том, чтобы «убеждать, но в каждом отдельном случае находить способы убеждения» [там же, с. 65].
Существует три разновидности подобных способов: «…одни из них находятся в зависимости от характера говорящего, другие – от того или иного настроения слушателя, третьи – от самой речи» [4, с. 67]. Аристотель довольно критично настроен в отношении первых двух, поскольку, с одной стороны, достижение стоящей перед оратором цели «должно быть не следствием ранее сложившегося убеждения, что говорящий обладает известными нравственными качествами, но следствием самой речи» [там же], а с другой – «не следует, возбуждая в судье гнев, зависть и сострадание, смущать его: это значило бы то же, как если бы кто-нибудь искривил ту линейку, которой ему нужно пользоваться» [там же, с. 60].
«…Всего справедливее стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни печали, ни радости: справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы всё находящееся вне области доказательства становилось излишним», – считает Аристотель [там же, с. 253]. Однако вследствие нравственной испорченности слушателя важное значение приобретают не только внеречевые средства убеждения, которые он, наряду с собственно риторическими, вынужден рассмотреть во второй книге своего труда, но и стиль речи, которому посвящена заключительная, третья книга. При этом Аристотель поступает как истинный философ, предлагая читателю не «причудливое, эклектическое, хотя и достаточно гибкое сочетание фрагментов искусства красноречия и софистики» [7, с. 828], как в случае с Исократом, а логически стройную систему, в которой всё, что возможно, подразделено «на виды, вплоть до того, что не поддаётся делению». Так, например, во второй книге Аристотель производит исчерпывающую классификацию приёмов и методов воздействия на слушателя в зависимости от их возраста, нравов и свойств.
И хотя в дальнейшем «Риторика» Аристотеля оказалась менее востребованной, чем практические наставления в области ораторского искусства, она заложила для него прочный этический и теоретический фундамент, в силу чего не утратила своего значения и до сих пор. Так, например, её основные положения становятся важным компонентом того рецепта спасения, который предлагает для журналистики в современных условиях М. Стефенс [127, р. 15–27].
Возможно, Аристотель и превосходил Исократа как теоретик[5]5
Об этом трудно судить с достоверностью, поскольку написанные Исократом руководства по риторике не дошли до наших дней, а от его знаменитой речи «Против софистов» сохранился лишь небольшой фрагмент.
[Закрыть], тем не менее невозможно отрицать огромное значение для культурной и политической жизни Афин IV в. до н. э. основанной Исократом ораторской школы. По утверждению Цицерона, из неё, «точно из Троянского коня, вышли сплошь одни герои; но одни из них предпочли блистать в параде, другие – в битве» [59, II, 22]. Выпускниками Исократа были видные ораторы Исей, Ликург и Гиперид, историки Андротион, Эсфор и Феопомп, видный афинский полководец Тимофей.
Преподавание не заставило Исократа отказаться от составления политических речей. Но поскольку, как отмечалось выше, он не обладал природными задатками, необходимыми для оратора, Исократ предпочитал распространять свои произведения в письменной форме.
К первому десятилетию его преподавательской деятельности относится появление таких речей, как «Бусирис» и «Похвала Елене», созданных, как и одноимённое произведение его учителя Горгия, в качестве риторических упражнений. Обе они относятся к эпидейктическому красноречию, однако уже здесь заметно стремление Исократа превратить их в нечто большее, использовать для выражения определённых политических идей. Так, в «Бусирисе» отчётливо прослеживается стремление к идеализации монархии как формы государственного устройства, а в «Похвале Елене», помимо попытки создать образ идеального царя, он впервые провозглашает одну из своих главных политических идей – объединения эллинов для похода против Персии.
Всестороннему обоснованию данной идеи Исократ посвящает своё первое и одновременно одно из главных политических произведений, – «Панегирик». Его первая часть написана в лучших традициях эпидейктического красноречия и представляет собой прославление родного города, ставящее целью обосновать право Афин на гегемонию в греческом мире. Однако эта гегемония выступает для Исократа не самоцелью, а лишь средством для решения внутренних проблем Эллады. Вторая часть «Панегирика» имитирует симбулевтическую, т. е. совещательную речь, в которой Исократ призывает греков к совместному походу на Восток, не только описывая выгоды, которые сулит им подобная война, но и обосновывая практическую осуществимость своего замысла. Так возникает тот «“серединный” жанр, который, впитав в себя элементы риторики и политики, станет публицистикой» [7, с. 828].
«Творческое наследие Исократа в значительной степени приближено к европейской публицистике нового времени», – утверждает Ю. В. Лучинский [30, с. 10]. Ещё дальше в своей оценке Исократа заходит Е. Н. Корнилова, когда называет его «журналистом, создателем жанровых форм политического руководства (инструкции), открытого письма, обличения или панегирика в современном понимании этого слова» [26, с. 43][6]6
Справедливости ради следует признать, что Е. Н. Корнилова не склонна проводить чёткой грани между журналистикой и пиаром, как свидетельствует следующая цитата: «Современная журналистика стыдливо отрекается от жанровой специфики энкомия (хвалебной песни, посвящённой какому-либо лицу или божеству) или панегирика (хвалебной речи в праздничном собрании), хотя приёмы Исократа при создании торжественных биографий отлично усвоены создателями имиджей президентов и прочих политических лидеров [26, с. 55].
[Закрыть].
Полной противоположностью Исократу выступает Демосфен, вошедший в историю греческой литературы «как завершитель эпохи аттического красноречия, последний и самый замечательный художник публичной речи в эпоху греческой независимости» [49, с. 179].
Демосфен, как и Исократ, не обладал природными качествами, необходимыми для публичного оратора, однако упорной работой над собой он сумел преодолеть свои недостатки[7]7
Подробнее об этом см.: [41, 7—11].
[Закрыть] и превратиться в одного из выдающихся представителей политического красноречия. «В противоположность холодному и бесстрастному Исократу Демосфен сочетает совершенное владение приёмами ораторского искусства с пламенным пафосом борца, – отмечает И. М. Тройский. – Он использует все выразительные средства речи, выработанные греческим красноречием, включая и прозаический ритм; для каждого настроения он находит соответствующий тон. В его сжатом и суровом стиле звучит страстная убеждённость, и сила аргументации захватывает слушателя. Эту силу признавали и его политические противники» [там же].
И всё же главная заслуга Демосфена заключается не в мастерском владении словом, красноречие являлось для него лишь средством в борьбе за свои политические идеалы. Здесь он вновь выступает яркой противоположностью Исократу, на закате своей карьеры связывавшему надежду на объединение Эллады ради похода на Восток с фигурой македонского царя Филиппа, которому в 344 г. до и. э. посвятил одну из своих последних речей[8]8
Согласно комментарию к этой речи, составленному неизвестным автором, «получив и прочитав эту речь, Филипп не послушал излагавшихся в ней советов, но отложил их исполнение до другого времени. Однако позже сын его Александр тоже прочитал эту речь и, воодушевлённый ею, предпринял поход против Дария Второго» [19, с. 81].
[Закрыть]– Для Демосфена напротив, борьба против македонской экспансии в Греции становится главным делом жизни, а восемь речей, направленных против Филиппа и известных под общим названием «Филиппики», становятся одной из признанных вершин его красноречия.
Это был неравный поединок. По словам самого Демосфена, его противник «был сам над всем господином, вождём и хозяином. Ну, а я, поставленный один на один против него… над чем имел власть? – Ни над чем! Ведь, прежде всего, само это право выступать с речами перед народом, единственное, что было в моём распоряжении, вы мне предоставляли в такой же степени, как и людям, состоявшим на жалованье у него, и в чем им удавалось одержать верх надо мной (а такие случаи бывали часто и по любому поводу), это самое вы и постановляли на пользу своим врагам перед тем, как разойтись из Собрания» [15, с. 280].
Но и в подобной ситуации Демосфен оказался для Филиппа грозным соперником. Как писал Лукиан Самосатский, даже после решающей победы македонцев в битве при Херонее Филипп продолжал повторять, насколько тот опасен для него: «Хотя мы и одолели, говорил он… тем не менее Демосфен поставил меня в опасное положение: от исхода одного дня зависели и власть моя, и жизнь. Демосфен связал в одно целое важнейшие государства, собрал всю эллинскую силу: афинян и беотийцев, как из Фив, так и из других городов, и коринфян, и эвбейцев с мегарцами; он заставил могущественнейшие общины разделить опасность с афинянами и так и не допустил меня проникнуть в пределы Аттики» [28, с. 38].
Чтобы добиться подобного влияния, «необходимо было быть не только выдающимся оратором, но и дипломатом, публицистом, аналитиком и, наконец, решительным человеком, умеющим брать на себя ответственность за политические решения» [26, с. 65]. Справедливости ради следует признать, впрочем, что далеко не все авторы признают за речами Демосфена право называться публицистикой в современном понимании этого слова. «…Насколько велика профессиональная близость деятельности политического оратора, подобного Демосфену, деятельности публициста? – задаётся вопросом
В. В. Учёнова в своей известной монографии «У истоков публицистики». – На наш взгляд, сходство значительно. Оно в политической актуальности, практической действенности речей, их ориентации на оперативный общественный резонанс. Но есть и отличия – нетождественность устных и письменных речевых средств отображения действительности и воздействия на неё» [53, с. 15].
Возможно, подобное замечание и уместно в отношении Демосфена, который, по словам Плутарха, хотя и не выступал без предварительных заметок, всё же не писал своих речей целиком [41, 8]. Кроме того, по свидетельству современников, «живое его слово отличалось большей дерзостью и отвагой, нежели написанное» [там же, 9]. Однако подобное трудно утверждать об Исократе, у которого совершенно очевидно «эпидейктическая речь становится… формой публицистики. Речи эти уже не произносятся, а только издаются как политические памфлеты» [49, с. 177] (см. также: [80]).
Нетождественность современной публицистики и журналистики с методами античных ораторов, на наш взгляд, следует искать в иной области. Так, например, Исократ, хотя и утверждал, что последние «должны быть точными в своих описаниях… и придерживаться суждений, строго соответствующих самой действительности» [19, с. 184], всё же не считал необходимым буквально следовать этому требованию. Е. Н. Корнилова отмечает, что он активно использует «как умолчание, так и искажение событий прошлого и настоящего. Например, для доказательства положения о том, что внешняя политика демократического полиса лучше политики Тридцати тиранов, победу Конона при Книде (394 г. до н. э.) оратор переносит в 361–360 до н. э… С целью создать впечатление о моральном падении греческих полисов заключение Анталки-дова мира приписано Ксерксу, а не Артаксерксу» [26, с. 51].
Не лучший пример в этом отношении представляет и Демосфен, чьи речи также изобилуют примерами искажения и тенденциозной трактовки событий, а также откровенной манипуляции вниманием слушателей. Классическим примером последней выступает его знаменитая речь «За Ктесифонта о венке», в которой он мастерски переключает внимание судей с явного нарушения закона на отрицательные качества своего оппонента и собственные политические заслуги.
Следует помнить, однако, что авторов той эпохи нельзя оценивать с позиций наших дней. Демократическая система управления древнегреческими полисами предполагала, что информация о состоянии дел в государстве в равной степени доступна любому желающему, а кроме того, скорость её распространения в пределах города была такова, что выступающий едва ли мог сообщить новость, уже не ставшую к тому моменту всеобщим достоянием[9]9
В V в. до н. э., когда Афины становятся центром греческого мира (в это время там жили писатели Эсхил, Аристофан, Еврипид и Софокл, историки Геродот и Фукидид, философ Сократ, поэт Симонид, скульптор Фидий), население города составляло всего около 40 тыс. человек, а сам он занимал территорию вокруг Акрополя площадью примерно четыре квадратных километра.
[Закрыть]. Поэтому слушатели ожидали от оратора не новых фактов, а их интерпретации, доверие к которой полностью зависело от уважения к личности говорящего.
Целая эпоха отделяет Демосфена от другой вершины античного красноречия – Марка Туллия Цицерона. В эпоху эллинизма, как её принято называть, происходят глубокие изменения в социально-политической и культурной жизни греческого мира, которые повлекли за собой существенное падение роли политического красноречия. На смену этому упадку придёт новый расцвет ораторского искусства в Риме в I в. до н. э., во многом оказавшийся возможным благодаря наследию аттического красноречия.
Неудивительно, что в речах Цицерона мы находим те же особенности, что и выступлениях Демосфена. Так, одна из его наиболее знаменитых речей, «Против Катилины», знаменующих вершину политической карьеры Цицерона, не содержит практически никаких весомых улик против Катилины, и главным доказательством его преступных намерений становится порочный характер обвиняемого: «Каким позорным клеймом ещё не отмечена твоя семейная жизнь? А твои частные дела? Какого безобразного поступка не разнесла ещё твоя слава? Упустил ли ты когда случай потешить свой похотливый взор? Удержал ли руки от какого злодеяния? В каком разврате не погряз ты всем телом? Не ты ли расставлял юношам сети порочных соблазнов? А совратив кого-то, не ты ли вкладывал ему в руки дерзостный меч? Не ты ли поощрял в нём самые низкие страсти? И во всяких его похождениях не ты ли шёл впереди, освещая дорогу?» [60, VI, 13][10]10
Аналогичным образом характер обвиняемого становится одним из главных аргументов в пользу невиновности обвиняемого в другой известной речи Цицерона – «В защиту Секста Росция из Америй» [57, XIV, 39–41].
[Закрыть].
Политические выступления Демосфена и Цицерона, несомненно, представляли собой пример «целенаправленного распространения в массе людей сведений, оказывающих на них идейно-психологическое воздействие, формирующих их мнения, представления, стремления, побуждающих к тем или иным действиям», в силу чего, по утверждению Е. П. Прохорова, их можно рассматривать как «яркое проявление того, что можно уже с большой определённостью назвать пражурналистской деятельностью» [42, с. 33].
Но, как мы видели выше, она плохо согласуется с одним из основополагающих требований современной журналистики о точности и достоверности распространяемой информации, из чего можно сделать вывод, что к Демосфену и Цицерону восходит своими корнями лишь одна из функций журналистики – мобилизационная. По утверждению Шадсона, она являлась основной для американской журналистики вплоть до последних десятилетий XIX в. (а в некоторых странах и дольше), после чего её сменила в качестве таковой информационная функция, истоки которой следует искать в другой области античной литературы – историографии.
«Кому же неизвестно, что первый закон истории – ни в коем случае не бояться правды; не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы… А характер изложения и слог должен быть ровным, плавным, со спокойной размеренностью, без всякой судебной резкости и без всяких ядовитых словечек, обычных на форуме», – отмечал Цицерон в своём трактате «Об ораторе» [59, 77, 15, 62–64].
Естественно, как и в случае с речами ораторов, далеко не все произведения древних историков отвечали этому требованию, в связи с чем в античной историографии выделяют два направления: риторическое и исследовательское.
Для риторической историографии характерно продолжение традиций эпидейктического, т. е. торжественного красноречия. Её первопроходцами выступили два ученика Иоскрата, Эфор и Феопомп, ставившие своей целью похвалу добродетели и порицание тех, кто этого заслуживает. Во времена Древнего Рима это направление достигнет своего пика в творчестве так называемых младших анналистов, для которых, по утверждению С. Л. Утченко, «история превращается в раздел риторики и в орудие политической борьбы» [52, с. 228].
Второе, исследовательское направление историографии представлено такими совершенно разными, на первый взгляд, авторами, как Геродот, Фукидид, Полибий, которых тем не менее объединяет «подход, в рамках которого история понималась не как сухое, чисто описательное изложение фактов, а обязательно как исследование» [47, с. 183]. Само слово «история», использованное Геродотом в качестве названия для своего труда, в переводе с древнегреческого означает «изыскание» [49, с. 167]. Его цель заключается в том, «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» [13, I].
Известный швейцарский журналист Жан Виллен рассмотрел в Геродоте отца не только истории, но и современного репортажа, «ибо для него “историчное” большей частью имело значение… лишь постольку, поскольку оно могло способствовать лучшему пониманию времени, в котором он жил, для которого он писал и которое к тому же было столь увлекательным, волнующим и исторически великим. Его внимание привлекала к себе современность, подвижная, каждый день приносившая неслыханные новости, ошеломлявшая событиями и открытиями. Её-то Геродот и стремился исследовать, дописать, сделать понятной. И не случайно, когда дело касалось его текстов, он с особой силой подчёркивал свою роль очевидца, он всегда и неизменно всем своим авторитетом подтверждал достоверность положений и событий, им излагаемых» [11, с. 75].
И всё же Геродот являлся представителем архаической традиции греческой историографии, «рационализм его не идёт дальше скептического отношения к некоторым грубым представлениям народной веры… Он верит в сны и оракулы. Божественное возмездие за неправду и “чрезмерность”, зависть богов к человеческому счастью – всё это представляется Геродоту реальными силами истории» [49, с. 75]. Кроме того, его история достаточно полифонична: в своём повествовании он уделяет довольно много внимания вопросам географии, этнографии, культуры и даже менталитета описываемых народов.
Полной противоположностью Геродоту во многих отношениях выступает его младший современник Фукидид. В отличие от предшественников, писавших преимущественно о прошлом, его побудило взяться за перо осознание исторической значимости не прошлых, а современных ему событий: «Приступил же он к своему труду тотчас после начала военных действий, предвидя, что война эта будет важной и наиболее достопримечательной из всех, бывших дотоле» [54, с. 5]. При этом Фукидидом движет нечто большее, чем стремление сохранить для потомков «великие и удивления достойные деяния», как в случае с Геродотом; он уверен, что написанное им может оказаться полезным тому, «кто захочет исследовать… возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде)» [там же, с. 14].
Если Геродот считал своим долгом «передавать все, что рассказывают», включая то, чему сам он верить не собирался [13, VII, 152], то Фукидид руководствовался прямо противоположной установкой: «Что же касается событий этой войны, то я поставил себе задачу описывать их, получая сведения не путём расспросов первого встречного и не по личному усмотрению, но изображать, с одной стороны, лишь те события, при которых мне самому довелось присутствовать, а с другой – разбирать сообщения других со всей возможной точностью» [54, с. 13].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































