Текст книги "Лестница №8"
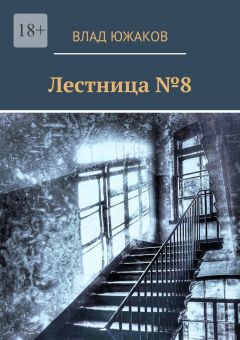
Автор книги: Влад Южаков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Слабина
Как враги ни умоляли, как ни унижались —
Кубок ненависти к ближним полон до краёв.
Он и слышать не желает про любовь и жалость,
Он набьёт любому морду в битве за своё.
Кто сравнится с ним в искусстве попадать не целясь?
Он – неоспоримый гений яростных атак.
Потому что жизнь учила бить коротким в челюсть
До того, как неприятель занесёт кулак.
Он готов к любому бою, он всегда в порядке.
Пули цокают горохом по его броне.
Он неуязвим. И только иногда украдкой
Слабину себе позволить может в детском сне.
…там на улице сугробы чуть ли не до неба.
Иней блещет на ресницах белой бахромой.
Он идёт из магазина с тёплой булкой хлеба,
Отщипнув кусочек корки по пути домой…
Но наутро, разгоняя сна свербящий морок,
Вновь хрипит: «А ну, кому тут жизнь не дорога?!».
Мир, как прежде, безупречен: сталь, огонь и порох.
Всё что нужно, чтоб не гасла ненависть к врагам.
Кренделя
Не скупясь, чтобы всем хватило,
Над домами встаёт светило,
Сокращая длину теней.
Но под солнцем так мало места…
Я леплю кренделя из теста
Утомительно вязких дней —
Жизнь не даст не испачкать руки.
Замесив из тоски и скуки
Незатейливую судьбу,
Отправляю в духовку форму…
Смысл процесса как код смартфона —
Из набора случайных букв.
В телешоу фастфудом кормят:
«Будь как мы! Соответствуй норме!
Мы укажем, куда идти!».
Чтобы там ни твердили в прессе,
Смысл процесса – в самом процессе.
Путь важнее конца пути.
Срок пришёл подавать на ужин
Сдобу – ту, что сгорев снаружи,
Изнутри недопечена
(Впрочем, если посыпать пудрой,
Как советовал кто-то мудрый,
Будет съедена и она).
Объясните народным массам,
В чём свобода свободной кассы,
Сидя в тёплом своём углу.
Пусть невзрачно моё застолье,
Буду есть то, что сам готовлю.
Добрый вечер. Прошу к столу.
Призрачное
На холодных ступенях, ведущих на дно Фонтанки,
Пили горькое зелье, в туман опускали ноги.
Проникали сквозь прошлое, видели жизнь с изнанки,
В постижении истины были почти что боги.
Ожидали, что призраки выплывут из тумана —
Беспокойные духи языческих финских кладбищ.
И за плеском волны то ли слышали зов шамана,
То ли Баха из окон под звук фортепьянных клавиш.
Изрекали сакральные тексты высоким слогом,
Наблюдали, как сквозь непроглядную муть и темень
То ли фары машин пробивали себе дорогу,
То ли волчьи глаза из ушедших времён блестели.
Утверждали, что явь иллюзорна под небесами.
Что действительность – бред, что реальности быть не может.
И с клочками тумана к утру растворились сами.
И придуманный мир вместе с ними растаял тоже.
Внутренняя судьба
Мы жили у Семи мостов на улице Садовой.
И в нашей комнате простой, обставленной кондовой,
Но милой мебелью, горел весь день ночник старинный.
И детский голос во дворе истошно звал: «Кристина!
Ты выйдешь?». И кленовый лист на подоконник ловко
Ложился под пичужий свист. И курица в духовке
Чадила душно оттого, что нами позабыта.
А мы, не помня ничего – ни общества, ни быта —
День напролёт, в руке рука, держались друг за друга.
Не видя в свете ночника ни Севера, ни Юга,
Мы жили внутренней судьбой, от посторонних втайне.
Лишь я и ты. Лишь мы с тобой. И капель звук хрустальный…
Опять их музыка слышна, мелодия не смолкла.
Я снова сяду у окна, чтоб наблюдать сквозь стёкла
Поры осенней благодать в её исконном виде.
И терпеливо стану ждать, когда Кристина выйдет.
Дорога
Было время, он с искренним сердцем боролся за истину,
Справедливости в мире искал до разрыва аорты.
И летел, как по трассе, вперёд беззаветно и выспренно,
Веря в то, что архангел сразит-таки злобного чёрта.
Но с годами всё больше уступок, всё меньше горения.
То его предавали, то он подставлял… Понемногу
Ощущение жизни менялось. С течением времени
Скоростной автобан обращался окольной дорогой.
Наступила пора: жизнь предстала в беспафосном облике.
Он уже не боролся, поскольку и сам был порочен:
«Этот мир век от века живёт одинаково подленько.
Просто есть времена, что страшнее, а есть, что не очень».
Путь тяжёл и далёк. То в компании, то в одиночестве
День за днём пролетают – ненастный сменяет погожий.
Он стареет. А надо б мудреть. Но надеяться хочется,
Что успеет понять: этот мир – ни плохой, ни хороший.
Рефлекторное
Всё делаешь, как и в былом году.
Привычка – такая сука…
Мусолишь купюры, берёшь еду
И прёшь до квартиры сумку.
Садишься на кухне к столу. Потом
Выкладываешь пакеты
И банки. И ловишь себя на том,
Что снова её конфеты
Купил. И опять на двоих набрал
Продуктов на будний ужин.
И вроде запомнить давно пора,
Что столько тебе не нужно,
Что мир, удивительный и простой,
Растаял ушедшим летом…
…И в доме в два раза богаче стол.
Но в сотню раз меньше света.
Тропинка
Несусветная пошлость – вздыхать и твердить про года.
Только хочешь не хочешь, а поздно стремиться в герои.
Я похож на покрывшийся пылью пустой чемодан.
Ничего за всю жизнь не родил, не создал, не построил.
Всё бывало… Возился в говне, гарцевал на коне.
Всё прошло. Знаю только, что в мире под солнцем лучистым
Ты – тропинка, которая жизнью указана мне.
И прекрасней тебя никогда ничего не случится.
Боль
…и если вся людская боль
В один большой вольётся крик,
Я лопну, поделюсь на ноль,
Меня не станет в тот же миг.
Но в жизни боль – чуть там, чуть здесь.
Так маслом мажут бутерброд.
И вроде, не совсем п… ец.
И может быть, наоборот,
Туда, где боль, всегда идти,
Ломая пальцы и слова,
И верить в истинность пути?
…горит луна, кричит сова
И ночь немыслимо нежна.
И грею боль свою в руках.
Не потому что боль нужна,
А просто без неё никак.
Цветок
Стрекозы и бабочки. И человек.
Он косит траву от души, с оттяжкой.
И пот утирает с блистающих век,
Заметно устав от работы тяжкой.
И видит цветок, что пылает огнём
Как символ смущения на лице.
И смотрит за тем, как копается в нём
Пчела, перепачканная в пыльце.
Она собирает нектар хоботком,
Ревниво водя ядовитым жалом…
Весь мир очарован прекрасным цветком —
Простую траву никому не жалко.
Так люди под солнцем веками росли —
Никто их не вспомнит сейчас, увы.
И я – лишь трава в придорожной пыли.
А нежный цветок – безусловно, Вы.
Нас тоже когда-нибудь срежут косой…
В печальном конце моего рассказа
Я лягу на землю, забрызган росой.
А Вас… Ну, конечно, поставят в вазу.
Разбитые мечты
Князь – мужчина в соку. Впрочем, ей он годится в дедушки.
Только что нам с того, если дедушка нынче с девушкой?
Что с того, что живот и плешивая голова?
Правда, функция половая – едва-едва…
Но какая девчонка! Невспаханная, целинная!
Как же хочется алчно хвататься за ногу длинную,
Ягодицу поглаживать, твердую, как орех…
Ну, а с функцией… Бесы не сглазят – случится грех.
Он везёт ее в дачный массив на своем «Ленд Ровере».
Он включил не Мадонну и даже не «Рикки и Повери»,
А совсем уже древнегреческую херню,
Как считает девица, одетая в стиле «ню».
Ну, не то, чтобы «ню» – две веревочки есть на теле.
Подростковая грудь обозначена еле-еле.
За щекой чупа-чупс, на лице ни следа от дум.
Сиськи, да, наживное дело, не то, что ум.
Сиськи будут. Он ей обещал на недавней пьянке.
А пока она молча глотает «Мартини бьянко»,
Размышляя, что, мол, такова уж её стезя…
Но богатых столичных клиентов терять нельзя —
За учёбу заплатит и снимет квартиру в центре.
Что с того, что придётся терпеть этот потный центнер
Мяса с жиром плюс пять килограммов говна в башке?
Где такого клиента найдёшь у неё в Торжке?
Подполковник, завидев «Ленд Ровер» сказал по связи:
«Первый, первый, объект на подходе, встречайте Князя».
Взяли их без излишнего шума. Лишь в тишине
Демис Руссос тянул что-то типа «приди ко мне».
Вечерело. На западе небо горело красным.
Подполковник взглянул на любовников беспристрастно:
«Ты теперь о свободе надолго забудь, дружок.
А тебе, малолетка, дорога домой, в Торжок».
Жизнь жестока и несправедлива. О, боги, боги…
И потом написал в интернете известный блогер:
«Как при этом режиме свои воплотить мечты,
Если нет ни свободы, ни сисек?! Одни менты!».
Две могилы
Еремеев по кладбищу шёл неспешно —
Он на тихих аллеях читать любил
Эпитафии людям давно умершим.
И на миг задержался у двух могил.
На одной – облачённый в гранит и мрамор,
Монумент генерала, что жил в борьбе.
На соседней – лишь надпись от папы с мамой:
«Спи, наш мальчик, мы скоро придём к тебе».
Две могилы, увенчанные крестами,
Две прошедшие собственный путь души.
Первый смог полстраны на дыбы поставить,
А второй ничего не успел свершить.
Первый с юности был избалован славой,
Посылая на гибель за ратью рать.
В орденах и медалях, лихой и бравый —
Сам горел и других заставлял сгорать.
И второй бы, возможно, надел погоны,
И прослыл бы бессмертным творцом побед,
Стал бы лидером мнений, вождём, иконой,
Но не прожил, увы, и десятка лет.
И как будто общаясь с гранитным ликом,
Проворчал Еремеев в погожий час:
«То, что кто-то однажды не стал великим —
Иногда это лучше для всех для нас».
Иногда есть причина взглянуть отважно
Внутрь себя и понять в круговерти дней:
Что ты сделал для мира – конечно, важно,
Но чего ты не сделал – порой, важней.
Поединок
Не ведая ни страха, ни греха,
Они ревут упрямо друг на друга:
«Твой мерзкий бог – кормящая рука!».
«Нет, ты – хозяев жалкая прислуга!».
Противника бодать – для них восторг.
Путь к миру перерезан, выход заперт.
Один отвратно костерит Восток,
Второй похабно унижает Запад.
Один – неколебимый демократ,
Второй – поборник авторитаризма.
И оба – дай им волю – до утра
Готовы рьяно и бескомпромиссно
Доказывать: «Ты по уши в дерьме!
Ты рано или поздно в нём утонешь!».
«Нет, это ты погибнешь в гнусной тьме!
Мой светлый путь вольготней, слаще, тоньше!».
«Твой путь – в навоз! Наступят времена —
И я построю мир без нотки фальши!».
Земля, увы, для них двоих тесна.
Ей остаётся лишь крутиться дальше…
Жара спадает, близится закат.
Гудят жуки, благоухают травы.
Меж дремлющих холмов течёт река.
И скоро вдалеке, у переправы
Край неба вспыхнет огненной каймой…
Тогда пастух, пропахший самосадом,
Погонит стадо тучное домой.
И этих двух, отбившихся от стада.
Слива
Миша пристально, не отрываясь, смотрел в окно.
За окном между листьев качалась на ветке слива.
Спелый плод был красив и почти осязаем, но
Недоступен, как счастье. Не вышло побыть счастливым.
***
Было время, когда клокотала в душе весна:
Он нетрезв и всерьез озабочен любовным гнётом,
А она холодна, безответна, строга, бледна —
Словно слива, покрыта густым восковым налётом.
Он решил, изучив досконально её бока,
Что, пожалуй, сойдёт, хоть местами одрябла кожа.
И воскликнул: «Подруга, поедем попьём пивка!».
Но подруга решила кутилу послать, похоже…
И за то, что она отказалась сыграть в игру
Под названием: «Ты мой хозяин, теперь мы в паре»,
Он ударил её до упора заточкой в грудь.
Что культура? Лишь блёклый налёт на помятой харе.
***
Михаил сквозь решётку упорно в окно глядел.
Не жалел о судьбе, не подыскивал слов слезливых
Для судьи, прокурора и разных других людей.
Он не думал вообще. Мише просто хотелось сливу.
Старушечьи сказки
Тишина в полутьме. От озноба трясёт слегка,
Даром что за окошком июль. Обхватив колени,
Он сидит на кровати. От лёгкого сквозняка
Пляшет пламя свечи. Из углов выползают тени,
Изгибаются, вьются, как будто мушиный рой,
Обращаясь в корявую сгорбленную старуху —
В окровавленном платье, под ручку с родной сестрой…
И старуха подходит. И шепчет ему на ухо:
«Я, голубчик, тебя не простила, но Бог с тобой…
Ты хотя бы усвоил, что жизни лишить – не шутка.
Как по мне, ты бездарный разбойник. А весь разбой
Впереди – беспощадный, бездумный, фатальный, жуткий.
Столько вырастет лютых убийц – не тебе чета!
Ты в сравнении с ними – наивный, пугливый мальчик.
Эти быстро усвоят, что выгоднее считать,
Что мещанская серая жизнь ничего не значит.
Этим будет плевать, как тут жили когда-то встарь,
Что читали, что ели, какие царили нравы —
Всякий станет уверен, что он-то как раз не тварь
И на лёгкие деньги бесспорно имеет право.
Что-то я заболталась по-бабьи… Пора назад.
Ни к чему тебе, сокол, старушечьи сказки на ночь.
Я б могла о грядущем и больше тебе сказать,
Но довольно. Ложись почивать, Родион Романыч».
***
Он проснулся в поту. Видно, снова во сне кричал.
Что ни ночь, то приходят зарубленные старухи…
За окошком светло. И потухла давно свеча.
Всё нормально. Лишь в тёмных углах копошатся мухи.
Глаза врага
Со звездой на фуражке, с крестом на груди,
Он себя убеждал, что страну впереди
Ожидает пора Добра.
А пока, по законам гражданской войны,
Надо тех, что грядущему веку вредны,
Уничтожить под крик «ура».
Что ж, такая эпоха сейчас на дворе —
Не получится спрятать «наган» в кобуре,
Не испачкать в крови ладонь.
Это время не терпит тропинок кривых.
Это путь по прямой – чтоб остаться в живых,
По живым открывай огонь.
«Вот у стенки в исподнем стоит человек.
Не копыта – ступни упираются в снег,
И на лбу не растут рога.
Но, забыв милосердие, просто поверь:
Человек – кровожадный, безжалостный зверь.
Это доблесть – убить врага!».
Так он думал, сжимая холодную сталь.
И нажал на курок, поминая Христа.
И запомнил последний миг —
Человек перед смертью взглянул в небеса,
И без страха и злобы смотрели глаза
В ускользающий светлый мир.
Перекрёсток
У старинного храма гудят моторы.
Перекрёсток. По «зебре» пойдём нескоро.
Незаметный глазам пастух
Погоняет неспешно машин отару.
На границе гранитного тротуара
Мы застыли, как на посту.
Наша осень пропитана ярким светом.
Я хотел бы тебе рассказать об этом
Ощущении от любви,
Что как будто нас делает ближе к Богу.
Жаль, слова ничего передать не могут.
Не втолкуешь – хоть рот порви.
Мы не то чтобы праведно в мире жили:
Год от года вертелись гузном на шиле,
Распылялись по мелочам…
Только что нам сегодня число ошибок?
Ощущаю, как мир бесконечно зыбок,
Прикасаясь к твоим плечам.
Впрочем, главная песня ещё не спета.
Как скульптуры, стоим посреди проспекта.
Я смотрю на твоё лицо.
Понимаю – осталось не так уж много.
Всё быстрее под горку бежит дорога.
И когда-то, в конце концов,
Мы услышим архангела Гавриила:
«Господа, вы вели себя очень мило,
Но, увы, дальше нет пути».
Но пока не достигла развязки драма.
И зелёным горит светофор у храма.
И по «зебре» пора идти.
Юность
Юность – это когда беззаветно, легко и чисто.
Это голый Смирнов, пьющий водку в позе горниста.
Это «Дневная бабочка» и «Ночной портье».
Это когда просыпаешься утром чёрт знает где.
Это открытие Кандинского и Шагала
И понимание, зачем Сальвадору Гала.
Это Гарри, Шемякин, Коко, Сен-Лоран, Шекспир.
Это новый, непознанный мной, неизвестный мир.
Юность – это когда уже отслужили в армии,
Но когда еще не родились «Хроники Нарнии»,
Это нос в табаке, а глаза и уши в борще,
А размер строки не имеет никакого значения вообще.
Юность – это отсутствие бренного опыта.
Это запах свежей травы, стук конского топота.
Это жизнь нараспашку под вьюги холодный вой.
Это друг за столом. Молодой. И ещё живой.
Ярлычок
Фрёкен Тунберг взывает: «За климат радея,
Мы разрушим порочных идей бастион!».
Я смотрю на экран и собой не владею —
Дайте тоже залезть на трибуну ООН!
Баритон мой певуч. Зов мой громок и ясен.
Я бы встал и сказал: «Человек! Посмотри,
Как для всех прогрессивных народов опасен
Ярлычок, что на майке пришит изнутри!».
Он терзает седьмой позвонок как заноза.
Он рождает в загривке немыслимый зуд.
Если мы не ответим на эту угрозу,
Скоро всех на Земле ярлычки загрызут!
Мне, увы, далеко до шального подростка.
Мой удел – телевизор, портвейн и кровать.
Но кричу человечеству прямо и жёстко:
«Запретим ярлычки изнутри пришивать!».
Потому что в опасности наша планета!
Это ясно и взрослому, и малышу!
А пока на трибуне безумствует Грета,
Я протесты пишу. И загривок чешу.
Нинкина страсть
Ну, что сказать… Она спала со всеми:
С Рудольфом, Карлом, Жорой, Саней, Сеней…
Бывало, ночь ещё не подошла
И птицы за окном не отгалдели,
А поглядишь – уже в её постели
Жан-Жак, Франтишек и Зинэтула.
Кто только с ней не разделяет ложе!
Она, боюсь, всеядна. И, похоже,
Заснуть вольна лишь с кем-то в унисон.
Но кто ж её одёрнет грозным: «Хватит!»?
И Чжао Дунь бывал в её кровати,
И Соломон Аронович Гудзон.
Такая в жизни страсть у нашей Нинки —
Давать им имена… И спать в обнимку,
Под теплым одеялом видя сны.
Как в девять лет прекрасен мир игрушек!
И спят её поклонники из плюша —
Ежи, медведи, зайцы и слоны.
Ужин
Возвращался со службы, снимал портупею и сапоги.
Умывался, садился в гостиной за стол, наливал борща,
Выпивал двести грамм. А в мозгу продолжали стонать враги,
До последней предсмертной секунды надежду на жизнь ища.
Доставал портсигар, чиркал спичкой. Потом выпивал ещё,
Ожидая, что водка подарит ключи от иных миров.
Но тарелка с карминово-красным, как летний закат, борщом
Не давала забыть, как по кафельной плитке стекает кровь.
Наблюдал пустоту за окошком, мечтая совсем не спать.
Потому что заснёшь – и выходит из тьмы настоящий враг.
И читает расстрельные списки… И тонет в крови кровать,
Унося слабодушное тело в безвестный холодный мрак.
Угрожал: «Если враг не сдаётся – немедля его казнить!».
Доставал наградной парабеллум и тыкал в висок стволом,
Но, в конечном итоге, под утро терял рассуждений нить…
А когда засыпал, за окном становилось совсем светло.
Пчела
Под прозрачной пластмассой стакана жужжит пчела.
Толубеев сегодня её заключил в тюрьму.
Потому что нет сил на четыре сырых угла
Ежедневно за месяцем месяц смотреть ему.
Ей решётка не стала преградой – влетев в окно,
Закружила по камере. Бархатный летний гул
В «одиночку» проник. Он подумал: «Пчеле дано
То, что я так любил. То, что вряд ли теперь смогу».
Он ведь тоже когда-то настырней других гудел,
Без особой причины вторгался в чужую жизнь,
Был опасней и ярче невзрачных, простых людей…
Только нынче ему не судьба в небесах кружить.
И когда полосатая гостья к его столу
Подлетела, он брови нахмурил: «В краю моём
Нет нектара, прости». И стаканом накрыл пчелу:
«Посиди-ка со мной. Веселее, когда вдвоём…».
Легче жить, понимая, что ты не один в дерьме,
Что есть некто, что так же питает к свободе страсть.
Толубеев сегодня устроил тюрьму в тюрьме.
Он, конечно, под стражей, но тоже имеет власть…
***
Он смотрел на мохнатую узницу сквозь стакан,
Утешая себя, что хоть что-то способен смочь.
А пчела, копошась, наклонила «тюрьму» слегка…
И взлетела. И через окно устремилась прочь.
Поезд
Участковый был скучен, хоть с виду суров:
«Ну, тебе-то чего не хватало, Петров?
Я не буду ругаться – давай по душам…
Объясни мне, чем поезд тебе помешал?».
И подумал Петров, опуская глаза:
«Николаич, ну, как бы тебе рассказать…
Мимо нашей деревни бог знает куда
Всё идут, и идут, и идут поезда…».
***
Он стоял, от запоя и жизни устав,
И смотрел на летящий по рельсам состав.
И мелькали в глазах, за вагоном вагон,
Сотни разных людей – тех, что лучше, чем он.
Потому что Петров – не барон и не граф.
И усвоил давно: «Кто сильнее, тот прав.
Кто богаче, тот босс. Кто беднее, тот раб».
А поскольку он мелок, бессмыслен и слаб,
То подарит судьба лишь суму да тюрьму.
И вагоны как будто шептали ему:
«Жизнь проносится всуе. И хоть ты умри,
Никогда не отправишься дальше Твери».
И пока он мечтает в сельмаге украсть
Пусть не весь алкоголь, но хотя б его часть,
По железной дороге бегут поезда
И счастливцев везут неизвестно куда.
И когда замутило от радостных лиц,
Уносящихся к блеску шикарных столиц
По сияющим далям большого пути,
Он початой бутылкой в вагон запустил…
***
Участковый добавил два сахара в чай:
«Что тебя побудило? Давай, отвечай…
Что, играем в молчанку? Устроил кино…».
Но Петров отвернулся, взглянув за окно.
Там уже вечерело. Июльский закат
Неуёмное пламя разжёг в облаках.
Ветви старых ракит отражались в реке,
И невидимый поезд стучал вдалеке.
Бес
«Отвяжись, не учи меня смерти, бес.
Прекращай про геенну, слезай с плеча.
Я за годы таких нагляделся бездн…
Мой сегодняшний рай – полумрак и чай.
Лишь когда среди ночи один сижу
И коверкаю грифелем гладь листа,
Растворяется в сумраке жизни жуть —
И как будто за пазухой у Христа.
Но потом, как всегда, наступает день,
Возвращается страх… И при свете дня
Понимаю, вглядевшись в глаза людей —
Каждый третий желает убить меня.
И становится пусто в моём раю
Посреди беспощадной большой страны.
Только им не дождаться – я их убью
До начала объявленной мне войны.
Лишь Надежда и Света, жена и дочь —
Те, которых оставлю навек себе.
Остальных раздавлю. Им уже не смочь
Повлиять хоть на что-то в моей судьбе».
Он ощупал плечо, прекратив писать:
«Слава Богу, исчез». Носовым платком
Вытер шею и лоб. И поднёс к усам
Трубку, туго набитую табаком.
Он взглянул на страну из окна Кремля.
В темноте февраля падал снег с небес.
Занесённая вьюгой, спала земля,
На которой давно поселился бес.
Он курил, размышляя, что в мир иной
Рановато. Что хочется жить пока.
И горели во тьме за его спиной
Два багровых неистовых огонька.
Ударения
«Посмотри на себя! На кого ты похожа?! Слушай,
До чего ты дошла, уязвимость свою душа!
Ты боишься зеркал, по утрам выходя из душа,
Потому что и так нестерпимо болит душа.
Только нет никого, кто бы смог оценить глубины
Королевского сердца – на троне сидишь одна.
В антикварном буфете стоят дорогие вина.
Жаль, что выпить их не с кем. И в этом твоя вина.
Ты не ставила в грош недалёких ровесниц-самок —
Всех милее была! Ни один устоять не мог.
Что же суженый твой ускакал, не достроив замок?
Только шпоры сверкнули, да щёлкнул дверной замок…
Нынче нет у тебя ни друзей, ни родных, ни близких —
Разбежались подальше от барской глухой тоски.
Ты в салоне покрасила локоны цветом виски.
Это больно – смотреть, как блестят сединой виски.
Но куда б ты ни вышла в своей дорогой одежде,
Каждый встречный тебя за глаза назовёт каргой.
Имя с отчеством в паспорте те же, что были прежде,
Только смысл в них сегодня заложен совсем другой.
Ну, а что ты в итоге хотела себе в награду?
Жизнь, печатая книгу дежурной кривой судьбы,
Расставляет свои ударения там, где надо —
То в макушки целует, то в кровь разбивает лбы.
Ты как будто не слышишь, о чём я тебе толкую…
Но довольно болтать – завтра рано вставать. Отбой!».
В этом мире никто не увидит меня такую —
Как рыдаю всю ночь и ругаюсь сама с собой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































