Текст книги "Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики"
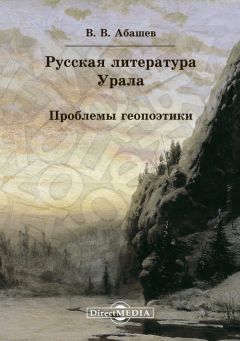
Автор книги: Владимир Абашев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Геопоэтический подход к изучению истории литературы Урала
В 2009 году финалистом литературной премии «Большая книга» и безусловным фаворитом голосования читателей стал путешественник и эссеист Андрей Балдин с книгой «Протяжение точки». Это событие литературной жизни можно считать симптоматичным, если принять во внимание, что читателей и литературных критиков захватил не роман, не биография знаменитого человека, а сборник казалось бы специальных по теме и весьма непростых для восприятия эссе. Дело в предмете размышлений. Андрей Балдин думает о российском пространстве. Перечитывая Пушкина и Карамзина, Толстого и Чехова, он исследует, как соотносятся образы пространства, созданные литературой, и география России: «реальная, географическая и «бумажная» литературная карты» [Балдин 2009: 235].
Книга Андрея Балдина о конфликтах ментальной и физической географии России ответила какому-то общему вектору в развитии нашего сознания. Этот вектор наглядно сказывается, например, в резком повышении семантической активности самого слова пространство. Оно стало повсеместным. Мы описываем им области, лишенные физических измерений, говорим о пространстве духовном, информационном, виртуальном, культурном, экономическом. Складывается впечатление, что в координатной сетке наших восприятий ось пространства начинает если не доминировать, то, по крайней мере, соперничать с осью времени, география с историей.
Этот сдвиг восприятий сказывается и на изучении литературы и, шире, культуры в повышенном внимании к пространственным аспектам ее развития и функционирования. Утверждается понимание, что культура не только развивается во времени, но и размещается в пространстве, взаимодействует с ним, определяя формы его восприятия. И речь в таком случае идет о пространстве не в метафорическом, а в самом буквальном смысле слова – о пространстве географическом, в котором живет, распространяется и которое осваивает национальная культура. Представляется, что понятие геопоэтика может послужить одним из инструментов, а может быть, и одной из стратегий в работе по осмыслению истории региональных отделов русской литературы, в частности уральского.
Слово «геопоэтика» вошло в оборот с середины 1990-х годов во многом благодаря поэту Игорю Сиду, организатору «Крымского клуба» и устроителю первой конференции по геопоэтике в 1996 году. Слово прижилось, и во многом потому, что прозвучало оно, по удачному выражению Андрея Битова, «как бы заранее убедительно», поскольку точно попало в «какое-то больное место, в нерв наступающей эпохи» [Битов 1996: 12]. Иначе говоря, слово «геопоэтика» ответило уже созревшему ожиданию новых смыслов и аспектов именно от пространственного взгляда на мир.
Есть, по крайней мере, два понимания, что такое геопоэтика.
Для живущего во Франции шотландского поэта и эссеиста Кеннета Уайта (Kenneth White) и украинского писателя Юрия Андруховича геопоэтика – это универсальный культурный проект или творческая стратегия, в основе своей имеющая антиурбанистический и антитоталитарный, антиутилитарный и антиглобалистский импульс. То есть геопоэтика – это возвращение к целостному поэтическому восприятию и переживанию мира.
Для филологов геопоэтика – это, естественно, специфический раздел поэтики, имеющий своим предметом как образы географического пространства в индивидуальном творчестве, так и локальные тексты (или сверхтексты), формирующиеся в национальной культуре как результат освоения отдельных мест, регионов географического пространства и концептуализации их образов. Так, в русской культуре есть геопоэтические образытексты Петербурга и Москвы, Крыма, Кавказа, Сибири, Урала, Поморья и т. п.22
По определению эссеиста и путешественника В. Голованова, геопоэтика – это «особый вид литературоведческих изысканий, сфокусированных на том, как Пространство раскрывается в слове – от скупых, назывных упоминаний в летописях, сагах, бортовых журналах пиратских капитанов до сногсшибательных образно-поэтических систем, которые мы обнаруживаем, например, у Хлебникова (применительно к системе Волга – Каспий), у Сент-Экзюпери (Сахара), у Сен-Жон Перса (Гоби, острова Карибского моря) или у Гогена (Полинезия)» [Голованов 2002: 158].
[Закрыть]
По существу, и то и другое значения связаны, как поле действия и рефлексии в одной реальности – реальности символических форм33
О геопоэтике как пространстве творческого действия выразительно сказал украинский писатель Юрий Андрухович: «Это изобретение – слово «геопоэтика» – принадлежит нашему московскому другу Игорю Сиду. Но он, кажется, не вкладывал в него того содержания, которое вкладываю я – геопоэтика как своеобразная альтернатива геополитике. Геополитика является если не циничной, то по крайней мере прагматичной, условно говоря, пространством реальности <…>. Геополитика – это Проди, который говорит, что Украина лежит вне Европы. Геопоэтика же является пространством сверхреальности. Центрально-Восточная Европа из понятия геополитического делается чем дальше, тем больше геопоэтическим понятием, и потому в ней хорошо пишется, и потому именно сегодня в ней так много чудесных авторов и текстов» [Андрухович 2004].
[Закрыть]. Кратко говоря, геопоэтика – это и есть та исторически сложившаяся в дискурсивных практиках (и не в последнюю очередь благодаря литературе) символическая форма, в которой мы застаем объемлющую нас географию.
Хотелось бы особенно подчеркнуть, что, говоря о геопоэтике, мы имеем дело не только с некоей научной абстракцией, просто инструментом понимания, а с живой реальностью жизненного опыта. Геопоэтика вводит нас в сферу чувственных, глубоко эмоциональных и пристрастных отношений человека с пространством.
Есть род писателей-топофилов с особенно обостренным чувством пространства и места, таких как Гоголь, Белый, Пастернак, Бродский. Но в какой-то менее концентрированной степени все мы топофилы или топофобы, у нас есть личные отношения с пространствами и местами. Поэтому, апеллируя к опыту писателей, мы имеем дело все же с общей культурно-антропологической проблемой отношений человека и пространства. Только у писателей-топофилов существо этих отношений открывается ярко и концентрированно, как, например, у Гоголя и Пастернака. Вникая в суть этих отношений, интересно поставить в диалогическое отношение фрагменты текстов как раз этих писателей.
Возьмем, с одной стороны, хрестоматийный пассаж о русском пространстве из поэмы Гоголя.
Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!.. [Гоголь 1952: 80]
Пространство воспринимается Гоголем не статически – как пустая среда или отделенный, дистанцированный объект созерцания, картина, а как органически живая и грозная стихия, объемлющая автора. Контакт с пространством переживается как эмоционально напряженная и эротически окрашенная встреча с иным, не-Я, с непостижимым Другим, как взаимодействие и взаимопроникновение их, как напряженные поиски понимания. Человек вглядывается в пространство, и пространство вглядывается в человека.
Такое динамическое восприятие пространства, реализованное в слове, предвосхищает его видение в литературе ХХ века. Почти как ответ на гоголевское вопрошание: «Чего же ты хочешь от меня?» – прочитываются строки Бориса Пастернака в поэтическом фрагменте «Двадцать строф с предисловием», связанном с романом «Спекторский».
Графленая в линейку десть!
Вглядись в ту сторону, откуда
Нахлынуло все то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.
Отрапортуй на том смотру.
Ударь хлопушкою округи.
Будь точно роща на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.
Как разом выросшая рысь,
Bсмотрись во все, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотрись.
Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.
Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.
По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов? [Пастернак 2003: 1, 232)]
В избранных нами фрагментах произведений так далеко – и исторически, и психологически – отстоящих друг от друга писателей мы находим выражение единого опыта. Отношения человека и обступающего его пространства описываются в форме встречи, взаимного вглядывания и томящего ожидания. Но что ожидает от человека пространство? На этот вопрос отвечает Пастернак44
О телесном характере отношений человека и природного ландшафта глубоко размышлял русский мыслитель и мистик Даниил Андреев. Описывая исторические фазы отношения человека к природе, он отмечал характерное для XX века стремление к восстановлению телесных ощущений природы. «Зрительное созерцание Природы стало уже недостаточным: появилась потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт; и, наконец, в 1-й половине нашего столетия пляж, с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно вошел в повседневную жизнь» [Андреев 1992: 38]. Описания Андреевым собственного опыта переживаний слияния с природой в «Розе мира» окрашены в эротические тона. Как, например, описание купания в реке после долгой дороги в знойный день: «Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души – в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова» [Андреев 1992: 38].
[Закрыть]. С новой откровенностью поэта XX века Пастернак обнажает ту основу отношений человека и места, которая присутствует, но имплицитно у Гоголя. Эти отношения чувственны и эротичны. Едва ли, хотя бы в глухих подсознательных истоках этих строк, не отозвались здесь у Пастернака архаические представления об отношениях человека с землей, материнским ландшафтом.
Заметим, что такое – чувственно-телесное – переживание пространства не является исключительно индивидуальным качеством творческого воображения Гоголя или Пастернака. Для каждого человека отношения с пространством сопряжены с сильными телесными переживаниями удовольствия или страдания, радости или страха. Они сначала соматичны, а уж потом семантичны.
Важно подчеркнуть, что отношения человека и обступающего его пространства у обоих авторов описываются в форме встречи, взаимного вглядывания и томящего ожидания. Зов пространства пробуждает желание понять и ответить (по-пушкински: «я понять тебя хочу, темный твой язык учу…»). Что ожидает от человека пространство? На вопрос Гоголя отвечает Пастернак. Пространство хочет от человека поэмы в смысле ποιέμα – работа, творение, от ποιέω – творить, совершать, строить. Эту глубинную, корневую – энергийно-строительную – семантику слова имеет в виду Пастернак, а не литературный жанр. На эрос пространства человек отвечает эросом творчества. В творческом образном именовании пространства выражается стремление «заколдовать» пространство словом, унять его тектоническое буйство и, осмыслив, назвав, обуздать тем самым стихийную энергию его изгибов, складок и впадин.
Ландшафт предстает поэту как воплощенный, но еще не названный смысл. Искусство именует его, этот смысл. Так получается геопоэтика.
В физической географии Галичина и Прикарпатье – одна территория, но в геопоэтическом смысле это две разные реальности. Замечательно об этом глубинном различии сказано у Юрия Андруховича:
Кочевник (не скажу «завоеватель») инстинктивно избегает историзма. Называть определенный край «Галичиной» для него означает признать, здесь кто-то уже был перед ним. Был – в смысле бытия, а не пребывания. Ему удобнее называть все это «Прикарпатьем». Это ни к чему не обязывает, поскольку является простой констатацией географического факта. Причем с точки зрения восточной, ведь с точки зрения европейской мы находимся за Карпатами, то есть называть этот край следует «Закарпатьем» [Андрухович 1997].
Культура (и прежде всего словесная) формирует геопоэтические реальности, которые, отражая географические, с ними не совпадают. Возникнув и войдя в традицию, они воспринимаются уже как данность и начинают как данность действовать. География требует геопоэтику; возникнув, геопоэтика начинает руководить географией. Об этой напряженной и двунаправленной связи хорошо сказал тот же Юрий Андрухович, говоря о музыке, которая создает геопоэтическое единство Карпат поверх всех разделяющих карпатские страны государственных границ: «этой музыки никогда не было бы на свете, если бы не Карпаты. Возможна и обратная зависимость: не было бы Карпат, если бы не эта музыка» [Андрухович 1997]55
«Нелегко найти в этом мире музыку, более земную, чем гуцульская. По уровню биологического напряжения, телесности, секса и смерти может ей приравняться разве что румынская музыка. Или цыганская. Или музыка гуралов. Или мадьяр. Или словаков. Или лемков. <…> Музыка – едва ли не единственная реальность в призрачной структуре Центральной Европы. Музыка дарует смысл разговорам о ее единстве и уникальности. Она пребывает над всеми хроническими конфликтами и стереотипами. Ее сюжеты странствующие, а персонажи универсальные. Безусловно, этой музыки никогда не было бы на свете, если бы не Карпаты. Возможна и обратная зависимость: не было бы Карпат, если бы не эта музыка» [Андрухович 1997].
[Закрыть].
Действительно, геопоэтические образы играют колоссальную роль в национальном самосознании. За примером не надо ходить далеко. Едва ли найдутся в русской литературе строки и образы, которые сыграли бы в истории русского самосознания роль большую, чем уже процитированный пассаж Гоголя. Есть метафоры, которыми мы живем. Гоголь дал как раз такую метафору русского пространства. Поэтому прав М. Эпштейн, заостряя вопрос: «Какой была бы в нашей душе Россия без этих гоголевских светящихся кpасок, вихpящихся линий, заливистых звонов, в котоpых вдохновенно пеpедан востоpг pаспахнутого пpостоpа и необозpимого будущего?» [Эпштейн 1996: 130] С Гоголем мы вплотную подходим к занимающей нас проблеме: как соотносится доминанта российской геопоэтики с региональной уральской?
Как правило, русское пространство характеризуют определениями дали, шири и безграничности. Это культурный стереотип. Такое геопоэтическое представление было концептуализировано в 30-40-е гг. XIX века. Причем изначально в русскую культуру оно вошло в двух, аксиологически контрастных, вариантах: чаадаевском и гоголевском.
Именно Чаадаев первым проблематизировал и историософски осмыслил факт необъятности России. Он пережил ее пространство как кошмар дурной бесконечности, истощающей созидательные силы нации и выводящей ее за рамки истории.
Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический [Чаадаев 1989: 154].
Беспредельное пространство России у Чаадаева становится впечатляющей метафорой ее исторической судьбы. Оно поглощает время, историю: мы спим, «похороненные в нашей необъятной гробнице» [Чаадаев 1989: 148]. Такая поэтическая и историософская трактовка пространства получит художественное развитие у Андрея Белого в образах его книги стихов «Пепел», у Ивана Бунина в повести «Деревня».
Но культурным стереотипом стал иной – оптимистический – вариант геопоэтической доминанты. С гоголевским патетическим описанием необъятного простора России, который поколение за поколением заучивали наизусть российские школьники, он вошел в общее культурное сознание. Изначально же образ бесконечно развертывающейся русской равнины был ассоциирован с особенностями русской души. Столь же хрестоматийным, как гоголевский образ необъятного простора, стало описание русской песни-души у И. С. Тургенева.
Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос […]. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась […]. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы [Тургенев 1963: 241].
Изоморфность русской ментальности и геопоэтики была доведена до ясности формулы в историософских построениях Н. Бердяева.
Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине [Бердяев 1990: 44].
Такой прямой ход мысли – от представления о пространстве «широка страна моя родная» к представлению о ментальности «широк русский человек» – стал достоянием массового сознания. Почти трюизмом. И в таком виде вошел в массовый политический дискурс.
Итак, в том или ином аксиологическом варианте, но бесконечно раздвигающаяся вдаль и вширь русская равнина, родственная русской душе, стала одной из базовых метафор национальной культуры, ее геопоэтической доминантой. Явно или подспудно, но эта метафора, принятая за аксиому, зачастую определяет исход бесконечных споров о судьбах России66
Со времен Чаадаева и по сей день «факт географический» остается для России фундаментальным тезисом исторического, политического и национального самоутверждения. Более того, внимание к проблемам пространственного развития в его экономических, политических, исторических и идеологических аспектах все более обостряется в дискуссиях о настоящем и будущем страны. В поисках собственного места в мире Россия по-прежнему апеллирует к своему пространству, главному источнику как наших надежд, так и страхов. Неслучайно вопрос о судьбе двух островов приобрел для россиян почти гамлетовский характер. Небесполезен для анализа ситуации недоброжелательный, но все же в некоторых моментах не лишенный оснований взгляд современного французского историка: «Русские так и не сумели ни полностью заселить эти пустынные пространства, ни научиться использовать их с выгодой для себя; роль огромной территории России сводится исключительно к тому, чтобы питать гордыню ее жителей. Просторы эти существенно повышают их самоуважение. «Мы» занимаем шестую часть суши. Возникает впечатление, что это географическое превосходство оказывает влияние на историю русских, придает ей большее величие и большую героичность. Так возникает питательная среда для фантазмов евразийства. По сей день люди, живущие в России, очень тяжело переживают «утрату» нескольких миллионов квадратных километров. Они наотрез отказываются расстаться с двумя японскими островками, которые Сталин в 1945 году объявил частью России. Для многих русских потеря территории равнозначна потере лица» [Безансон 2004].
[Закрыть].
Между тем уральское пространство существенно иное, и оно, как правило, противопоставлено русской равнине. На Урале русскому человеку едва ли не впервые открылись земные недра, их мощь и тайна, и с Уралом в русскую культуру вошла новая модель геопространства, доминирующим началом которой стала не равнинная бескрайность, а темная и неистощимая подземная глубина.
Приведем вполне стереотипное описание: «Могучий горный хребет прорезает с севера на юг необозримые просторы русских равнин. Это Урал, в недрах которого хранятся несметные природные богатства» [Скорино 1976: 3; курсив наш. – А. В.]. Заметим, описываются горы, но речь идет не о вершинах, а о недрах, о глубине. Устремленность в земную глубину – это и есть преобладающий вектор формирования региональной уральской геопоэтики. Она носит ярко выраженный теллурический характер. Лежащее в ее основе чувство земных глубин объединяет ее локальные варианты – пермский, екатеринбургский и челябинский, каждый из которых характеризуется каким-либо преобладающим оттенком теллуризма [Абашев 2008; Литовская 2004; Милюкова 2004].
Такой геокультурный образ Урала начал формироваться еще в литературе XVIII века, но окончательно оформилась эта модель уральского пространства в 1930-е годы в сказах Павла Бажова. У него уральские горы – это горы, уходящие в земные глубины, как бы вывернутые наизнанку.
В иных местах горы под облака ушли […]. А в нашем краю […] горы мелконькие […] все эти горки скопом зовут одним словом – гора. Оно и правильно, потому как по нашим местам гора может оказаться там, где ее вовсе не ждут […]. На что низкое место – болото, а и под ним гора может оказаться. […] Гора сплошной грядой прошла. Недаром ее раньше Поясом земли звали […]. В длину тысячами верст считают, а сколь он широк и насколько в землю врезался, этого никто толком не знает. В поясах по старине, известно, казну держали. Оттого, может, и нашей горе прозванье досталось [Бажов 1976: 146,147].
Необъятности безудержно разбегающейся вдаль и вширь русской равнины бажовский Урал противопоставил глубину, потаенность, потусторонность и сосредоточенность. Тайная глубина земли, хранящая сокровища, и стала постоянным вектором территориального самосознания, главной осью его концептуализаций.
Близкое бажовской традиции сочетание определений (глубина и богатство) мы обнаружим и в осоргинском описании Урала, а еще ранее в уральской прозе и поэзии Бориса Пастернака. Недаром Цветаева сказала: «Нет Урала, кроме пастернаковского».
Геопоэтическая модель Урала, сформировавшаяся в 1920-30-е годы, получила новое развитие в начале 2000-х в прозе Алексея Иванова в цикле его уральских романов: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Золото бунта». Воссоздав с потрясающим эффектом художественной реальности мир средневековой Перми Великой в романе «Сердце Пармы», Алексей Иванов открыл литературе пути к новому художественному регионализму, темпераментному и энергичному, уверенному в себе и думающему без оглядки на литературный мейнстрим. Все романы его уральского цикла объединяет единая и сильная интуиция ландшафта, чувство земли. Чтобы охарактеризовать особенность этого ощущения, сошлемся на одно из интервью писателя. Отвечая на вопрос о своих первых литературных опытах в жанре фантастики, Иванов сказал:
Я ощущаю себя оставившим фантастику как жанр, сам на себя зацикленный, ограниченный собственными рамками, а не стилевые приемы фантастики, настроение фантастики. Ощущение многомерности мира, ощущение, что та реальность, которая перед глазами, – еще не все, чем мир может удивить человека [Иванов 2005: 14; курсив наш – А. В.].
«Настроение фантастики» в уральских романах Иванова проявляется не только и даже не столько в появлении сверхъестественных существ и явлений, сколько в описаниях ландшафта – гор, рек, тайги, звездного неба. Вот характерный пример из романа «Сердце Пармы».
Они медленно шагали по Священной дороге. Трещали кузнечики, во рву у Вышкара пели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Неприкаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только Мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины. Для старого шамана она была словно мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что как тучи плывут над памом и князем, над Мертвой Пармой, над народами, богами и звездами [Иванов 2003: 14].
Здесь в описании панорамы, открывающейся идущим к Гляденовскому холму близ Перми («Мертвая Парма»), «настроение фантастики» сильнее всего выражается не в духах, бродящих по лесу, а в мощных метафорах, выражающих жизнь и силу холма – «огромного сердца земли». Конечно, можно сказать, что такое восприятие выражает архаическое сознание. Действительно, оно вводится в повествование как взгляд старого шамана. Но в романе «Географ глобус пропил» то же видение и чувство ландшафта приписано современному человеку, учителю Служкину. Перед нами, несомненно, авторское ландшафтное чувство. Алексей Иванов в формах ландшафта чувствует и видит непостижимую жизнь и неукротимую энергию земных глубин. Его горы и реки живы не в смысле банального метафоризма, а по существу: их энергия определяет ход истории и человеческих судеб. Эта интуиция и превращает его пейзажи в геопоэтические образы. Алексея Иванова эстетически притягивает древнее, неведомое, вышедшее из темных и страшных земных глубин. В мифопоэтических терминах Алексей Иванов чувствует Землю преимущественно как χθων. В своей хтонической ипостаси Земля открывается как темная бездна, порождающая чудовищное, как мир, куда уходят мертвые.
В уральской прозе Алексея Иванова с новой степенью художественной убедительности и глубиной интеллектуальной рефлексии реализуется традиционная геопоэтическая доминанта Урала. Ее же хтонический колорит связан с локальной пермской традицией.
Есть основания полагать, что хтонически окрашенный уральский теллуризм как геопоэтическая доминанта региона уже приобрел черты универсального культурного стереотипа. Сошлемся хотя бы на фильм Python II (2002) совместного американского и болгарского производства. Для нас фильм интересен именно тем, что это продукт массового кинопроизводства, использующего максимально распространенные культурные стереотипы. В основе сюжета фильма лежат перипетии охоты американского и российского спецназа на громадного питона, появившегося на свет в результате секретных генетических экспериментов. Характерно, что чудовищный змей скрывается не где-нибудь, а именно в глубинах Уральских гор. Милитаристская репутация Урала сливается здесь с хтоническим субстратом его мифологии.
1990-е годы стали временем расцвета территориального самосознания. В это время региональная геопоэтическая доминанта, апеллирующая к земным недрам, дополнилась принципиально новыми акцентами. Формируется мессиански и эсхатологически окрашенная неомифология Урала, и региональная геопоэтика приобретает геополитические проекции.
Один из влиятельных примеров их проявления – роман Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии». Он вышел в 1998 году и приобрел массовую популярность. Для многих энтузиастов уральского культурного самосознания он даже стал авторитетным источником сокровенных знаний об Урале. Это типичный авантюрный роман с элементами фэнтези. Его художественные достоинства невелики. Но сюжет романа вписан в довольно внятно прописанную геополитическую и историческую схему. Именно в ней и сосредоточен интерес поклонников романа и секрет его немалого успеха. Суть этой концепции сводится к утверждению, что Россия и славянские народы – естественные преемники древней арийской цивилизации, поскольку, как пишет Алексеев, «никогда не покидали ее [первородного] ареала […] и оставались в ее космическом Пространстве» (102). Между тем древняя прародина ариев, их родовое пространство – это не что иное, как Северный Урал.
Именно здесь, на Урале, согласно С. Алексееву, сосредоточено «самое мощное скопление ‘перекрестков’» (своего рода центров сосредоточения геокосмической энергии – А. В.):
Словно кто-то встал посредине Евразийского континента и сгреб руками все астральные точки с запада и востока, заодно насыпав гряду Уральского хребта. Но более, чем своим открытиям и расчетам, более, чем магическому кристаллу, Русинов доверял сохранившейся топонимике. УРАЛ буквально означало – «Стоящий у солнца» [Алексеев 1998: 40].
В пещерных лабиринтах, объединяющих воедино весь уральский хребет, до сих пор хранятся сокровища древней цивилизации, по сию пору охраняемые ее наследниками. Они должны стать основой грядущего возрождения России. Историческая задача героев-патриотов в том и состоит, чтобы Россия вспомнила свое древнее наследство, осознала себя как самостоятельную Северную цивилизацию и собрала вокруг себя арийские народы. Тем самым Россия восстановит исконное мировое Триединство человечества, соответствующее космическому порядку: Восток, Запад и гармонизирующий их противостояние Север.
Такова фантастическая геополитическая схема, в центре которой размещается Урал с его неисчерпаемыми недрами – истинный центр России и основа ее будущего. Авантюрные перипетии романа развертываются в реальном географическом пространстве Северного Прикамья: Березники, Соликамск, Чердынь, Красновишерск, Ныроб, реки Вишера и Колва, узнаваемые ландшафты Северного Урала. Именно здесь в знакомых уральцам местах таятся, по роману, остатки городов древних ариев, а в гигантских пещерах хранится наследие исчезнувшей цивилизации. Роман Алексеева поэтизирует и мистифицирует Урал как энергетический центр мира, колыбель человечества и место его спасения и передоверяет ему мессианскую идею России.
Такое превращение региональной геопоэтики в геополитику вряд ли можно считать неожиданным. Оно было подготовлено традицией регионального самосознания. Уже в 1920-е годы, например, в работах пермского профессора краеведа Павла Богословского выдвигался тезис о том, что на Урале сложилась особая «горнозаводская цивилизация» [Богословский 1927: 24]. Отсюда недалеко и до идеи Уральской Республики, обсуждавшейся в 1990-е годы. Во всяком случае, геопоэтические интуиции подспудно питают и геополитические фантазии, и геополитические конструкции.
Связь геопоэтических интуиций с геополитическими, кстати, прозорливо предполагалась Хлебниковым, в ряде статей 1910-х годов сформулировавшим своего рода геопоэтический проект русской литературы. Так вот, Хлебников допускал, что «стремление к отщепенству некоторых русских народностей объясняется, может быть, этой искусственной узостью русской литературы. Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым» [Хлебников 1987: 593].
Солидаризируясь с этой позицией, мы полагаем, что изучение геопоэтического текста имеет не только культурологический и филологический, но и практический политический интерес.
Если же суммировать все сказанное в отношении обсуждаемого нами проекта истории литературы Урала, то следовало бы сказать следующее. Изучая литературу Урала, мы, как принципиальную предпосылку изучения, должны осознать, что ’УРАЛ’ – это не только территория, с которой связаны такие-то и такие-то писатели, но и геопоэтическая реальность, этими же писателями во многом созданная.
Становление геопоэтики Урала – это и один из интереснейших сюжетов истории русской литературы, и ракурс исследовательского взгляда, позволяющий по-новому посмотреть на творчество региональных писателей. Поэтому в заключение позволим себе высказать предположение о роли Д. Н. Мамина-Сибиряка в становлении уральской геопоэтики, которое в более развернутой форме мы разовьем в следующем очерке.
Принято считать, что в описаниях Урала у Д. Н. Мамина-Сибиряка преобладает социологический и этнографический аспекты. Очевидно, так оно и есть. Но одновременно в прозе этого писателя начинают формироваться собственно геопоэтические образы Урала или хотя бы намечается вектор формирования таких образов. Более подробно мы остановимся на этом вопросе в следующем очерке, а пока обратим внимание хотя бы на то, как традиционная романтическая фразеология душевных глубин у Мамина-Сибиряка трансформируется (и это, очевидно, уже особенность регионального писательского опыта) во фразеологию переживания глубин уральской земли, таящих в себе сокровище – золото.
Иногда параллелизм этих рядов, душевного и земного, теллурического, выстраивается прямо и наглядно. Так, например, в романе «Золото».
<…> он совершенно забывался <…>, прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе и какими родовыми муками добываются такие крупицы… Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути [Мамин-Сибиряк 1983: 129].
В других случаях мы наблюдаем, как, наоборот, в описание душевной жизни подспудно включаются элементы теллурического кода.
Бывают такие моменты, когда человек начинает проверять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек производит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет камня на камне. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренно обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой драгоценного металла, гарантированного природой от опасности окисления [Мамин-Сибиряк 1981: 5, 131; курсив наш – А. В.)].
Выделенные в этом этюде психологического анализа выражения могут быть прочитаны в теллурическом ключе как термины испытания земных недр. Происходит очень плотное наложение двух рядов. Тем самым, с одной стороны, вполне тривиальное психологическое наблюдение приобретает неожиданную осязательную убедительность. С другой стороны, не менее стертая романтическая фразеология приобретает устойчивую геопоэтическую проекцию, и, как следствие, намечается путь к концептуализации ландшафта.
У Мамина-Сибиряка мы уже встречаем вкрапление хтонических образов в описание уральских недр.
Лука Назарыч несколько раз наклонялся к черневшему отверстию шахты, откуда доносились подавленные хрипы, точно там, в неведомой глубине, в смертельной истоме билось какое-то чудовище. Откуда-то появился рудничный надзиратель, старичок Ефим Андреич, и молча вытянулся пред лицом грозного начальства [Мамин-Сибиряк 2002: 158].
Таинственная одушевленная глубина земли, недра, где спрятано сокровище, чудовищное, таящееся в подземном мраке, – все это элементы будущей геопоэтики Урала, которые уже рассеяны в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка и в будущем сфокусируются в образах Б. Пастернака и П. Бажова, а позднее в уральских романах Алексея Иванова.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































