Текст книги "Священник – тот, к кому приходят люди"
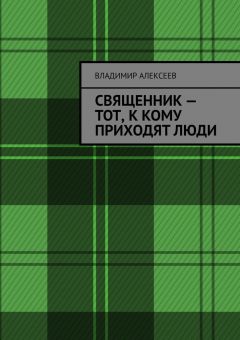
Автор книги: Владимир Алексеев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Священник – тот, к кому приходят люди
Владимир Алексеев
© Владимир Алексеев, 2023
ISBN 978-5-0059-4503-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Священник – тот, к кому приходят люди…»
Священник – тот, к кому приходят люди.
Апостол – тот, кто к людям сам идет.
У каждого свой дар, и горько будет
Его употребить наоборот.
Молитвой созывать под своды храма,
Или входить под чей-то чуждый кров?
Припоминай, чтобы избегнуть срама,
Святое разделение даров.
Брату за границу
Словно на лоскутном одеяле —
Карты мира пёстрые куски.
Чем бы нас теперь ни разделяли,
В письмах мы не так уж далеки!
Поздравляю с Рождеством Христовым —
Не рассечь границам Рождество!
По Земле без визы ходит Слово,
Выше и свободнее всего.
Кроме экономик и политик
Есть другое, тоньше и важней.
Есть весна, и каждый малый листик
Радостью и светом полон в ней.
Лето есть с заботой урожая,
Ярок дней осенних хоровод,
А зима, надежды умножая,
Снова дарит праздник – Новый Год.
С Новым Годом! Будто от причала
В плаванье сквозь дни календаря,
Мы уходим, радость улучая,
И ответно радостью даря,
Разный курс по разным водам держим,
Разных рек проходим рукава,
Чтоб вернуться с общею надеждой
К Вифлеемским яслям Рождества.
Друзьям-иконописцам
В Праздник Торжества Православия
Наверное, пришло б на ум: напиться,
Устроить непотребство и дебош,
Когда бы не труды иконописцев:
Усовестят любого, хошь – не хошь…
За дверью – перехожие калики,
И грай ворон, и песни под гармонь,
А в полумраке – образы и лики,
Святой лампадки меркнущий огонь.
Так где-то в прошлом веке (век бесовский!),
Придя однажды в церковь, не в кабак,
И каялся, и падал ниц Высоцкий,
А Влади хохотала: во, дурак!
Остался бард без Бога, вне ограды:
«Друзья» «спасли», из храма увели.
А в храме тлели светлые лампады,
Как звёзды, догорая средь Земли.
По-братски балагуря над обедней,
Вели под ручки шут и острослов,
Был обращён напрасно взор последний
На золото сусальных куполов…
И вновь была трагедия: напиться,
Устроить жизнь, чтоб было «всё не так!»
Когда б в его друзьях – иконописцы,
А не актёр, не комик, не пошляк…
С искусной кистью в мастерской, левкасы
То линией, то краскою даря,
Поэту уделите четверть часа,
Когда поэт стоит у алтаря.
В словесной пустоте не дайте скиснуть,
Гулять и пить с шутами заодно;
Ведь вам дано, друзья-иконописцы,
В небесный рай распахивать окно.
Где дым кадильный прихотливо соткан,
Где лики над душой имеют власть,
Быть может вновь придёт другой Высоцкий
Покаяться, одуматься, припасть…
И пусть влечёт к иной утехе Влади,
Глумливо, иностранно, со смешком,
Поэта вразумите, жизни ради,
Иконы Православной языком!
«Мы праздны в помыслах – ну что же!..»
Мы праздны в помыслах – ну что же!
Ты – Вечность, мы – слепые дни.
Глубокомысленность ничтожеств
Нам в преступленье не вмени.
Нас оплетают лжи и сплетни
Насквозь кореньями эпох.
Враги у нас тысячелетни,
А мы – веков короткий вздох.
Нам оправдаться будет нечем,
Ни песни в нас, ни слова нет.
Но Ты столь благ, насколько вечен,
И нам, безгласным, даришь свет.
Как огонёк в стеклянной лампе
В нас брезжит Духа благодать,
К божественной склоняя ласке —
Не взять у ближних, но отдать.
И там, где сердце ищет строки,
Чтоб объяснить себя иным,
Каким бы горьким и жестоким
Отечества ни стлался дым,
Убогий быт пути земного —
Сильней всего, верней всего —
Порой пронизывает Слово
Лучами света Твоего.
«Жизнь всё быстрее катится с горки…»
Жизнь всё быстрее катится с горки.
Можно весною думать о зимах.
Где наши образы юных, бойких,
Непобедимых, неотразимых?
Те зеркала давно уж разбиты,
Пылью подёрнулись, постарели.
Кто на коне? Подагры, артриты.
Болью подстрелены менестрели.
Не побряцаешь, как встарь, на лютне
Пальцем негнущимся и корявым.
Совестно быть нам на месте людном,
Склонным по-прежнему к гордым нравам.
Всё изменилось, как ни хотели
Век вековать, оставшись на гребне.
Больше – молитвы теперь по теме,
Сны о Борисе, думы о Глебе.
Где было ясно – стало кромешно.
Тёмная ряска вместо стихии.
Время показывает неспешно,
Кто мы такие, кто мы такие.
«Толпа – фуфаечки, кепарики…»
Толпа – фуфаечки, кепарики,
Топорик каждому не внове.
Гундосят тонкие комарики,
Чтоб отолстеть, напившись крови.
Тайга – она не променадная,
Ни лоск, ни форс не понимает.
Зимой, когда согреться надо бы,
Мороз до дрожи пронимает.
А летом – гнус, такое времечко,
Одёжный пот – не для парада.
Течёт толпа, глухая реченька,
Из запашистого барака.
Барак поскрипывает нарами,
От тел пригорбленных избавясь.
Так под ветвями сухопарыми
Свободы дерзкой зреет завязь.
Так дума тайная крамольная
На темя потом проступает.
Так старый поп в земле намоленной
Могилу для себя копает.
Когда в барак загонят поскору
Конвой, нужда и непогода,
Приснится рай, Христос с Апостолом,
А может – Сталин и Ягода.
«Дом расширен и стеснён…»
Дом расширен и стеснён
Серым сумеречным часом.
Только нимбы у икон
Золотятся над левкасом.
Только пламя в камельке
Юрко скачет, словно белка,
В каждом малом угольке
Рассыпая искры мелко.
Что за окнами? Туман,
Стрёкот августа цикадный.
Разложи архив бумаг,
Правь рукою беспощадной.
Мни и комкай ночи, дни,
И бросай без страха в топку.
Пых, да пых – огни, огни.
Были – были, ну а толку?
Был ты, не был – кто прочтёт?
Только ветер над трубою.
И велик ли в том почёт —
Грезить участью другою?
Всё туманно вдалеке,
Славит истину, не брешет
Только этот в камельке
Огонёк, что душу тешит.
«Туман свивается над речкою…»
Туман свивается над речкою,
Где норов трав остёр и сыр.
Покрыт епитрахилью вечера
Закатный мир, остывший мир.
Полоска узкая на западе
Ещё горит над ивняком.
Вблизи рогоза в тёмной заводи
Шевелит рыба плавником.
А звёзды сыплют в небо искрами
Недосягаемую даль,
Как будто принимая исповедь
В апостольские невода,
Как будто обнимая ласкою,
Не укоряя, не журя
Давно невзрачную, не баскую
Больную душу сентября.
Листва бесшумно, редко падает
С ветвей ракит, с ветвей берёз.
Луна огнистою лампадою
Пророчит утренний мороз.
И будет путь подмёрзшей глиною
Туда, где теплит свой Престол
На взгорке церковка старинная
С давно обрушенным крестом.
«Люди кормятся не былиной…»
Люди кормятся не былиной,
А в пельменной или же в блинной.
Люди кормятся небылицей,
Искажающей дрожью лица.
Люди кормятся – да и ладно,
От Нью-Йорка до Таиланда.
Ведь у тела такая тема:
Восполняется пищей тело.
А душе не того ли надо,
Чтоб была она жизни рада —
Независимой жизни чуда
От меню и от цен на блюда,
Независимой от погоды,
От поветрий бесед и моды,
От того, каковой на трассу
Выгоняем мы личный транспорт,
И доступна ли нам свобода,
И какая у нас работа,
И даётся ли книга жалоб —
Хаять всё, что нас окружает.
Не пошла как ждалось карьера?
Есть надежда, любовь и вера.
Интернета сайты зависли?
Мир души от них независим.
Кто-то круче, кто-то богаче?
Пожелайте ему удачи.
Не твердите себе: «На дне я!» —
Если прожили день, беднея.
Небылиц-новостей не ладьте,
Дрожь лица покоем изгладьте,
Не забыв при том, тем не мене,
Про блины, а также пельмени.
«Отстань от нас, мирок гламурный…»
Отстань от нас, мирок гламурный,
Где заправляет шоумен.
Нам не хватает целомудрий,
В них Богом дух ошеломлен.
Не морок страсти бездуховной —
Словес серебряных литьё
Звучит торжественно-церковно
Без карамзинской буквы «ё».
Что зазываешь: «Кола, кола!» —
Рекламы бойкая юла?
Наш век приветствуют спокойно
Колокола, колокола.
Они неспешно призывают
Не так, как в армию призыв,
К тому, чтобы душа живая
Смогла, на мир глаза раскрыв,
Взамен путей, сперва удобных,
А после – плакать, не свернуть —
Избрать дорогу преподобных,
Святых бессребреников путь.
С него виднее волчья шкура
В её экстазе пробивном
На рёбрах алчного гламура
Под агнчим ласковым руном.
Летописец
Пишет слово Нестор-летописец,
На чело надвинув куколь строгий,
Не затем, чтоб в Лете утопиться,
С тем, чтобы ковчег ему устроить.
Пишет не спеша пером гусиным,
Пестует любую запятую,
Пишет с верой в будущность России,
Хоть и знает только Русь Святую.
От Калининграда до Китая
Слово есть в любой библиотеке.
Ты его едва ли прочитаешь,
А оно подарено навеки.
Ждёт, подобно плачу Ярославны
Водворившись на стене высокой,
А потомок леностно расслаблен,
Выбирает «Численник» и «Сонник».
А потомок потому и беден,
Что ничто ему не интересно,
Что, заслышав благовест обеден,
Морщится досадливо и пресно.
Что свечу не ставит на кануне,
Для убогих пожалеет лепты.
День, прожитый гордостно пануя —
Горек, как ни мажь его на хлеб ты.
Пишет слово Нестор-летописец
Не затем, чтоб в нашу душу глянуть.
Там – родник, а мы несём опивки,
В торбочках у нас гламур и глянец.
Мы почти гордимся перед всеми
Навыком чизкейкить и хотдожить.
И кому, скажи, в такое время
Летопись минувшего продолжить?
Ещё о молитве
Где есть холопство и «элита»,
Где слово всякое непрочно —
Не приживается молитва,
Не та для веры в Бога почва.
«А если добро безруко…»
А если добро безруко,
Не сжать ему кулаки?
Так стало быть, на поруки
И брать его не с руки?
Пускай себе прозябает
В бараке, в курной избе,
Пускай себе погибает
И водку глушит в себе?
А если народ наш вымер
Как общность и как народ,
Как вывернуть смыслов вымя
Как должно, наоборот?
Полно по Руси ищеек,
Всё сыщут, что ни проси,
А где же он, тот священник,
Что нежит руно Руси,
Поднимет её с колена,
И к солнышку понесёт?
Всё – трусость, обман, измена,
Всё – страха смердящий гнёт.
Как древние иудеи
Расходимся в темноте,
А Тот, кто за нас радеет,
Останется на кресте.
«Чтоб мир делить на правых и неправых…»
Чтоб мир делить на правых и неправых,
Как минимум, быть нужно божеством.
Но у кого, скажи, такое в планах?
Я с гражданином этим не знаком!
Ему, поди, закон совсем не писан.
Он, правомочен сам судить других,
Легко проходит по небесным высям,
Не намесив земли на сапоги.
Где встретится река – не ищет брода,
Где встретит море – ходит по воде.
Его непогрешимая природа
Чужда обычных суетных надежд:
Не быть забытым и не быть убитым,
Поспасть, поесть, подумать о семье.
Лишённый вечной сутолоки быта
Он даже не помыслит о себе.
Он одинок, бесстрастен и всевластен,
Бесстрашен он, не так, как ты и я;
Он не крестьянин, он не носит лапти,
Не воин он, не носит он ружья.
Но Бог от Девы не родится дважды.
Нет, не Христос, скорей – Антихрист он:
Наш Бог ходил средь нас, алкал и жаждал,
И нами был на гибель осуждён.
Сон
Если собираются люди вместе,
каждый других старается перекричать.
А космос молчит, поддавшись лунной сиесте,
на нём покоя призрачная печать.
Мы так малы на фоне его галактик,
так безвоздушен холодный его ковчег,
что не пронять всем крикам кино-Коламбий
бескадровость однообразных ночей.
Все взрывы сверхновых, туманности и квазары —
лишь бледные тени мистерий первого дня,
когда мы смотрели не знавшими сна глазами,
и точка зрения всюду была одна.
Когда человечество знало в одном Адаме
призвания тварей и все имена вещей,
и думалось – это от нас не уйдёт с годами
в сырые провалы холодных земных пещер.
Выслушивать ближних и что-то решать соборно —
не нужно было. Но если размножить люд,
то каждому выдать положено дар свободы,
за который позже и высмеют, и убьют.
Всё будет потом – поцелуй, продающий дружбу,
и крест, что на холм от ворот городских несом.
Ты волен решать, избирай же свободу, ну же!
Бог видит всё,
погружая Адама в сон.
«В жизнь нарезая круги…»
В жизнь нарезая круги,
Радуясь или скорбя,
Думая: видим других,
Видим мы только себя.
Жесты, пожатия рук,
Сюр выражения глаз —
Всё, что мы видим вокруг,
Суть отражение нас.
Много словес под рукой,
Только и слышим себе:
Этот такой да сякой,
Та до конца не в себе.
День неудачлив и хмур,
Новый начальник – дурак,
Как бы сказал Эпикур,
Всё здесь, ребята, не так!
Крутит колючий клубок
Нитку суждений лихих.
Пагубен и неглубок
Нами написанный стих.
Праведник – кто он такой,
Вас, как поётся, ист дас?
Что он умеет, святой,
Против всеведущих нас?
Разве что он не слепой,
Дар прозорливый снискал —
Не упиваться собой
В мороке многих зеркал,
С сердца обратно отвив
Свары колючую нить
Верно увидеть других
И о себе рассудить.
«Останется тайной без тоги слова…»
Останется тайной без тоги слова,
И даже без тонкой простой туники
Написанной слогом болиголова
Отчаянно звонкой простой музыки,
Как зреет в яйце змея или птица,
Гадательной в Святки песни подблюдней,
Как праздничной кожей стареют лица,
Врастая в морщины текучих будней,
Как море уходит в узор расселин
Скалистого берега в час отлива,
Как все мы, сосед, когда дом расселен,
Расходимся сухо и молчаливо,
Как с космосом дружат космополиты,
Граня для Земли могильные плиты,
Как Бог меня слышит и без молитвы,
И как я не слышу Его в молитве.
«Глаголом «падать» страсти подать…»
Глаголом «падать» страсти подать
Плачу. Тяжёл её оброк.
Как жаль, что не летать, а ползать
Сам человек себя обрёк.
Нас искушает дар свободы.
Под звуки страстных кастаньет
По сути, целые народы
Путём греха сошли на нет.
И я иду и претыкаюсь,
Едва встаю и вновь иду.
Рубцы охватывают память
И погружают ум в аду.
А есть ли рай? Когда б свобода
Лишь избирать грехи была
Дана – отчаянно и гордо
За локти принимать крыла,
То не было б на небе рая,
И смерть была бы наш предел.
Но я то знаю, я-то знаю,
Я это время подглядел:
Предощущая к небу встречность
И душу крыльями пьяня
Проклюнется живая Вечность
Из жалкой гусеницы дня.
«Вот тело, с которым…»
Вот тело, с которым
когда-то расстанусь.
Его донимают
болезни и старость.
В нём время о смерти
вопит оголтело.
И стоит ли пестовать
прихоти тела?
А что там в душе моей?
Холод и скверна.
Любви не имею.
Всё верно, всё верно.
Светильник мой гаснет,
и тьма его властно
мне шепчет о том,
что душа не прекрасна.
Вот Бог, о котором
я помню нечасто.
Сказал духовник:
оттого и несчастья.
Вот Бог мой,
умеющий тихо, бесшовно
срастить
обречённое тело с душою.
Как сделать мне выбор?
Одна благосклонно
безмолвно с божницы
взирает икона.
Есть место для нас
между адом и раем.
А дальше —
мы сами себя понуждаем.
«Я видеть Бога в тихости икон…»
Я видеть Бога в тихости икон
вдруг перестал —
случайно, незаметно.
И я теперь молюсь Ему иначе.
С начальною молитвой подхожу
к окну, в котором —
тот же самый город,
такой же, как оставленный вчера,
с безумством строек, с шумом автострад,
ползущим с кольцевой дымком окраин —
быть может, кто-то жарит шашлыки,
а может, пир священных инквизиций
готовит веку аутодафе.
Я мир воспринимаю как картинку,
всю целиком, без видимых деталей,
без уточнений
здравого рассудка:
что Сам Творец здесь создал,
что – рука
строителя заезжего, узбека.
На паралелепипедный ажур
подъёмных кранов
медленно взираю.
Один из них трёхцветен,
словно флаг
сегодняшней страны:
внизу морковен,
посередине гибельно-синюшен,
а выше, выше – просветлённо-бел.
И я молюсь на этот шумный город,
на все его строительные краны,
на быт узбеков в маленьких бытовках,
что громоздятся, словно Вавилон
или волна всемирного потопа.
Я знаю: город должен быть разрушен
как Карфаген, как Рим, Константинополь —
наплывами безумства и времён,
ободран, словно старые обои,
с древесных рёбер ветхого пространства.
Тогда, ничем от взора не закрытый,
душе моей предстанет Вечный Бог.
Сквозь зелень трав,
голубизну небес
задолго до конца
в молитве вижу
я светлый лик Небесного Отца.
Скажи мне, друг,
что это не крамола?
«В ночи от района вокзального…»
В ночи от района вокзального
И дальше как сеть перемёт
Большое багровое зарево
Вздымается, пухнет, встаёт.
Не лги по науке, по грамоте,
Что это лишь фон световой.
Там смерть молодая играется
С соломенной жизнью-вдовой.
Куражится смерть приглашённая:
Сломай, а не можешь – погни.
Как будто стерня подожжённая
Мерцают и гаснут огни.
До звёзд о любви здесь наболтано,
А там – из несбывшихся мам
Срываются звёзды абортами
К неонам кровавых реклам.
И рельсами, рельсами, рельсами,
Не зная конца колеи,
Стремятся отсюда невесело
Не бывшие други мои.
Теплушки, что смотрят скворешнями,
На миг раскрываются тут,
И души, ещё не созревшие,
К Творцу по этапу идут.
«Только Бог отпускает грехи, а священник – свидетель…»
Только Бог отпускает грехи, а священник – свидетель,
Но чужому греху я свидетелем быть не могу.
Здесь никто не безгрешен: ни старцы, ни малые дети,
Здесь мы все перед всеми, и все перед Богом в долгу.
Он нам дал эту землю, отчасти подобие рая,
Пусть и с гнусом болот, и с изрядным пластом мерзлоты,
Мы же жили на ней святотатствуя и умирая:
Убивая других, до конца умираешь и ты.
Мы же ткали на ней паутинную тонкую пряжу
Трусоватых доносов и рапортов ложных побед,
И была нам мечта: полететь, походить бы по пляжу,
Только крыльев к полёту до рая у аспидов нет.
Мы варили бульон в коммунальных рассерженных кухнях
Из безмясых мослов золотого чужого тельца
И входили в метель, телеса в полушубки закутав,
Но открыв нараспашку свои ледяные сердца.
Только Бог отпускает грехи, а священник – свидетель,
Но греху своему я свидетелем быть не могу.
Если очи даны, мы должны в небеса проглядеть их,
Если парус нам дан, нужно жить на большом берегу.
Ну а мы, ну а мы на портянки тот парус раздрали,
На онучи, чтоб было теплее в хмельном феврале.
И живём не у синего моря, а в полуподвале,
Проводя между игом и нашей судьбой параллель.
Но не иго монголо-татарское в нас пустословит,
Не тевтонский крестовый поход в нашем сердце болит.
В нас беспамятство копится слой за бесчувственным слоем
И фиал нашей речи в отхожее место пролит.
В нас беспамятство копится купно, бездумно, вседневно,
И ему как и нам у креста покаяния нет.
Обращайтесь к священникам – мудрым, больным, поседелым.
Чем вам может помочь загулявший на тризне поэт?
«Помню школу свою, что «Гестапо» в районе звалась…»
Помню школу свою, что «Гестапо» в районе звалась,
Правда, я-то не знал, увлекаясь учёбой и книгой.
С нашей школой давно и навечно оборвана связь,
Но стоит она прежней, не маленькой и не великой.
Здесь мои однокашники, нынче – крутые менты,
Ошивались придурками, младших строжа и калеча.
Здесь был каждый десятый с любой историчкой на «ты»
И похабное смрадно лущил из Есенинской речи.
Им ударить бы в пах, да тишком опрокинуть в сугроб —
В этом виделась доблесть, а мне-то казалось, что подлость.
Впрочем, нрав физруков был не менее слеп и суров,
Это было, пожалуй, как Южный и Северный полюс.
Ни имён, ни фамилий по-прежнему не назову:
Пусть живут и творят в ожидании Судного часа.
Но преддверие драки запомнилось как наяву
И садиста треклятого, злыдни, кривая гримаса.
Я б убить его мог, только взял поперёк в перехват,
Ухайдакать как тлю, раскрошить черепушку о стену.
Собралось поглазеть на разборку немало ребят.
Что ж тут? Первый этаж. Это было как раз в перемену.
Но потом отпустил, вразумлённый Небесным Отцом:
Мне не бить – убивать, если только с собою расстанусь.
Он три раза ударил ладошкой наотмашь в лицо,
Утверждая, шпана, короля не поверженный статус.
По каким вы подвалам района прошли, короли,
И в застенках каких, повзрослев, наши судьбы пытали?
Ваши души смердящие – оторопь нашей земли,
Состоящие сплошь из желудков, зубов, гениталий.
Если где-то и жил Вездесущий Всеведущий Бог,
То они и к Нему подходили с камнями под окна.
Сколько раз наглецы задевали меня на «слабо»
И махали в лицо недокуренной страстью подонков.
Но страшны не они среди тысяч мне ведомых лиц.
Пусть дела их негодны и смрадны, я знаю, я знаю —
Из задиристых мальчиков путних не выйдет убийц,
Все убийцы светлы и тихи, словно ангелы рая.
«Зарядили дожди револьвер старой русской рулетки…»
Зарядили дожди револьвер старой русской рулетки.
Вот и жду как проклятья сухого и светлого дня,
Где и порох не вымок, и пули безжалостно метки.
И надеюсь, глупец: этот день не погубит меня.
Всё мечтаю, что там будет вечер и дедова печка,
И рассказы о прошлом, и дух сковородки грибной.
Я зачем-то уверен, что всё же бывает осечка,
И что может случиться – случится опять не со мной,
И не с кем-то другим. Просто выдаст боёк непродажный
Не отчаянный выстрел, а немощно тихий щелчок.
Будем живы мы все и всегда, остальное неважно,
Можно спрятать все слёзы глухими морщинами щёк.
Подведи, револьвер! Подведи не под морок расстрельной
И безглазой совсем, и всевидящей грозной статьи.
Всё мерещится ночью, как час предрассветный последний
Ожидали в тридцатых товарищи-други мои.
А пока же всё льёт тихоструйно – то прямо, то косо,
Но клубится закат, что-то движется там, впереди,
И паук-сенокосец, невзрачный божок сенокоса,
Заседает в сенях и вовсю проклинает дожди.
«Ушедший век рабовладений…»
Ушедший век рабовладений,
Вождей взводя на зиккураты,
Свободу мог нам дать от денег,
Бил сильно, зло, но аккуратно.
Был шанс – укрыться от уродов
И наплевав на недоимку
Трудиться в личных огородах,
Уйти на дальнюю заимку.
Пришедший век рабовладений
Фасеткою видеокамер
Таращит морок беспредельный
Инферносферы уникальной.
Ты не уйдёшь. Ты оцифрован,
Ты погрузил в безумство разум,
Ты всей душою обворован,
Ты телом к нужнику привязан.
А кто в себе лелеет гонор
Радеть за званье человека —
Ошейником сжимает горло
Рубля железная опека.
Уже не люди вы, а трефы,
И ваш удел – лететь на рифы.
Обсели край каньонов грефы,
Ах, виноват, обсели грифы!
По косточке, по потрошочку
Растащат то, что было плотью.
Езжай хоть чем, ходи пешочком —
Ты всюду «за», никто не «против».
Никто не против злой вакцины,
Никто не против доброй маски.
Во имя не Отца, не Сына,
Не Духа сказывают сказки.
Как будто от нечистой силы
Гуртом испитых политурок,
Богатыри у них – дебилы,
И князь Владимир – полудурок.
И всё Святой Руси крещенье,
Как бы в Пекине и в Нанкине,
Сжирает мощное крещендо
Демократических валькирий.
Пришедший век рабовладений —
Конечный. Граждане, слезайте!
О мире кончились идеи.
Кто должен жить? Одни мерзавцы.
Ржавь золотого миллиарда,
Карбункул полумиллиона
Тех чётких пацанов реальных,
Что родились во время оно.
Ушедший век рабовладений —
Ничто, детсадовское нечто.
Над прежней классикой балдея
Назло всему, теперь – навечно
Здесь всюду демоны пируют,
А не простые партократы.
Недаром нынче драпируют
Вождей ушедших зиккураты.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































