Текст книги "Казак Луганский"
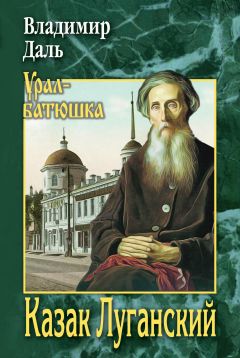
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Осип как будто этого и ждал: как только у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осип встал, попросил прощенья у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел а контору.
– Здравствуйте, батюшка, Иван Тимофеич, – сказал он. – Много благодарен милости барской и вашей, что не разорили вы меня, а ждали оброк с меня третий год. Что Бог дал, я принес, вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили задаром, да уж за это Бог их простит, а напраслины им терпеть нельзя: чемодан-то я срезал сдуру у проезжих, вот и топор мой, им и веревки обрезал, да опосля бросил, не взял ничего; а они ни в чем не виноваты, они пришли на готовое. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеич, вы меня, грешного, – продолжал Осип, повалясь в ноги, – что и вас, то есть и барина, я этим изобидел; а меня прикажите вести в суд: видно, судьба моя такая.
Двухаршинный нос120120
Впервые – журнал «Современник», 1856.
[Закрыть]
– Ну, извозчик, теперь мы с тобой выехали на простор: за рогаткой не будет езды такой, как в городе, и разговориться тебе свободно: сказывай же!
– Да что, батюшка барин, что вам сказывать-то? Житье-бытье наше известное – не барскому чета, а Бога гневить нечего, жить можно.
– Оброку что платишь?
– Оброку? Да оброку-то, вишь, многонько платим; оно бы и ничего, кабы его добыть можно, а то, того гляди, поворотят тебя на работу, а в дому-то и худо будет. Оброку чистого платим мы с тягла – сперва было сто пятьдесят рублей, а теперь пошло на серебро121121
В XIX веке существовала разница между курсом бумажных денег и звонкой монетой. Так, в 1817 году ассигнационный рубль равнялся 26 коп. серебром; в 40-х годах рубль серебром равнялся 3 руб. 50 коп. ассигнациями.
[Закрыть], так положили сорок пять целковых.
– И уж больше нет повинностей никаких?
– Опричь того, три дня работы с сохой, три дня жать, три дня косить, тря дня сено грести, да хлеб перевозить на барское гумно, да три дня молотьбы, да опять хлеб в город свозить – вот эта гоньба одолела нас, что стоянки за нею много, – ну да еще зимой двенадцать возов дров привезти из лесу да десять рублев караульных, на усадьбу, за сторожей; а там казенное подушное внести, да и ступай куда хошь.
– А много ль это всего, по вашему счету, на деньги будет?
– Да на деньги, батюшка, коли, то есть, кто домой не едет круглый год, уж чтоб хозяйки его не обижали, нанимает за себя, на все, – так сходит никак по двести по двадцать ассигнациями и по тридцать. Все бы это ничего, кабы хоть уж земля была – знали бы, за что платим, а то землей мы больно обижаемся.
– А что, не хороша земля у вас?
– Да уж чего хороша, батюшка: это известно, Божье дело, не наше; какова ни есть, такову и паши; да пахать-то нечего: всего по две мерочки посеву – вот что.
– Видно, плохо унавоживаете, то есть позему мало кладете?
– Э, баринушка, одной женой да одной коровой десятины не обрядишь, хоть что хошь делай. Известно, были б луга, держали б скотинку; ан их нет, ничем ничего, и сено купуешь. Да кабы еще на казенный лес, так хоть трубу закутай на круглый год, и дыму б не понюхал дома: лес у барина заповедной, что добудешь в казенном бору, то и горит. Порядки-то ныне пошли вишь какие, большие, что проходишь да проездишь за выправкой, так ино и полено того не стоит; ну, а славу богу, Бога гневить нечего, все живется; что ни сорвет лесной, а все без тепла не живем.
– Ну, и слава богу, это, стало быть, ладно; теперь сказывай, как живешь у хозяина, почем что зарабатываешь да какова бывает удача.
– Да это, барин, известное дело, нанялся – продался, семь дней работать, а спать на себя. Хозяин платит рублев двадцать в месяц, кормит, дает верхнее платье; съездишь в день – да не равно, как Бог даст: на три, на пять и на десять ину пору, в праздник, ассигнациями, то есть; за счастливым поедешь боронить по улицам, не зевай только, и посадишь как раз; только свалил его, другого; а не задастся, так без почину домой приедешь, и то бывает; либо и того хуже, как полубарин какой-нибудь ездит, ездит целый день, лошадь замучит, надо бы с него получить рублей пять, а он соскочил где-нибудь: «Сейчас, братец», – да в проходной двор и шмыгнет; вот и ищи его! А тут еще простоишь да прождешь его часа два…
– Ну а по чему же хозяин учтет тебя: может статься, ты обманешь его?
– Зачем обманывать, барин! Разумеется, кто этого не боится – пожалуй, на то воля; да ведь уж этакой долго не наживет у хозяина, а новый уж того жалованья не положит тебе, что старый. Ведь они дело это знают. Сам утаишь, так лошадь скажет: ведь он видит сколько, то есть умучена она; опять же выйдет посмотреть, как она есть. А конь, бывает, стоит повесив голову, а ты с недовыручкой, так вот он и знает. Хозяин кладет кругом свой расход, на содержание, с квартирой, с харчами, с ковкой, со всем, какова цена бывает на овес, рубля три, и поменьше и побольше; на чай, на калач, хоть гривенник, хоть ину пору и два, это сам хозяин велит: ведь мы обедаем ночью, как домой приедем. Ну, а уж коли от тебя вином несет, так никакой выручке не поверит, этого не любит. Вот уж разве как сам ину пору загуляет – ну, тогда и все пошли и нашего брата не удержишь. Тогда он, сердечный, как придет домой, а под шапкой, то есть, пойдет на конюшню, осмотрит лошадей, глянет на ребят, что тоже есть хмельные, покачает только головой: «Ну, – говорит, – гуляй, ребята, покуда я гуляю: а вот ужо я вас приму в руки… как бросим пить…» – так опять и пошел по хозяйству по-прежнему, и даром что гулял, а все знает, все помнит, попрекнет каждого всем, что было.
Если, примером сказать, какой грех случится над нашим братом, то хозяин в счет ставит, вычитает. Вот я возил раз барина в Парголово, а оттуда ехал ночью; грязь, темь, хоть глаз выколи; пьяные чухны всю дорогу заставили – я и свалил дрожки в канаву: бился, бился, не подыму один, хоть надорвись; попросил чухонца – он, спасибо, пособил, да впотьмах вожжи и украл. Туда, сюда – нет; а вожжи ременные, плетеные. Хозяин десять рублей и вычел! В другой раз я, не знамши, арестанта посадил, из госпиталей. Та к уж тут не до того было, чтоб с него что взять, а насилу от него-то ушел: поймают – за тобой еще пуще погонятся, чем за ним; с него-то нечего взять. Наш брат этого-то и боится. Иной смелый лихач вон и с мазуриками ездит по ночам, на хропок: двадцать пять и пятьдесят рублей за ночь получает – да нет, эта пожива плоха: у нас был один такой – пропал; подъехали к часовому мастеру, высмотрели, мазурик соскочил да двери в сенях припер поленом, взял из саней такую рукавицу, с гирей, пробил цельное окно, что захватил часов в охапку, сорвал, на сани, да и удрал. Мастер кинулся к дверям, покуда догадался, что приперто, да побежал кругом, через двор, а тут уж и след простыл. Однако в те поры было, видно, такое время, что ловили их, то есть по строгости, и поймали как-то, и пропал наш лихач, что слуху по нем не стало.
Кто у колоды стоит, на хорошем месте, да дешево не возит, тому не в пример легче нашего брата. Лошадь у него сыта, меньше четвертака, а иной и полтинника, он ее и с места не тронет; съездит раз, другой – на то же наведет. Еще нашему брату по гривенникам того и не сколотить.
– Ну, любезный, а какие ж еще бывали с тобой напасти?
– От этого не уйдешь, известное дело, хоть как хочешь раскидывай умом. Есть, спасибо, добрых людей на свете довольно. Бот с ними! Все жить можно. Вот раз еду на острову122122
Первый металлический мост через Неву, построенный в 1850 году, первоначально назывался Благовещенским, а в 1855 году переименован в Николаевский.
[Закрыть], около Николаевского; барин какой-то, уж немолодой, и крест на шее, – накупивши полный платок апельсинов, нанял и поехал. Я еду да еду – и невдогад мне, что народ смотрит на седока моего, ровно не видал его; вдруг апельсины те с дрожек покатились – я оглянулся, а барин, ровно хмельной, голова мотается и сам с дрожек ползет. Испугался я, остановил лошадь, соскочил, не знаю: апельсины ль собирать, его ли придерживать, я к нему, а он уж Богу душу отдает… Так вот у меня ноги и подкосились.
Беда! Нечего делать, повез я его прямо в часть, спасибо недалече было; привез его чуть живого, тут и помер. Ну и посадили меня; не так жаль себя, как сердешной лошади, – уж так жаль, так жаль, что индо плакал, ей-богу… Вот так вовсе занучали ее, такие живодеры! Кормить не кормят, а гонять гоняют зря, кто куда попало… Ах ты господи боже мой, что ты будешь делать? Вот беда пришла! Сижу; а меня только и выпускают за тем, чтоб, вишь, навоз подгребать вокруг лошади своей… Побойтесь вы Бога, говорю, какой тут навоз будет; скотина другие сутки не евши, то есть вот хоть бы тебе зерно дали, былинку одну… Как вывели меня на двор да взглянул я на нее, сердешную, так вот я тебе и залился слезами: крюком согнуло ее, кормилицу мою; сама стоит да из навоза-то и теребит соломку… Я так вот и взвыл: что хотите делайте, и дрожки возьмите, и кафтан с меня возьмите, говорю, только меня с нею отпустите! Вот в те поры и пропала-таки лошадка эта у меня, не выходил уж я ее, пала. Я и остался без рук. Нечего делать, пошел опять к хозяину, на чужих ездить… А ее и татарам не продал, вот что, пожалел…
– А от своей у тебя много ли больше оставалось на очистку, чем от хозяина?
– Как же можно равнять это! Все-таки своя лучше. От своей закладки, кого Бог благословит, иной год двести пятьдесят и триста рублей ассигнациями на очистку выйдет. Ну, известно, над кем беда встрясется, вот хоть бы как надо мной, что пропала лошадка ни за грош, – уж тут не до барышей; не до жиру, а быть бы живу. Оно, конечно, все ничего, жить можно, поколе Господь грехам нашим терпит, Бога нечего гневить, лучше молчать. Вон у нас сосед есть, тоже помещик называется, так семерых в один кафтан согнал – и то живут, да еще и песни поют – вот как. Мало ли, на свете не без того, есть всякая обида, да нашему брату надо терпеть. Вот у нас ину пору, например, номерной староста кого вздумает прижимать, коли из чести не даешь ему полтинника за выправку нумера: так чем ему взять? Вот он и пойдет наряжать тебя раз в раз, как требуют извозчика в часть, глядеть, когда над нашим братом расправа бывает, за какую провинность; вот он и наверстает тебе на то же, и полтиннику не рад будешь, а того гляди без хлеба останешься. Или вот городовой – ну, свезти бы его в часть с пьяным каким, что ли, это бы можно, ничего; так ведь там-то стоишь после, стоишь, уехать не смеешь, покуда не отпустят, либо еще номер отберут: вот и находишься после за ним. Зато уж наш брат знает это: как только завидел его где, что оглядывается, то вот как зайцы из-под облавы, все врознь, кто куда попало, только давай бог ноги… Ну уж зато как оплошаешь да попадешься, так только держись… А все ничего, слава богу, то есть нечего Бога гневить, жить можно.
– А рекрутство как у вас идет?
– Да мы, благодаря Бога, некрутством не обижаемся; у нас хорошего мужика не отдаст барин ни за что, хоть сто лет живи; а вот как чуть который зашалит, так ему и забреют лоб взачет, запас и есть; а набор пришел – квитанции у барина готовы. А там у них есть чередной, хоть жеребьевой, все одно: и очередь и жребий – все в воле Божьей да в руках начальства. Есть у меня там кум, богатый мужик, да из-за этого самого дела вот того гляди по миру пойдет: известно, всякому своего жаль; мы того не разбираем, что и другому своего жаль: кошке котя, а княгине ребя – тоже дитя. Ну, как только набор скажут – а семья у него большая, – так он и пойдет хлопотать; раз усадил сотню-другую невесть куда, и в другой раз, а в третий уж никак сот семь. Другие, известно, обижаются этим, ходят, просят, ярыжек зазывают, потчуют, задаривают, напиши, то есть, просьбу; ну, тот, известное дело, что богаче мужик, что больше с него надеется вымозжить, то и просьбу длиннее пишет, и настрочит тебе в просьбу то, чего и сроду не бывало, а может статься, коли и было что, так ведь, не обмотав вокруг пальца. не докажешь. Вот и стал виноват. Одного потянули, другого потянули, все перепугались, так что беда. За кого тут взяться? Известно, за богатого. Опять принялись за моего кума сердешного, да так, то есть, обработали его, что никуда не годится. А что проку? Год прошел, опять сказан набор, опять дело его не минует: отбыть уж и не стало сил; разориться разорился в разор, а року не миновал: среднему сыну таки забрили лоб.
– А у тебя из родни есть кто в солдатах?
– Есть брат, да неродной. Ну, нечего грешить, его таки отдали за дело: за свою правду стал, да уже задорен больно – вот хоть с кем, так на драку готов. Отобрали, вишь, конопляник у него, что уж годов с двадцать все владел и наземом поправлял, а отвели другой, почитай что кочкарник, обделывай, дескать, снова. Ну вот он тут за свою обиду и постоял да вилами всю одежду перепорол на том мужике, за которого с барского двора, от самого, то есть господина, девку отдали, а за нею и конопляник этот пошел, как будто, то есть, в приданое. Пришел сам приказчик унимать, ну а брат стоит себе с вилами на стороне, настороже, на своем коноплянике, никого, говорит, не пущу, хоть что хошь делай. Приказчик к нему, да, то есть, чтобы в зубы его, а тот его по лбу вилами, да на них же поднял, да через тын и махнул, тот насилу встал, словно бока отлежал. Вот оно какое дело было. Ну, барин и осердился и приказал тотчас его сдать. Как сказали ему, что в солдаты, так он и бросил вилы и пошел сам, говорит: «Вилы как не сменить на государево ружье; пойду сам и никого не затрону, не опасайтесь». Ну и пошел; живет себе, ничего, служит – не тужит; он прошлого года писал домой, так пишет, что, благодаря Бога, жить можно на свете. Оно и точно, сударь, можно, поколя Господь грехам терпит.
– Ты помянул, однако ж, про двух покойников, которых возил, а рассказал только про одного: какой же такой был у тебя другой?
– А другой, батюшка барин, был вот какой: на Маслене посадил я под качелями двоих плотников, что ли, каких-то, и везти было их в Ямскую. Оба они, правда, хмельны были, а один так уж и вовсе ноги волок. Товарищ втащил его, уселись, поехали. В Чернышевом переулке вдруг что-то у меня развалились седоки, а сидели было сперва смирно; я оглянулся: один глаза под лоб закатил, а другой, соскочив с саней, да давай бог ноги, – видно, со страху и хмель прошел, – так по Садовой и пустился. Гнаться мне за ним нельзя, а испугавшись беды, я остановил лошадь, поглядел на товарища его – ничего, мол, Бог милостив, видно больно хмелен, отойдет. Усадив его кой-как в сани, я скорее до места; там ребята обступили, как стал я доспрашиваться, где тут плотники живут. Посмотрели они на седока моего, который уж весь под полсть съехал, узнали его в лицо. «Это, – говорят, – Гришка, вон он где стоит, там у него и хозяйка». Привожу туда и спрашиваю Гришкину хозяйку; она было вышла, да как поглядела на него, как увидела, что неживой, а уж он у меня и помер в санях, так и откинулась: не принимает, да и только, хоть ты что хошь делай. «На что его мне, – говорит, – ты, коли извозчик, так живых вози, а не мертвых».
Я туда, сюда, народ собрался, кричат, день же праздничный, кто говорит ей: «Прими, дура, ведь твой»; кто кричит: «Не принимай, беда будет». Бился, бился: нечего делать, повез в часть… Видно, такая моя доля! Наплакался я и этот раз и другу и недругу закажу покойников возить: «Найди, – говорят, – да поставь нам товарища его»; так где же я его возьму?» Уж коли вы, господа, не отыщете его, так нашему-то брату где ж его взять? Ведь я посадил его на улице, хлеба-соли с ним не важивал, паспорта его не прописывал и на уме его не бывал, не знаю, куда он повернул из Садовой да куда удрал»; так нет, говорят, подай: «Покуда его не найдем, и тебя не отпустим». Лошадь же моя была хозяйская, так хозяин и хлопотал; подержали с месяц и выпустили.
А вот, барин, помянул я про паспорт, а вы про все расспрашиваете, так к пиву едется, а к слову молвится, – к слову пришлось рассказать вам: вот за паспорт притча была со мной, так, чай, сколько свет стоит, ни с кем этого не бывало. Слыхали ль вы когда, чтоб у нашего брата был нос не по чину, в маховую сажень? Ну, так вот я же вам расскажу: диво, ей-богу, да и только! Дело это было уж годов тому семь. Я оброк уплатил вперед за год, Бог пособил, а у нас без этого не пускают; либо по третям вноси, так и билет на четыре месяца выдадут. Вот я и взял паспорт годовой и пошел, ни о чем не горюя. В те поры поднялись мы, человек пять, сколотившись деньжонками, в извоз; товар клали недалече от себя, а везти было в Москву. В одном городишке – и на город-то не похож, хуже иной деревни – пошел один из наших прописать паспорты, и, видно, прописывали по строгости, что недавно, вишь, наслан был новый городничий, а старого сменили; приходит – все ничего, и не впервые уж прописывались, даже не раз становые и прочее начальство глядели. Ну, известно, не без того, за прописку возьмут с тебя и отпустят; а тут вот какая притча сталась:
– Где у вас Алексей Федотов?
– При лошадях остался.
– Пошли его сюда.
Прибежали ребята и кричат меня. Я пошел.
– Ты Алексей Федотов?
– Я, – мол, – сударь.
– А зачем ты с чужим паспортом ходишь?
– Я, – мол, – не знаю, сударь, какой изволите казать паспорт, а у меня, надо быть, свой был.
– Нет, врешь, приметы не твои. Посадить его под караул!
Вот тебе и расправа! А тут, батюшка, вот какая беда прикрутилась; известное дело, в паспорте, супротив примет, писаря выставляют, как положено: рост – два аршина шесть вершков; лицо – круглое; волоса – русые; нос средний; подбородок – обыкновенный; а видно, писаришко-то у нас либо хмелен был, проклятый, либо недоглядел да против росту поставил: средний, вместо носу; а против носу – два аршина шесть вершков! Вот тебе и примета! Узнав все это, я и говорю:
– Помилуйте, не погубите, не держите, наше дело дорожное: нам сутки простою с лошадьми дороже головы… помилосердуйте!
– Нет, – говорят, – паспорт не в порядке, не то фальшивый либо чужой.
– Чем же я виноват тому, что мне там прописали? Я человек неграмотный, взял, что подали, – только и вины моей. А что носу такого нет у меня, батюшка, так где ж его взять? Ведь это хоть по всему свету пройти, так такой не найдется! Шутка, чтоб нос у тебя был в два аршина и шесть вершков! Эка штука!
Вот как, батюшка барин, и нос этот, по строгости тогдашней и по новости городничего, дорого нам обошелся…
А все, слава богу, нечего гневить его милосердие, жить нашему брату можно. Какая беда хоть и станется над нами под лихой час, все по грехам нашим; а поколе Господь грехам терпит, все жить можно.
Хлебное дельце123123
Впервые – «Отечественные записки», 1857.
[Закрыть]
– Да скажите, пожалуйста, Иван Абрамыч, откуда у вас берутся подачи эти? Искусный вы человек, право. Не понимаю, то есть и не могу постигнуть, как это вам счастье везет… Да на каких же вы теперь опять дураков напоролись?
– На ловца и зверь бежит, сударь мой. Дураков-то у нас непочатый угол, про это и говорить нечего; да дело тут не в них, почтеннейший, на одних дураках недалеко уедешь; нужно тут нашему брату быть не оплошным да суметь подвести как следует дельце, чтобы и умница рад был попасть в дураки, – вот в чем дело! Откуда берется, спрашиваете вы; да нам, с позволения сказать, ину пору черт на хвосте приносит – мы и тем не брезгаем! А что дураки-то – они не вовсе дураки, сударь мой, кто-то есть чтит и чествует, и уважает нашего брата; попались бы хоть бы вот и вы, благодетель мой, как, например, Амалия Кейзер, а это мужчина, хоть и Амалия, а она-то тут лицо подставное, так не в обиду вашей чести сказать, а были бы и вы таковы…
– Ну вот, вот Амалия-то Кейзер: об этом-то я и хотел спросить вас, Иван Абрамыч; пожалуйте, распотешьте, расскажите, а вот я еще за бутылочкой ренского пошлю…
– Да вот, сударик ты мой, у нас, изволишь видеть, заведение вообще такое, что делишки, какие набегают, разбираются самим им по разборам – это уж его рук не минует, и всякое дельце, прежде чем сдается и пойдет в ход, соображается по достоинству, чего оно, то есть, стоит. Хорошее дело, хлебное, следственный оставляет за собой и производит его под своим наблюдением, сам распоряжается и направляет его там куда и как следует; тут нашему брату поживы нет; много-много что достанется обрывать гривеннички; а делишки пустые, второй и третьей руки, с которых поживы мало, раздаются прямо на нашу братью, мелкую сошку, с обложением, по обстоятельствам, по достоинству дела; вот то есть тебе делишко, подай за него хоть пять, десять, двадцать целковых, а там ведайся, выручка твоя; уж это твое счастье, что Бог даст, этого никто не отберет. Ину пору, кто не изловчился, того и гляди, что своих приплатишь, сам насилу отвертишься; а ину пору, кому счастье счастьем, да подспорнись уменьем, так и вымотаешь требушину и поживишься. Вот, сударик ты мой, наш брат и бьется над этаким делом и ухитряется, как бы из него соку повыжать, а разумеется, что воля дана только на производство, пишешь только, куда и что по соображению оказывается нужным, а подпись все его же, ну уж он только не мешает. И тут берегись одного: чтобы все было шито-крыто, чтоб его, то есть, не подвести под ответ, а то по шее, тотчас вон, и пошел на мостовую в ногти дуть, хоть сам иди в мазурики.
Например сказать, то есть, так вам, на улице случилась драка; драка простая, без грабежа, без злоумышления, без увечья, без прикосновенности, ну вот хоть бы в пьяном виде, и все только народ черный; это делишко пустое; подрались фабричные, все с себя наперед пропивши, – хвать ему в карман, ан дыра в горсти; народ предусмотрительный, взятки гладки. Вот такое-то дельце, с обложением одним целковеньким, и сдается нашему брату. Надо выручить целковенький, да еще и себе не в убыток, чтоб то есть было из чего хлопотать и чтоб как-нибудь прокормиться; ведь это, чай, нечего говорить вам, и сами вы знаете, что в жалованье, каково оно ни есть, только расписываешься, а и в глаза его не видаем. Как тут быть? Ну, попридержишь маленько драчунов, чтоб посбить с них спесь, позовешь к допросу, постращаешь, прикрикнешь, а не берет, так опять управишь его туда же, чтоб уходился. Позвавши в другой раз, уже и растолкуешь, в чем сила, чтоб, то есть, показаньице сделал нужное, сослался хоть на свидетеля, е которого бы шерсти клок сорвать можно, как отпрашиваться станет, чтоб не путали его. Например, вот указали на такого-то, что шел-де мимо да не отворотил рыла; больше нет за ним ничего, только что видел, – с нас и этого довольно, где больше взять? Требуется в часть; знать не знаю, ведать не ведаю, и не видал никакой драки, и об эту пору по улице не ходила ладно, мол, барин, оно и не в том сила, а пожалуйте завтра пораньше, да наутре опять, а не пожалуете, так приведем. Пришел, посидел часа три-четыре; просится, молится – а мы: некогда теперь, недосуг; что делать, потерпите, дело нужное; а как отпустим, опять то же: пожалуйте завтра! Вот, батюшка, такими-то мизерными способами, глядишь – а все целковенький свой с лихвой воротишь. Как отпустишь его совсем, ан на поверку выходит, мы оба с ним довольны остались! Что выжмешь, то и зашибешь; такая должность наша.
Ну, государь мой, а коли дельце в силу Уголовного уложения поважнее, каково, например, следствие не для ради одной острастки, не следствие совращаемое, а настоящее, на основании предписания начальства, по воровству-краже либо по воровству-мошенничеству, а ведь ину пору и по убийству бывает, – тогда вся штука в смётке, чтоб притянуть между делом к прикосновенности с человека с подбоем, которому б было чем разделываться; вот его будто к допросу; показывай он себе что хочешь, нам все равно, только вру больше; а мы все пишем да пишем, а там опять допрашиваем да опять себе пишем; сличив на досуге все показания его, и выведешь противоречие; вот дело-то уж и принимает другой оборот. Тут прочитаешь ему относящиеся до этого обстоятельства статьи: об уликах, очных ставках, о ложном показании свидетелей в о прочем. Ну, разумеется, кто же сам себе ворог, не каменная душа в человеке, размякнет; иной жмется долгонько, все уж под конец подастся; вот мы и на переговоры и подоим его маленько; а все допросы эти и показания из дела вон да в успокоение его при нем же начетверо; потрохи эти, видишь, и к делу-то не вдут, а подкладываются временно, для одной только острастки. Вот, государь мой, и тут сноровка нужна немаловажная, чтоб дело-то вести в два порядка и не спутывать их, а помнить, в каком показании про что поминать, а о чем умалчивать либо то, чем отбирать показание особо, в виде дополнительного; это-то мы и называем потрохами, их-то и можно в случае чего побоку, а дело все идет да идет себе своим порядком; так и плетем.
Слушатель с жадностью и завистью внимал наставлениям этим. вздохнул, наполнил стаканчик своего гостя и сказал:
– А дельце Амалии Кейзер, Иван Абрамыч, сделайте одолжение…
– Дельце Амалии Кейзер, – начал тот, – о котором вы давеча помянули, или бишь я, то есть, помянул, а вы напросились на него… Разболтался я больно ныне для праздничка… Ну, да уж быть так! Да-с, это дельце выдалось хлебное, нечего сказать… богатейшее! Нашему брату, мелкой сошке, редко на веку такое достается… А ведь для незнающего человека плевое деле было, гроша не стоило; чего ведь уж наш следственный124124
Следственный – следственный пристав, чиновник, отвечающий за производство судебных следствий, следователь.
[Закрыть] не новичок, не олух, не промах, уж он, то есть, видывал виды, и знает толк, и зубы съел на этом, да и тот, взглянув на дельце это, на явочное прошение по вздорной покраже, сунул его мне, по обиходной, по-нашему, то есть, и всего-то за три целковых… Да, три!! Да в других руках оно я трех гривенников не стояла, а недельки через две не тремя запахло; в моих-то руках, любезнейший, оно то есть вот как развернулось, что, пожалуй, к трем-то и два нолика без греха приписать бы можно – вот что. Ну так вот послушайте-ка.
У графа Трухина-Соломкина – знаете, в Волошской, от моста третий дом, какая-то прачка ли, судомойка ли украла батистовый платочек. А кто ворует да концов хоронить не умеет, тот нашего брата кормит. Ее прислали в часть. Ну, первое дело, известие, понаведаться в дом графа для разных допросов; бывает и в таком доме, что впутается кто-нибудь сторонний да пожелает разделаться по-приятельски, чтоб в таком деле не было его имени на бумаге; бывает, что струсит, как закинешь намек, что следует-де вас в часть потребовать, снять показаньице; а нет, так просто надоешь частыми приходами да расспросами; уж тут самому скучать никах нельзя. Вот иному барину беспокойно покажется, и он тебя, то есть с моим удовольствием, поблагодарят, только не беспокой его. Вот недавно также по воровству стали потаскивать день за день для допроса то кучера, то комнатного, то повара – глядишь, а барин-то день без лошадей, день без обеда, день без чищеного платья и сапог, – и пропаже своей не рад. «Бросьте, – говорит, – дело, не желаю продолжать иска». – «Нельзя, – говорят, – следствие должно идти своим порядком»; в убытках вы вольны прощать вора, а в уголовном деле – нет, не ваша воля, да и не наша, и мы не вправе». Вот барин-то и видит, что надо раскошеливаться; двадцать пять и подмес, только оставь его в покое да не таскай людей; да, вишь, не мне достались они, а самому.
Ну, так о нашем-то деле; тут, в этом доме то есть, ничего, то есть, не далось, самая сущая безделица, истому, знаете, что это дом не такой: тут надо с осторожностью поступать и деликатно. Тут даже и поличного не приложили, то есть платка батистового, как девку при объявлении отправили в часть, а ведь уж это первое, чтоб поличное было налицо, хоть оно и не важное дело – платочек, а все годится… Ну тут и этого не удалось: дом не такой, нельзя было и настаивать очень надо было осмотрительнее. А ину пору, вот и в прошлом году, только что также нам по усам текло, а в рот не попало – две серебряные ложки сряду выудил наш из дому после покражи серебра, для сравнения, а уж за третьей не посмел идти, так и бросил дело… А в другой раз шубку украли в доме; он меня и взял с собою для допроса, да и стал было приставать, чтоб все приметы записать, и все опять допрашивает… «Ну, – говорит хозяин, – уж извините, я вижу, чего вам хочется, да у меня другой такой шубы для сравнения нет…» Срезал злодей!
Ну, сударь мой, так-то я вижу, что толку нет, на подметки не выбегаешь, незачем и ходить к графу. Как быть, а три целковеньких задано, надо умудряться. Вот я вечером опять взялся за дело, за производство то есть, поглядел на него – с которого конца не приступись, и гроша не стоит, не только трех рублей. Если что-нибудь с девки сорвать – так безделица, едва ли в расходы воротишь, а уж тогда выпустить надо и перешить дело. Не хочется, убыточно. Ну, думаю, не поищешь, не постараешься, так и не найдешь. А потерять свое жаль. «Брось, – говорят товарищи, – ничего не доищешься, хоть и не перечитывай»; да и стали еще подсмеиваться, да и подшучивать надо мною, мигнув друг другу, да вполголоса: «Вот зашибет человек копейку, так зашибет!»
Ну, ладно. Перепустил я листы еще разок промеж пальцев – чего смотреть, явочная от управителя графского да адресный билет Матрены этой, да два листка отобранных мною показаний – только и есть. Как ни верти, не вывертишь, а вывертеть надо. Гляжу – так вот глазами и напоролся тебе на аттестацию подсудимой по-прежнему местопребыванию, на адресном, то есть, билете; во-первых, подпись не засвидетельствована в квартале, а во-вторых, аттестация подписана твердою, скорописною мужскою рукою: Амалия Кейзер. «Врешь, – подумал я, – Амалии Кейзеры так не пишут», и у меня почуяло что-то ретивое и будто бархатною рукою по сердцу провело. Поглядел еще и молчу; думаю, пусть посмеются, а последний смех будет лучше первого.
Вот, сударик ты мой, тотчас закинули мы, то есть, крючок туда, где жила прежде Матрена наша, да вытребовали управляющего дома. Пришел. Мы его адресный билет с аттестатом на стол: это, мол, что? Глядит. У вас-де в доме жила такая-то и перешла на другое место; там она прокралась и шибко попалась – дело уголовное; а тут вот и аттестат не засвидетельствован в квартале. «Виноват, – говорит, – как-нибудь недоглядели; дело прошлое, не вводите в беду…» – «Чего не вводить, ты видишь, чай, что и без нас сам влез, и с головою. Ныне время строгое, нашему брату за вас не отвечать; чай, законы знаешь не хуже нашего: штрафу причтется за передержательство по полтора целковых за сутки, и всего за девяносто семь дней».
Вот мой управляющий туда, сюда. «Поправьте как-нибудь, – говорит, – беду нашу; ведь тут худого умысла не было; просмотрели, а девка ушла; где искать ее станешь? Возьмите по-христиански, да и концы в воду». – «Что долго толковать, – сказал я, – дело видимое, на ладонке: либо по полтора целковых за девяносто семь дней, либо тридцать на стол – больше и говорить не стану». Почесался мой управляющий, однако ж принес денежки. Мы послали билет от себя засвидетельствовать в квартал – и концы в воду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































