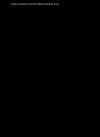Автор книги: Владимир Кантор
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но у Борхеса был уже опыт XX века, когда принадлежность к европейской цивилизации не исключала античеловечности. В рассказе-антиутопии, написанном в годы Второй мировой войны («Тлён, Укбар, Orbis Tertius»), Борхес рассказывает, как благодаря усилиям европейских мыслителей и денежной поддержке североамериканского миллионера создается вымышленный мир, который исподволь перестраивает земную жизнь посредством книг, газет, энциклопедий, посвященных несуществующей стране. Если иметь в виду одно из названий вымышленной страны – Орбис Терциус или Третий Мир, – то он легко приводил на память Третий рейх, возникший в европейской стране Германии не без влияния идеологических и философских построений о сверхчеловеке. Фашизм Борхес не принимает категорически, как явление, подменяющее подлинные ценности культуры псевдоценностями, пытающееся остановить процесс развития человека и человечества, ограничивая его, насильственно не давая развернуться ему во времени и пространстве, во всей заложенной в человеке сложности, строя искусственный лабиринт жизни, в котором властвуют измышленные, сочиненные законы вместо естественных.
Пожалуй, самым суровым приговором современной цивилизации явился у Борхеса рассказ «Сообщение Броуди», написанный как парафраз Свифта и Конан Дойла. В рассказе описывается некий «затерянный мир», где живет племя Иеху, образ жизни которого так напоминает образ жизни современных цивилизованных сообществ, что это замечает даже простодушный миссионер-рассказчик: «Сейчас я пишу это в Глазго. Я рассказал о своем пребывании среди Иеху, но не смог передать главного – ужаса от пережитого: я не в силах отделаться от него, он меня преследует даже во сне. А на улице мне так и кажется, будто они толпятся вокруг меня. Я хорошо понимаю, что Иеху – дикий народ, возможно, самый дикий на свете, и все-таки несправедливо умалчивать о том, что говорит в их оправдание. У них есть государственное устройство, им достался счастливый удел иметь короля, они пользуются языком, где обобщаются далекие понятия… Они верят в справедливость казней и наград. В общем, они представляют цивилизацию, как представляем ее и мы, несмотря на многие наши заблуждения». Таково мизантропически-гротескное прочтение известного Борхесу общественного мироустройства, в котором человек существует, не осознавая законов, по которым в его жизни происходит что-либо, человек, отчужденный от культуры и цивилизации, когда государственный террор подменяет собой закон. Здесь он следовал тоже за Сармьенто, видевшим это зло в разных странах: «Террор, когда его применяет правительство, приносит лучшие результаты, чем патриотизм и добрая воля. Россия использует его со времен Ивана, и она подчинила все варварские народы; лесные разбойники покорны своему главарю, в руках у которого плеть, заставляющая склонить головы самых непокорных. Правда, страх унижает и опустошает человека, лишает людей гибкости ума, а государства разом успехов, каких добиваются за десять лет; но какое дело до этого русскому царю, главарю разбойников или аргентинскому каудильо?»[14]14
Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство. С. 107.
[Закрыть]
Размышляя напряженно о трагическом развитии европейской культуры, ставя под вопрос ее ценности и достижения, Борхес это делает как художник и мыслитель, ощущающий себя ее наследником, только усваивающий это наследство, исходя из собственного опыта, стараясь избежать видимых ему ошибок. «У нашего народа, как у всякой молодой нации, – говорил он после Второй мировой войны, – очень развито чувство истории. Все случившееся в Европе, все драматические события последних лет имели у нас глубокий резонанс» [15]15
Там же.
[Закрыть].
Борхес воистину «человек книги», человек культуры, по справедливому определению И.А. Тертерян, своего рода культурфилософ, если воспользоваться немецким словом. Мир для него есть книга, которая пишется человеком и человечеством. Книга, расположенная в лабиринтах библиотеки, – такой необычный образ вселенной мы встречаем в его рассказе «Вавилонская библиотека» («Вселенная – некоторые называют ее Библиотекой – состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами», – начинает он этот рассказ). Но как явления культуры прошлого существуют сегодня? Могут ли они быть живыми и в наше время, или их необходимо постоянно переосмысливать, переписывать, переделывать? Не устаревают ли они, если быть точнее, – вот вопрос и проблема Борхеса. Этой проблеме посвящено несколько рассказов писателя, лучший из которых, по моему мнению, «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“».
Писатель полагает, что «Дон Кихот» актуален во все времена, как и всякое вечное и бессмертное произведение искусства, актуален и равен самому себе. Именно в неизменяемом, не переделанном виде он сохраняет наибольшую актуальность и жизненность.
Даже сам великий Гомер (рассказ «Бессмертный») блуждает века по миру в поисках обычной жизни, изменяясь, приспосабливаясь к каждой стране и каждой эпохе, но неизменными и вечно юными и прекрасными остаются его великие поэмы, ибо в них вложил он свою сущность, которая далеко не всегда совпадает с обыденным, бытовым обликом и существованием человека. Различию между сущностью и житейским существованием художника посвящен небольшой, но удивительно емкий рассказ «Борхес и я». «Я» обыденной жизни заявляет: «…Я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование». Связь между этими двумя «я» сложная, неразрывная, но вместе с тем все лучшее, что есть в человеке, постепенно перекочевывает в его творения.
Вместе с тем «я» Борхеса – это и просто человеческое Я, каким оно должно быть, включающим в себя по возможности всю историю. А сам писатель – это лишь функция этого подлинного Я. Приведу одно из поздних стихотворений Борхеса, так и называющееся – «Я»:
Невидимого сердца содроганье,
Кровь, что кружит дорогою своей,
Сон, этот переменчивый Протей,
Прослойки, спайки, жилы, кости, ткани —
Все это я. Но я же ко всему
Еще и память сабель при Хунине
И золотого солнца над пустыней,
Которое уходит в прах и тьму
Я – тот, кто видит шхуны у причала;
Я – считанные книги и цвета
Гравюр, почти поблекших за лета;
Я – зависть к тем, кого давно не стало.
Как странно быть сидящим в уголке,
Прилаживая вновь строку к строке.
Эта позиция, как несложно понять, нисколько не отменяет для Борхеса ценности, уникальности каждой человеческой личности. Один из его героев задумал создать Вселенский Конгресс, который представлял бы всех людей и все нации без исключения. Но как найти «критерий представительства»? Скажем, сам герой «мог представлять скотоводов, но также и уругвайцев, и славных провозвестников нового, и рыжебородых, и всех тех, кто любит восседать в кресле». Как представить всех в их разнообразных человеческих и социальных проявлениях? В конце рассказа на героя нисходит прозрение, и он понимает, что каждый человек в своей уникальности есть представитель самого себя и всех других, а все люди в целом, все человечество, состоящее из отдельных индивидов, и составляют этот Конгресс.
Понимание неповторимости человека и высшего в нем – творений его духа – является для Борхеса той точкой отсчета, которая позволяет ему подойти и оценить героев аргентинской истории, кровавые сражения, стихию дикости в войнах диктаторов-каудильо, по очереди грабивших страну и уничтожавших людей, увидеть легендарных гаучо в их реальном, не романтизированном облике, понять законы маргинального, окраинного, блатного мира Буэнос-Айреса. Об этом кошмаре писал и Сармьенто, не просто как аргентинской специфике, но тесно связанной со злом, присущим человеческой природе в эпоху «социальной войны», когда «конский топот заставляет содрогаться землю, и пушки разевают черные пасти у городских застав»[16]16
Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство. С. 100.
[Закрыть]. Эти персонажи, живущие сиюминутными интересами, у которых дело было прямым и немедленным продолжением слова, очень интересовали Борхеса. Он показывает, что сила обычаев, сила вещей, сила традиций, рожденных в этих кругах, живет не одно поколение. Хотя о жизни в вечности сам человек не думает. Писатель рассказывает историю, как два поссорившихся человека хватают старое оружие двух враждовавших когда-то гаучо. Это оружие неожиданно начинает управлять ими, и один из героев убивает другого. Борхес доводит метафору о силе вещей до гротеска: «…в ту ночь сражались не люди, а клинки… В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба». И писатель резюмирует: «Вещи переживают людей. И кто знает, завершилась ли их история, кто знает, не приведется ли им встретиться снова». Актуальность этого образа, этой мысли, думается, не требует доказательства. Повторим, однако, что Борхес оценивает людей действия, доступный его наблюдению маргинальный мир как бы извне. Рассказывая о блатном квартале Буэнос-Айреса (Палермо), он пишет: «Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством; на самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки, в доме с садом и книгами моего отца и предков».
Примерно это я и рассказал аргентинским коллегам, слушавшим меня с недоверием и тоской. Они были уверены, что гения бы точно они знали.
* * *
Несмотря на явную гениальность, Борхес избежал болезни XX века, болезни «гениальничинья». Про него рассказывают историю, что однажды его остановил прохожий и спросил, правда ли, что он – Борхес. «Иногда», – ответил писатель, усмехнувшись. Блистательный социолог, блистательный переводчик и толкователь Борхеса Борис Дубин писал: «Борхесовское письмо и вообще его творческое поведение противостоит эстетике шедевра, начиная, понятно, с идеи построения себя и своей жизни как шедевра. Картонному ячеству, стильной броскости романтической богемы и романтизированного массовой культурой «художника собственной жизни» Борхес и противополагает персональную невидимость, языковую неощутимость, слепоту к внешнему, отсутствие общих планов и дробность деталей – всю эстетику незначительного с ее идиосинкратическими перечнями невыразительных мелочей. Это справедливо, если говорить о принципах поэтики, это справедливо и для биографии – она несюжетна, бессобытийна, по ней никогда не снять кино»[17]17
Дубин Б. Книга мира // Борхес Х.Л. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. СПб.: Амфора, 2005. С. 18..
И имя Борхеса здесь звучало в полную меру. Потом нам разработали маршрут. Я, как уже поминал, был и в центре Борхеса, и в его музее. Но самая большая неожиданность случилась совершенно по-борхесовски. Это было после посещения кладбища Ricoleta, где я увидел могильный ансамбль Сармьенто. А потом с коллегами мы отправились в кафе La Biela, кафе, перед которым рос тридцатиметровый фикус с ветвями толщиной с человеческое туловище. Вроде дерево из «Детей капитана Гранта», на котором умудрились спастись все герои. И вот, войдя в кафе, я остолбенел: за столиком перед входом сидели – слева Хорхе Луис Борхес и справа его зять и соавтор Адольфо Бьой Касарес и, похоже, беседовали. Между ними стояло пустое кресло, словно приглашая вошедшего к собеседованию. Да простят мне поклонники Борхеса и пусть удивятся те из аргентинских профессоров, кто не знал о его существовании. Но я сел между двумя классиками, на свой лад продолжив макабрическую игру, которую они так любили, общаясь, то с Сервантесом,
[Закрыть].
Действительно, он и в самом деле глядит на окружающий мир «из дома с книгами». В противостоянии «варварства и цивилизации», «стихии и книжности» Борхес был, понятно, на стороне книги. По этому поводу можно говорить и осуждающие и оправдывающие слова, заметим только: опыт Борхеса показывает, что и из библиотеки можно увидеть и прочитать мир и человеческие отношения так, чтобы это прочтение стало в свою очередь новым и большим явлением мировой литературы. Такое общение с мертвыми культурами и авторами, своего рода меннипея, есть путь к их оживлению, когда игра с вроде бы мертвыми смыслами оживляет их. Позволю в заключение выступить в контексте борхесовского преодоления смерти.

Во второй свой приезд в Буэнос-Айрес (2015), устроенный крупнейшим нашим испанистом В.Е. Багно, видели мы совсем другую Аргентину. Аргентину книги. Надо сказать, что это была принципиально иная поездка – на 41-ю международную книжную ярмарку в Буэнос-Айрес, где Россия оказалась впервые. Встретились писатели и переводчики, да и посольское начальство гуманизировалось. И грамотных здесь хватало. Люди жили книгой и с книгой. И тут мы попали, наконец, в музей Борхеса. Хочу показать читателю фото молодого Борхеса среди друзей.
Борхес сверху в центре, выделяется сразу.

Вот группа приехавших и местных. В центра Всеволод Евгеньевич (Слава) Багно, директор ИРАН
И имя Борхеса здесь звучало в полную меру. Потом нам разработали маршрут. Я, как уже поминал, был и в центре Борхеса, и в его музее. Но самая большая неожиданность случилась совершенно по-борхесовски. Это было после посещения кладбища Ricoleta, где я увидел могильный ансамбль Сармьенто. А потом с коллегами мы отправились в кафе La Biela, кафе, перед которым рос тридцатиметровый фикус с ветвями толщиной с человеческое туловище. Вроде дерево из «Детей капитана Гранта», на котором умудрились спастись все герои. И вот, войдя в кафе, я остолбенел: за столиком перед входом сидели – слева Хорхе Луис Борхес и справа его зять и соавтор Адольфо Бьой Касарес и, похоже, беседовали. Между ними стояло пустое кресло, словно приглашая вошедшего к собеседованию. Да простят мне поклонники Борхеса и пусть удивятся те из аргентинских профессоров, кто не знал о его существовании. Но я сел между двумя классиками, на свой лад продолжив макабрическую игру, которую они так любили, общаясь, то с Сервантесом, то с Гомером и т. д. Я общался с ними, прежде всего с Борхесом, размышляя о той сверхзадаче, которую он решил для аргентинской литературы, превратив ее из литературы провинциальной в литературу мирового уровня.

Мой фантазм. Беседа за столом. Между Борхесом и Касаресом
Но чтобы осознать это, читать Борхеса надо внимательно, вдумчиво и усидчиво. И понимать его иронию, доверяя ходу мысли гения.
Путешествия в пространстве и во времени
5. В Молдавии, в глуши степей Лирическая, геополитическая
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон.
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей.
Вдали Италии своей.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Как преодолеть школьную катастрофу
Думаю, что в жизни почти каждого мужчины есть воспоминание о женщине, мимо которой он в молодости прошел, ожидая свою принцессу, а теперь много бы дал, чтобы тогда удалось задержаться хотя бы ненадолго. Так получилось, что проблема «страсти нежной» в ее бытовом, эротическом, полукриминальном и метафизическом обличье возникла передо мной именно в Молдавии, в городе Оргееве, потом Кишинёве, перекочевала в Москву, где спустя годы я пытаюсь ее осмыслить. Все это было, продолжая цитатный ряд, «на заре туманной юности», очень ранней и очень туманной, да еще в советское время, внутри, казалось бы, навечно единой и неделимой державы. Хотя разность электрических потенциалов, разность ментальностей, которые соприкасаются, но не могут проникнуть друг в друга, я тогда вполне ощутил, а теперь даже немного и понимаю.
В этой истории возникают четыре державы: Российская империя, Германия, Аргентина, СССР. А внутри СССР – Молдавия, Москва, и Керчь. Более того, сам мой ход в Молдавию был не случаен. Если говорить о смысловой глубине, то в Молдавии, в селе Ферапонтовка, родился мой дед – в большой семье еврея-возчика, Исаака Кантора, у которого было двенадцать сыновей. Старшего Моисея (моего деда) он, как говорило семейное предание, таскал на спине по бездорожью молдавскому четыре километра в хедер. Прадед был возчик, но нес в себе посыл Народа Книги – образование детям.

Исаак Кантор
Потом прадед сумел отдать старшего в реальное училище, а поскольку по процентной норме в университет Моисей попасть не мог, то его отправили в немецкую Саксонию в Горную академию (Bergakademie). Именно там учился когда-то и Ломоносов. Народ Книги всегда искал высшего образования и цивилизации. И вот вся семья работала, чтобы содержать старшего, а его долг перед семьей был – поднять младшего, с которым у него было двадцать лет разницы. Это дед и исполнил, несмотря на бурные перепады своей биографии. Младший его брат, Идель Исаакович, учился на деньги старшего, и стал в результате инженером-нефтяником в Уфе. Теперь и в Уфе немало семей с этой фамилией. Судя по фамилии, в Молдавию семья попала из Германии. Но тогда я об этом не думал. И, только попав в Германию уже совсем взрослым человеком, я, помня Молдавию, поразился разным мирам, в которых дед чувствовал себя своим.

Но, наверно, самое важное в этом тексте – это его фантасмагоричность, ибо рассказ идет о путешествии по стране, которая существовала совсем недавно и которая стала совсем другой. И все, что происходило со мной, то ли было на самом деле, то ли это сказка для взрослых.
Дед вообще-то умудрился, родившись в этом абсолютно глухом селе, объехать весь мир – начав с Германии, с саксонского города Фрейберг, там четыре года жизни немецкого бурша, он ее полностью принял, по легенде, даже участвовал в студенческих дуэлях на рапирах, но диплом получил.

Дед с женой и тремя сыновьями
Потом был Урал, где он женился на русской девушке, как говорили – из старообрядческой семьи, Лидии Александровне Коробициной, затем попал на работу в Одессу, там кроме геологии влип в революционное движение, стал анархистом, был арестован, сидел в одесской тюрьме в одной камере с будущим большевиком-тираном Свердловым. Споры их сводились, как и положено у евреев-начетчиков, к отстаиванию своего книжного авторитета. «Кантор, читайте Маркса», – кричал Свердлов. А дед отвечал: «Свердлов, читайте Кропоткина». После тюрьмы побег с женой и старшим годовалым сыном в рыбацкой лодке в Константинополь, затем Буэнос-Айрес (сначала доцент, потом профессор геологии Ла-Платского университета), жил семейно и красиво.

Геологическая экспедиция по Аргентине, дед крайний справа (1920)
В аргентинской столице влюбился в мою бабку, вступил во второй брак, и родился в Буэнос-Айресе мой отец. Дед, видимо, был неплохим геологом, его работы ценил Вернадский. Он участвовал в геологических экспедициях по Аргентине (на снимке похоже на прогулку джентльменов). Дед крайний справа (1920 г., очевидно в начале романа с моей бабушкой, отец родился в 1922 г.)
В 1926 г. дед вывез в Советскую Россию обе семьи. В Москве с помощью двух великих геологов – В. Вернадского и Ферсмана, при поддержке Р. Вильямса получил кафедру геологии в Тимирязевской академии. Там он сдружился с профессором Иваном (Ионелом) Дикусаром, тоже выходцем из Молдавии, сотрудником академика Прянишникова. Потом была Керчь, куда он уезжал на долгие месяцы и где разработал знаменитое по тем временам керченское месторождение. За эту работу был выдвинут на сталинскую премию и в членкоры АН СССР тремя действительными членами Академии – Вернадским, Ферсманом и Вольфковичем. Но его заместитель по кафедре решил, что если дед получит все эти отличия, то вряд ли удастся его «подсидеть», и он написал донос, что, поскольку дед вернулся из Латинской Америки, то наверняка как эмиссар Троцкого. И хотя дед вернулся в 1926, а Троцкий был выслан в 1928 г., органы приняли этот донос. И деда, и Ивана Дикусара арестовали по очереди: Дикусара в 1937, как ученика академика Прянишникова, деда – в 1938 г. И вот дед арестант Лубянки, которому странно повезло вскоре был арестован Ежов, и многие дела были пересмотрены. Пересмотрели и дело его приятеля профессора Дикусара, который уже в 50-е уехал в Молдавию. Моисей Кантор вышел на свободу в «бериевскую оттепель», незадолго до войны.
Вернадский все время его поддерживал. Приведу подлинник письма деда Вернадскому, из которого ясно, что отношения были достаточно тесными и академик не оставлял недавнего зэка:

Письмо М.И. Кантора В.И. Вернадскому
В книге «Геологи российского зарубежья: судьбы и вклад в мировую науку» сообщается, что за шесть лет до смерти дед получил научную степень доктора геол. – мин. наук по совокупности заслуг на основании отзыва академика В.И. Вернадского.
Во время войны три года эвакуации в Ташкенте, сыновья от обоих браков сражались в действующей армии, а дед вернулся в Москву в 1944 г. на кафедру, и умер в Москве в 1946 г. Я вспоминаю эту историю, поскольку с сыном Ивана Дикусара – Сашей, моим ровесником, я немного сошелся уже в Молдавии, в Кишинёве. Мы, кстати, и докторские диссертации свои защитили в один и тот же год (1988), уже давно не общаясь. Узнал я об этом случайно и совсем недавно. Теперь Саша член-корреспондент АН Молдовы.
Примерно года через четыре после смерти деда скончалась и его первая жена (я еще ее помню, она приходила к нам «сидеть со мной»), прошептав перед смертью: «Ухожу к Моисею». Вторая жена, моя бабушка, хранила его память, окружив себя разными геологическим стразами, привозимым некогда дедом, а над ее постелью висел огромный портрет-фотография деда. Иными словами, деду дважды повезло найти спутниц, бывших, по моим понятиям, иновоплощением вечной женственности.
Как положено, теперь есть преамбула к тексту, чтобы расставить фигуры шахматно-словесной партии и понять причину моего попадания в Молдавию в возрасте семнадцати лет. Но есть еще одна преамбула. Я окончил десятый класс (тогда ввели как раз одиннадцатилетку) с двумя двойками в году – по литературе и русскому языку и годовой тройкой по поведению. Годовой тройки по поведению не было в тот год ни у кого из самого отпетого школьного сброда. Школьная шпана, не понимая в чем дело, все же с того момента здоровалась со мной за руку. Чтобы читатель не подумал чего плохого об авторе, могу признаться, что виной был роман с девушкой старше меня на год, роман, который весьма отвлекал меня от школьных занятий. Было много прогулов. Но это бы могло еще сойти с рук, во всяком случае, педагоги ограничились бы четверкой, но на беду, на меня раздражался, точнее на мою независимость, учитель литературы Юлий Анатольевич Халфин, влепивший мне две двойки по русской литературе и русскому языку. Причина была элементарна. Переехавший в Москву из Черновцов (ох и велика была страна!), учитель, требовавший от учеников самостоятельности, слишком большую независимость не перенёс. Как всегда в таких случаях, чтобы подавить инакомысла, он не только ставил за все мои ответы и сочинения двойки, но начал постоянно твердить, что я в русской литературе ничего не понимаю и никогда не пойму, что это он мне предрекает. Ну и т. д. Перед тем как публично объявить о моих двойках (в классе все были уверены, что литературу я знаю не хуже преподавателя – школьная солидарность), иронически ухмыльнувшись, Юлий сказал, что слышал, будто я собираюсь стать писателем. «Вот истинную цену твоим писаниям мы и выявили в начале твоего пути. Ничего из тебя не выйдет. А когда тебе будут возвращать рукописи, вспомни мой урок». Действительно, рукописи мне возвращали часто за их необщее выражение. Впрочем, и печатали тоже неохотно весьма, хотя и хвалебных слов я тоже слышал немало от людей весьма достойных.
После объявления годовых оценок я встал из-за парты и предложил литератору идти, куда я его посылаю. Годовая тройка по поведению последовала незамедлительно. Впоследствии я вывел его в романе «Крепость» не в лучшем облике по имени Герц Ушерович (Григорий Александрович – для школьников) Когрин. Задержанное мщение. Кстати, роман имел прессу, те отрывки, которые пробивались к читателю. А вообще-то Халфин накаркал: писал роман я 24 года, прятал от ГБ у друга в Таллине, дописывал последнюю главу в дни ГКЧП, и прошло еще 24 года, прежде чем роман вышел в полном, авторском варианте. А в тот год я отправился к нашему классному руководителю и сказал, что хочу забрать из школы документы, чтобы поступить в школу рабочей молодежи. Классный руководитель, преподаватель истории Александр Наумович Керцбурд (со странным прозвищем – Джага), отрицательно покачал головой и сказал, что не позволит мне катиться вниз, что он уверен, что я справлюсь с переэкзаменовкой, а потому мне лучше отвлечься и поехать с группой одноклассников в Молдавию, где тоже учителем работал его родной брат. Джага был похож на индуса, героя фильма «Бродяга», где актером и режиссером был один и тот же человек – Радж Капур. Время от времени он устраивал такие выезды, которые я обычно игнорировал. Но тут согласился.
Тем более что Наумыч обещал завершить молдавскую поездку Одессой.

Александр Наумович Керцбурд (Джага) с нами на одесском пляже
Хотела поехать и нравившаяся мне девушка Оля с польской немного кошачьей фамилией. Страстная, как я и воображал полячек, но сама чувствовала себя виноватой (о, как мы были интеллигентски ранимы!), что рассказала Халфину о моем желании стать писателем. Ей было стыдно ехать со мной. Прижимаясь к моему плечу, она виновато бормотала: «Володька, я не хотела тебя предавать. Поверь мне. Я же и подумать не могла, что он так подло использует мои слова». И вдруг добавила: «Но женщинам никогда о своих тайнах говорить нельзя. Я же тобой хвасталась, что мой любимый еще и писатель. И не думай, я тебя никакому Юлию не отдам». В устах семнадцатилетней девочки слово «женщина» звучало возбуждающе. Но, странно сказать, некая опаска перед этим странным полом, где любовь нельзя отличить от корысти, вдруг посетила меня. Роман с Олей у меня продолжился после Молдавии, но ничем не кончился, имею в виду – эротическим. Наверно, дело было в том, как я позднее понял, что она была по-настоящему влюблена, а я нет. Без любви же у меня не получалось ничего.
Родители, не знавшие что со мной делать, ухватились за эту молдавскую поездку. Отец тут же сказал, что если я попаду в село Ферапонтовка, чтобы я вспомнил, что оттуда родом мой дед. Мой отец сам бы хотел попасть в Ферапонтовку, которую трудно назвать родовым гнездом, но которая была точкой отсчета. Однако дороги не ложились, и он хотел увидеть ее хотя бы глазами сына. После всех постсоветских раздраев это село оказалось в Приднестровье, но тогда это все же была Молдавия.

На вокзале, 1962 год
И вот я уже сажусь в поезд, идущий в Молдавию, с компанией одноклассников. Мне семнадцать лет. Где была первая остановка, не помню, – где мы сошли и дальше двигались уже на попутных грузовиках. Денег на нормальный транспорт не было.
Зато помню, что еще в вагоне принялся читать вслух пушкинских «Цыган».
Цыганы шумною толпой…
Ждали, конечно, приключений, новых открытий, девочки мечтали о красивых молдавских мальчиках, мальчиков в нашей группе было немного (всего три человека, если не считать Керцбурда и его племянника), но именно поэтому мы надеялись, что москвичи будут на разрыв. Хотя что делать с девочками, мы знали лишь теоретически, опыта не было ни у кого. У меня было поэтическое преимущество, я то бормотал, то громко читал «Цыган» Пушкина. Приятели и приятельницы слушали с интересом и приставали с вопросами, мол, что делать, если и впрямь столкнемся с настоящим табором? И что если кому-то понравится сегодняшняя Земфира? «Какая-нибудь цыганка-молдаванка!» Девочки надували губки и смотрели на нас с полупрезрением. Все хотели лишиться девственности и все этого боялись. Когда меня в какой-то момент отправили в Кишинёв, чтобы найти место для ночевки, я вроде бы лишился девственности, так и не поняв при этом, что и как со мной произошло. Почему послали меня? Просто Саша Дикусар, имевший в Кишинёве связи, был учеником Джаги, а его отец работал с моим дедом в Тимирязевской академии, так что я оказался единственным кандидатом на роль армейского интенданта. Но это позже и мимоходом, гораздо интереснее все же было столкновение с цыганским табором, а потом с кишинёвским ЦК ВЛКСМ.
Я читал:
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами…
Одушевляясь все более и более, я рассказывал, как старик-отец ждет свою юную дочь Земфиру, которая ушла гулять на ночь глядя и долго не возвращается. Тут мой голос приобретал бархатный тон и эротический напор:
Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой, – дева говорит, —
Веду я гостя: за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть, как мы, цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко; он
Готов идти за мной повсюду».
«А что за имя такое – Алеко? Оно же не русское», – спрашивали меня девочки как специалиста по литературе, несмотря на грядущую переэкзаменовку. И я важно (наверно, важно) объяснял, что это производное от имени Александр, что так себя сам Пушкин назвал и несколько дней кочевал с цыганами.
Самое смешное, что на первом же вокзале в Молдавии (пока Джага договаривался о грузовике) нас встретил цыганский табор, окружив юных несмышленышей, заговаривая, предлагая погадать по руке, угадать судьбу, раскинуть картишки. Черноглазые молодые цыганки окружил нас, троих мальчишек, подмигивая, беря род руку. Особенно влип я – из-за зеленых еврейских глаз. «Ты наш, наверно, – говорила, прижимаясь ко мне, цыганская красотка. – Меня Роксана зовут. Пойдем, чаем напою, и всю правду о судьбе твоей поведаю. Не обращай внимания на учителя. Мужчина должен быть свободен». И, конечно, я пошел покорно, как и положено теленку. Шатра не было, был большой привокзальный дом с множеством комнат. В одну из комнат она меня и ввела. За круглым столом сидела полная цветастая цыганка в возрасте, в серьгах и ожерельях. Увидев нас, она тотчас же вышла в соседнюю комнату. «Сейчас чай принесет, – сказала Роксана. – Да ты меня не опасайся, – добавила она, угадав мою зажатость. – Мне с тебя брать нечего, просто ты мне понравился. Раскину картишки, пока мамка самовар наладит. Сдвинь», – протянула она колоду. Я сдвинул несколько карт. Она снова перетасовала колоду и принялась раскладывать карты. И при этом приговаривала: «На любовь тебе погадаю. Ты любить любишь? Ведь тебя Володенька зовут, я слышала, как тебя окликали. А знаешь, как говорят: „Володенька, Володенька, / Гуляй, пока молоденький!“ – она покачала головой. – Но чего-то я тебя не пойму. И гулять тебе дано, и одновременно большой любви хочешь. Такое редко когда совмещается…» И тут в дверь раздался жесткий мужской стук. «Это не наш», – сказала Роксана. Верно. Дверь распахнул Александр Наумович Керцбурд, весь белый от страха и ярости. За ним толпилась вся наша группа. Увидев, что я живой, что пожилая цыганка внесла самовар, он перевел дух и присел за стол. «Ты нас чуть с ума не свел», – сказал он.
«Да вы садитесь все, – пригласила Роксана. – Как-нибудь разместимся. Вы передохнете, а я вам под гитару попою». Как у нее в руках очутилась гитара, не могу сообразить. Она пела и цыганочку, и русские романсы, даже партизанскую про «цыганку-молдаванку», а потом вдруг запела почти что песню пушкинской Земфиры, но современную.
Ой, зачем любила я,
Зачем стала целовать,
Хошь режь меня, хошь жги меня,
Уйду к нему опять!
Ой, а ты замки на дверь накладывал,
Ой, а ты наряды мои рвал!
А я нагая с окон падала,
Ой, а меня мой милый подбирал!
«Я же беспризорник, – вдруг сказал, сузив глаза Джага (и мы поняли неслучайность его прозвища) – и в подвалах с братом отсиживались, и попрошайничали, и с блатными немного бродили, потом за ум взялись. Песен много пели. Но такую, как эта, чтобы так за душу брала, не слышал. Спасибо, девочка, посидели бы еще с вами. Но теперь я в законе, дальше детей должен везти». Она хихикнула: «А Володьку мне на пару дней не оставите? Шучу, шучу! Ему другое нужно!» Я сам не знал, хочу ли я остаться. Она была очень красивая. Это я ей и сказал: «Ты красивая». Она улыбнулась, притянула мою голову к себе, прижала к груди, так что у меня заколотилось сердце, поцеловала в щеку, оттолкнула и сказала: «Не в том дело, что я красивая, красивых много. Просто я свободная, таких в вашей России не найдешь. А мы не можем никому и ничему подчиняться, уж такое наше племя». Наумыч покачал головой: «И все же без закона нельзя». Она ответила: «Так свобода и есть наш закон». Одноклассники, Юрка Константинов и Женька Трофимов, смотрели на меня немного с завистью: настоящая цыганка поцеловала!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?