Текст книги "Максвелл"
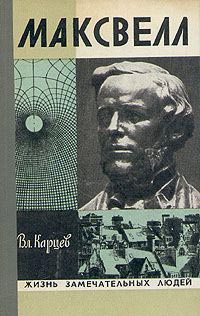
Автор книги: Владимир Карцев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ТЬЮТОР
Отца всегда немного смущало то, что Джеймс не получает систематического образования. Случайное чтение всего того, что есть в доме. Уроки астрономии на крыльце дома и в гостиной, где Джеймс вместе с отцом построил «небесный глобус». Созвездия были выколоты иглой, и, поместив внутрь глобуса свечу, можно было проецировать на стены «настоящее» звездное небо. Научные игрушки. Постоянное общение с влюбленным в науку отцом. Жизнь на фоне нетронутой природы.
В общем, такое образование, на взгляд мистера Максвелла-старшего, было абсолютно разумным. Сам он, некогда учась со своим братом сэром Джорджем в Хай-скуле Эдинбурга, до того возненавидел это почтенное заведение, что не мог представить себе, как он отдаст туда Джеймса.
Да и не очень представлял себе жизнь в разлуке с Джеймсом.
Другая партия – тетушки Джейн и Изабелла – настаивала на систематическом образовании. Они видели, что в знаниях Джеймса имеются «чудовищные» пробелы. Тетушки настояли, чтобы Джеймсу наняли воспитателя – юношу с рекомендациями.
Так и сделали. Тьютором – воспитателем оказался довольно милый юноша, отсрочивший ради этого свои собственные занятия в колледже. Он поселился в Гленлейре и, занявшись Джеймсовым воспитанием, сразу понял, какую нелегкую ношу на себя взвалил. Десятилетний Джеймс много знал – уровень его вопросов держал тьютора в постоянном напряжении. Кроме того, Джеймс с большим удовольствием менял регулярные занятия на такие прелестные вещи, как, например, катанье на бадье. На одном из рисунков Джемимы мы видим Джеймса, пытающегося ускользнуть от своего тьютора на бадье, а тот, в свою очередь, с помощью граблей пытается восстановить справедливость и вернуть беглеца к занятиям. Безмолвными свидетелями этой сцены являются отец с тростью, тетя Изабелла, кузина Джемима, «вассалы» Бобби и Джонни, а также терьер по кличке Тоби (Тобин, Тобс, Тобит – кто как звал) и изгнанные из гусиного прудка утки. В рисунке Джемимы каждая деталь многозначительна – даже палка, которую она на рисунке держит в руках, это не просто палка, а знаменитый шест-ходуля, с помощью которого юный Максвелл покорял гленлейрские окрестности.
Да и сам тьютор, видимо, нашел в Гленлейре более интересующие его проблемы. Короче говоря, план обучения Максвелла с помощью наставника оказался неработоспособным. Окончательный крах этого плана был засвидетельствован в ноябре 1841 года. Необходимо было найти какое-то иное решение для продолжения образования Джеймса.
И тут тетушки предложили, и особенно настаивала на этом незамужняя тетя Джейн, сестра матери, отправить Джеймса в новую школу – не так давно открытую Эдинбургскую академию. Мистер Максвелл всегда прислушивался к мнению тетушки Джейн в том, что касалось Джеймса. – сестра его умершей жены была тем, хотя и слабым, родничком женского влияния на воспитание Джеймса, который был необходим для гармонии воспитания. Джеймс тянулся к тетушке Джейн, даже внешне напоминавшей мать, он переписывался с ней о таких вещах, которые его волновали больше всего, – о своих приключениях и экспериментах, о боге, об оставшихся после смерти матери неоконченных вышивках – их окончила тетушка Джейн, он посылал ей из Гленлейра подарки – пучки мужского папоротника, щитовника.
Решение было принято – и вот в ноябре 1841 года мы можем наблюдать некий экипаж, переносящий юного Клерка Максвелла из любимого им Гленлейра на его родину – в Эдинбург, где предстояло ему, неученому еще отпрыску клана Клерков, принять в себя первые порции школьной премудрости.

ПЕРЕЕЗД В ЭДИНБУРГ. ПЕНИКУИК
Путешествие из Гленлейра в Эдинбург было прервано обязательным визитом в родовое имение Пеникуик, где царил дядюшка Джордж, седьмой баронет Пеникуикский, член правительства, неприступный и важный дядюшка Джордж, где шумно проживала целая ватага кузенов и кузин Джеймса.
Дом дядюшки Джорджа – в старинном густом парке, недалеко от деревни Пеникуик. Это сооружение в витиеватом греческом стиле, построенном сэром Джеймсом Клерком, третьим баронетом, покровителем искусств. Это им собрана большая коллекция живописи и особо – коллекция шотландских древностей. В парке – обелиск в честь шотландского поэта-просветителя Алана Рамзая, «шотландского Горация», открывшего некогда в Эдинбурге первую публичную библиотеку; он жил в Пеникуике на правах друга и протеже сэра Джона Клерка, второго баронета. Дальше в зелени парка – круглая башня. Это обсерватория – утеха любящих науки обитателей имения и его гостей.
Имение и парк неоднократно были свидетелями блестящих зрелищ; сколько раз сюда прибывала шумная и смешливая кавалькада из Эдинбурга – как хорош был в седле хромой Вальтер Скотт, как великолепны молодые Клерки, как очаровательны прискакавшие с ними амазонки!
Сейчас компания была поскромнее. Не то чтобы Джон Клерк чувствовал себя в этом доме предков бедным родственником – в общем, он беден не был. Но извечное противопоставление удачливого сэра Джорджа и «неудачника» Джона, хозяина провинциального имения Гленлейр, было несомненным. Да и Джеймс, спокойный, уравновешенный десятилетний Джеймс, чувствовал себя в этом замке совсем не так, как в вольном Гленлейре. Он чинно разгуливал по бесчисленным залам, разглядывал, лежа на полу, потолок в гостиной – на потолке была изображена некогда известным художником Александром Ранкиманом жизнь шотландского легендарного барда Оссиана.
Пеникуик буквально заполнен живописью. Над лестницей сюжеты из жизни святой Маргариты – сестры чуть не тысячелетней давности шотландского короля Малькольма, прославившейся своей благотворительностью. Эта роспись отнюдь не была случайной – в клане Клерков благотворительность и меценатство имели прочные традиции.
На стенах в гостиной висели портреты предков, но бородатые и безбородые предки в мрачноватой гостиной мало привлекали Максвелла, и он сбегал в парк, упрашивал отца пойти с ним на развалины находящегося неподалеку замка.
Отец, однако, спешил – до Эдинбурга оставалось добрых двадцать миль, да и устраиваться нужно – еще пара дней пройдет. А на дворе ноябрь, уже пошел снег и ударил мороз. Был запряжен экипаж, и в сумерки 18 ноября 1841 года Джеймс Клерк Максвелл, преодолев последний перегон на пути из Гленлейра, появился с отцом и верной их прислугой – Лиззи Маккенд перед подъездом дома № 31 по Хериот-роу, где поселились после брака с мистером Маккензи тетя Изабелла и ее дочь Джемима.
...На рисунке Джемимы, изображающем этот поворотный в жизни Джеймса Клерка Максвелла момент, виден герой дня в картузе, «тоге» и укороченных брюках. Он, как всегда, спокоен. Мистер Максвелл наблюдает за выгрузкой вещей, которой более непосредственно занимается дворецкий Джеймс Криг по прозвищу «Рогоносец», объясняемому его довольно своеобразной прической. У подъезда – группа встречающих. Там тетушка Изабелла, Джемима и мистер Маккензи, новый муж тетушки Изабеллы, профессор Эдинбургского университета. На ступенях – собачка Аски – будущий друг Джеймса, а в руках у тетушки Изабеллы – щенок Аски. Через наддверный люнет видна белая лошадь, не просто белая лошадь, а Белая Лошадь, – эмблема шотландского виски и эмблема этого дома. На рисунке отчетливо прослеживается разница стилей одежды, которых придерживались мистер Джон Клерк Максвелл и его сын Джеймс и профессор Эдинбургского университета мистер Маккензи, и в его лице – светский Эдинбург. Это различие в столь, казалось бы, незначительном предмете позднее сыграло определенную роль и в жизни Джеймса Клерка Максвелла.
ПЕРВЫЙ УРОК
Случилось это в первый же школьный день, в первое появление Джеймса в школе – в Эдинбургской академии, в классе, насчитывающем шестьдесят сорванцов разных возрастов, уже спаянных в определенной степени совместными интересами и бедствиями и настороженно относящихся ко всякому новичку, тем более прибывающему среди года.
Тем более к Джеймсу. Когда он впервые появился перед этими шестью десятками юных джентльменов, был представлен и усажен на свое место, в классе воцарилась зловещая тишина. Юноша в тоге из грубого серого твида с большой медной застежкой, в коротких брюках и туфлях с квадратными носами, опять же застегивающихся на медные застежки, являющийся в класс среди года, был обречен. Мистер Максвелл, возможно, вполне справедливо считал, что тога более подходящая одежда для зимы, чем облегающий тело жакет, что короткие брюки меньше пачкаются, чем длинные, что ступня в башмаке с квадратным носком меньше устает, чем в башмаке с круглым носком, что пряжкой туфли застегиваются быстрее и надежнее, чем с помощью шнурков. Все это было истинной правдой, однако, к большому сожалению, соученики Клерка Максвелла никак не могли взять это в толк.
Джеймс, как новичок, в любом случае должен был бы подвергнуться хотя бы временному гонению, но здесь случай был более тяжелый – юных джентльменов явно провоцировали, и они решили поставить все на свои места. Когда урок кончился и Максвелл, ничего не подозревая, направился в темный уголок между двумя классными комнатами, вся эта ватага набросилась на него, стала срывать столь удобную зимой тогу, отстегивать пряжки.
– Кто сделал эти туфли? – был первый вопрос, сопровождаемый гиканьем, смехом, хохотом и щипками.
– А это – не ночная ли рубашка твоей сестрички? – орали они, дергали за тунику. Но не так-то легко было получить ответ от немногословного мистера Клерка Максвелла. Припертый к стене, он прибег к своему излюбленному оружию – иронии и с чудовищным шотландским акцентом продекламировал:
– Туфли сделал человек,
Жил он в домике под крышей.
А в подвале жили мыши.
Справедливо почувствовав в сентенциях мистера Максвелла нечто непонятное, но, очевидно, неприятное для себя, шестьдесят юных джентльменов вновь накинулись на него. Не учтено было одно – что мистер Клерк Максвелл десять лет своей жизни прожил в деревне на свежем воздухе под влиянием гигиенических идей своего отца, что сила его рук, тренированная шестом-ходулей, была весьма велика.
Когда юный Максвелл вернулся после уроков на Хериот-роу, 31, в «старину 31», вид его был довольно живописен: тога – вся в дырках, туника разодрана, шея в царапинах, а он сам – абсолютно спокоен и доволен собой, хотя, видимо, и несколько удивлен оказанным ему приемом. Видимо, этот прием был впитан им как безусловность – как еще одна сторона неизбежной, но пока еще неизвестной ему жизни, как новая страница, теперь уже с таким рисунком, не менее интересная.
Однако вечером, в выделенной ему комнате, где провел он следующие восемь или девять лет, записал он такие строки:
Мне кажется, страшнее в мире нет,
Чем стая мальчиков в их ...надцать лет...
ЭДИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ И ЕЕ РЕКТОР
Эдинбургская академия, как важно называлась школа, куда поступил учиться Максвелл, была основана в 1824 году. Открытие было весьма торжественным – выступили Вальтер Скотт и – теперь родственник Джеймса – мистер Маккензи, и завершило оно долгий период борьбы Скотта за создание в Эдинбурге новой школы, которая могла бы дать детям «классическое» образование. Вальтер Скотт, Джон Клерк Максвелл и дядюшка Джордж учились когда-то в Эдинбургской городской школе Хай-скул, которую дружно ненавидели всем сердцем.
Академия была, несомненно, школой для избранных – плата за обучение была здесь весьма высока, что объяснялось, во-первых, отсутствием поддержки со стороны городских властей, во-вторых, хорошим составом преподавателей и, в третьих, дороговизной роскошного здания, построенного для академии. «Такое стремление взбесить городские власти, – сообщает старая эдинбургская хроника, – весьма прискорбно, поскольку более скромное здание академии придало бы более законченный вид спуску с Фредерик-стрит».
Так или иначе, академия была построена, и руководство ею принял «лучший школьный воспитатель Европы», по выражению Вальтера Скотта, – архидиакон Вильямс. Ему, возможно, масштаб академии казался мелким, и, пробыв в качестве ректора два года, Вильямс начал подумывать о более почетном и важном посте. И когда вновь образовавшийся Лондонский университет предложил ему кафедру романской философии, он согласился. Уговоры Скотта и Маккензи не помогли – Вильямс упорно стоял на своем. В конце концов попечители согласились с его отставкой. Тем временем либеральное руководство Лондонского университета узнало о жесткой консервативной позиции Вильямса в вопросах церкви и вынудило его отказаться от кафедры. С другой стороны, Вильямс не мог уже возвратиться в Эдинбургскую академию, где на его место был назначен преемник. Вальтер Скотт писал о сложившейся ситуации в 1828 году:
«Написал Локкарту длинное письмо, о ситуации с Вильямсом и описал, как он сейчас, сидя меж двух стульев,
Упал со звуком непочтенным
На свой крестец преосвященный».
С большим трудом Вильямсу удалось обрести свое персональное место, и он теперь крепко держался за него. Своей главной задачей в академии он считал пестование обожаемого «классического» образования, основной упор в котором делался на латынь, греческий и английский языки, римских классиков и священное писание, то есть как раз на то, что и ожидали видеть в академии ее устроители. В дневнике Вальтера Скотта от 9 июля 1827 года встречаем примечательную фразу:
«В одиннадцать посетил вместе с Маккензи новую Эдинбургскую академию. В классе ректора м-ра Вильямса мы с удовольствием слушали на латинском Вергилия и Ливия».
От поступающих в школу учеников ректор Вильямс требовал знания Саллюстия и Вергилия, по его мнению, никто не должен поступить в школу, если он не держит в памяти основ греческой грамматики и если он не способен достаточно быстро и правильно переводить четыре книги евангелия и деяния апостолов, если он не может перевести любое место из шести книг «Илиады».
Джеймс, несмотря на домашнее воспитание, по-видимому, удовлетворял этим довольно высоким требованиям и был принят в академию.
У Максвелла в академии сразу же появилось прозвище – Дуралей. Он, казалось, нисколько не тяготился им, но с той памятной первой встречи со своими будущими соучениками не искал сближения с ними, предпочитая одиночество. Время от времени он с непроницаемым лицом бросал какие-то фразы, саркастические замечания, большей частью непонятные окружающим. Единственной его реакцией на шутки и поступки его одноклассников была быстрая, летучая улыбка, только ею выдавал он свою большую чувствительность. Только ею и коротким, глухим смешком.
Его успехи в классе были далеко не блестящи. Учитель греческого мистер Кармайкл считал своей первой задачей рассаживать учеников в соответствии с их школьными успехами, и Джеймс никогда не сидел впереди. Он сидел где-нибудь в средних или даже задних рядах и под ритмическое бормотание:
di... do... dum... di... do... dum...
думал о чем-то своем. Он легко мог бы выполнять задания лучше, но дух соревнования в малоприятных занятиях был для него глубоко чуждым. В изучаемых греческих глаголах он видел лишь трупы слов, останки мертвого языка.
Учеба шла все хуже и хуже, он отсаживался все дальше и дальше назад, ко все более и более агрессивным соседям, отдававшим все свои силы и способности издевательству над Джеймсом.
Джеймс редко принимал участие в общих играх, хотя и болел за школьные команды. Особый интерес он проявлял к двум играм – кручению волчка и «камешкам» – игре, в которой нужно было попадать камнем в другой камень и – что еще более желательно – рикошетом и в третий, и в четвертый. Как заманчиво было бы свести позднейшие устремления Максвелла – цветовые волчки и анализ движения молекул – к этим бесхитростным играм! Но цепь связей сложна; она таинственным образом переплетается с другими связями. И тем не менее как бы путаны переплетения ни были, образ школьного или гленлейрского волчка или образ сталкивающихся камешков, несомненно, помог всегда предметно мыслящему Максвеллу в обретении идей иных, совсем не очевидных, совсем не предметно-ощутимых.
Больше всего любил Джеймс бывать один. На зеленом, покрытом травой и цветками дикой примулы и чертополоха заднем дворе академии, на склоне холма ловил Джеймс громадного шумного шмеля, долго разглядывал его, свирепо виляющего брюшком, и отпускал. Несколько деревьев на том склоне служили ему гимнастическим залом – он часто висел на них, иной раз приняв какую-нибудь «классическую» позу, несомненно, перенятую у обожаемых им лягушат.
Лучше всего было в «старине 31», где зимой грелся у камина своей сестры отец, где дом был полон родными, где была кузина Джемима, наблюдавшая за занятиями Джеймса. Сама она занималась изучением искусства гравюры, и даже Джеймсу иногда – в исключительных случаях – разрешалось использовать ее резцы для собственного развлечения. Джеймс резал с удовольствием, результатом были несколько грубоватых гравюр – голова старухи, выполненная не без чувства, но с отсутствием того, что принято называть художественностью. Не зная, куда девать энергию, он занимался вязанием.
Больше всего увлекало Джеймса чтение. Богатая библиотека дома давала для этого все возможности. Он читал Свифта и Драйдена, потом Гоббса.
Первая школьная зима в Эдинбурге прошла с отцом. Отец разрывался – в Эдинбурге был любимый Джеймс, а в Миддлби требовали его присутствия хозяйственные дела. Весной 1842 года мистер Максвелл должен все-таки был уехать в Гленлейр. Но перед отъездом сын и отец почти не расставались – они беседовали, гуляли по Эдинбургу. 12 февраля, в субботу – этот день запомнился, – они оба пошли в Эдинбургское королевское общество, где выставлены были первые «электромагнетические машины», первые ласточки века электричества, первые вестники того века, для которого предстояло жить и творить Максвеллу.
ПЕРЕПИСКА С ОТЦОМ. ПОЯВЛЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Когда отец уезжал, общение с ним продолжалось в письмах. У мистера Максвелла-старшего был, видимо, какой-то талант в завоевании доверия детей – в свое время и кузина Джемима, переписываясь с ним, поверяла ему свои девичьи тайны, используя шифр и «римминги» – подстановки одних слов вместо других, ритмически созвучных. Теперь и Джеймс после весеннего отъезда отца стал писать ему обо всем, о чем можно было бы написать приятелю, поверенному в тайны. Приятеля у Джеймса сейчас не было ни одного, кроме отца, уехавшего по первопутью в Гленлейр.
«Апрель, 1842 год
Мой дорогой папа, в день, когда ты уехал, мы с Лиззи пошли в зоологический сад, и там был слон, и Лиззи испугалась его некрасивой морды. А один джентльмен был с мальчиком, который спрашивал, не индийская ли это корова.
Собачка Аски думает, что она тоже школьник, хотела пойти со мной в школу и сегодня пришла в танцкласс.
А в пятницу, в день 1-го апреля, мы все здесь очень повеселились – мы ничему не верили, потому что все часы «стояли», и у каждого была «дырка в жакете»... Как идут великие работы? Плавает ли еще Бобби на бадье?
Остаюсь твой покорный слуга,
Джеймс Клерк Максвелл».
Из письма мы узнаем о нехитрых событиях, случившихся в жизни Джеймса в апреле. Тут и зоосад, и собачонка Аски, и слон. Школа присутствует вскользь – она еще не тронула сердце Джеймса. Школа скучна, а Джеймса тянет к шуткам, парадоксам, к розыгрышу. Дуралею хочется, чтобы можно было дурачиться весь год, а не только в день 1 апреля. И он шутит, дурачится, посылая отцу, например, такие письма:
«Мой дорогой м-р Максвелл, я видел сегодня Вашего сынка, и он мне сказал, что Вы не могли отгадать его загадок. Если речь идет о греческих шутках, у меня есть в запасе еще одна. Некий простак, попробовав поплыть, чуть не утонул. Как только он добрался до берега, он поклялся, что не ступит в воду до тех пор, пока не научится плавать...
Ваш прдн. племянник -
Джеймс Клерк Максвелл.
(И далее, подозрительно похожим почерком):
Я разрезал орех кэшью, и немного масла попало на мои пальцы, и оно пахло, как льняное масло, но оно не щиплет. У нас в школе один мальчик принес на урок «файк»[6]6
Вещество, которое часто находят на морском берегу. Это, по существу, останки некоторых моллюсков: если их размельчить и нанести на кожу, кожа сильно раздражается.
[Закрыть] и засыпал его за воротник мальчикам, за это был наказан – должен учить по лишних 12 строчек три дня. Если говорить об успеваемости, я сейчас 14-й, но я надеюсь перебраться повыше. Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло, а потом предсказал победу, которой никогда не было. Посылаю свой рисунок волынщика, дабы вызвать бурное восхищение туземцев. У меня есть свой лужок для прыжков и деревянный пугач. Когда ты приедешь? Твой весьма покорный Рапп,Джайкс Лекс. М'мерквелл[7]7
Абсолютно загадочная личность.
[Закрыть]».
Да, ничем пока не выдает себя будущий великий физик. Он пока обычный двенадцатилетний мальчик. Но критически мыслящий и едкий («Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло»). И наблюдательный («масло ореха кэшью пахнет, как льняное, но оно не щиплет»). И любопытный – не всякий будет разрезать орех кэшью, куда проще его просто положить в рот! Здесь нет ни слова о физике – и все же все о ней.









































