Текст книги "Максвелл"
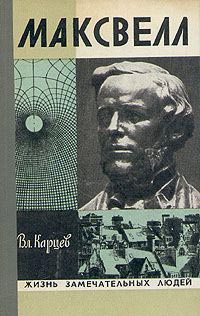
Автор книги: Владимир Карцев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
МИСТЕР ДЖОН КЛЕРК МАКСВЕЛЛ ПОЗНАЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Именно здесь, в Миддлби, на берегу Воды Урра, строится дом для жены и наследника Джона Клерка Максвелла. Здесь, в этом доме, будет светиться тихая жизнь новой семьи, живущей по своему закону.
Этот закон прост – все должно быть разумно, продуманно, правильно.
Джон Клерк Максвелл решил все сделать по-новому, начиная с дома. Дом должен был содержать лишь самое необходимое, причем лишь в необходимой степени. Все помещения и вещи конструировались лично Джоном Клерком Максвеллом с расчетом их минимального веса и размеров. Когда Джон Клерк Максвелл размещал свои заказы у местных и эдинбургских мастеров, у тех вполне могло бы сложиться впечатление, что речь идет о корабле, возможно даже направляющемся в кругосветное плавание, – такие жесткие нормы задавались мистером Максвеллом.
Каждую вещь, по мнению Джона Клерка Максвелла, можно было сделать лучше, разумней, целесообразней – привычные тривиальные решения, на его взгляд, были если не все, то в своем большинстве плохи. Он всегда о чем-то раздумывал, что-то прикидывал, сравнивал одну вещь с другою, одно решение с другим, сколь малой проблемы бы это решение ни касалось.
Весьма необычной, например, была обувь, которую носили обитатели имения, странная кожаная обувь с квадратными носками. Мистер Максвелл считал, и, возможно, вполне справедливо, что простор для пальцев ноги важнее, чем мода, и велел деревенскому сапожнику сшить соответствующие тупоносые башмаки по колодке, изготовленной лично мистером Максвеллом из лично им подобранной кожи для себя и своего юного сына Джеймса.
Мистер Джон Клерк Максвелл не считал идеальной и современную одежду. Для своего сына Джеймса он сконструировал некое подобие римской тоги – одеяние весьма удобное, если учесть переменчивость шотландского климата, но весьма чудовищное с точки зрения столь же переменчивой моды. Под «тогой» носилась на римский манер столь же своеобразная «туника». С тогой и туникой в одежде юного Джеймса неожиданным образом соседствовали вполне современные брюки, правда, значительно укороченные. Длинные брюки, по понятиям Джона Клерка Максвелла, слишком быстро пачкались.
Стараниями мистера Клерка Максвелла, нашедшего наконец в разработке своеобразного быта своего родного имения радость и смысл бытия, был построен и «большой дом», а на самом деле дом совсем небольшой, «но допускающий возможность расширения», дом, получивший название «Гленлейр» – «берлога в узкой лощине».
В Гленлейре мистер Клерк Максвелл впервые почувствовал себя на месте, поверил в свое предназначение – пусть не столь величественное, как у его именитых родственников, но и немалое – быть хозяином собственного дома на собственной земле, мужем собственной жены и отцом собственного сына, а также – и это было одной из больших радостей – делать все разумно, долговечно, правильно.
Его леность и неуверенность в себе исчезли, когда рядом с ним появилась Франсез – энергичная, тонко чувствующая женщина с сангвиническим темпераментом. Недаром именно к этому времени относится и первая статья мистера Клерка Максвелла, которую наконец приняли к опубликованию. Для мистера Максвелла наступила, быть может и несколько поздно, пора расцвета всех дотоле дремавших в нем сил. Именно на 1831 год – год рождения Джеймса – приходится и первая опубликованная статья его отца, и основная работа по строительству дома, и вообще высшая точка жизни мистера Джона Клерка Максвелла.
В этот лучший год его жизни Джон Клерк Максвелл был уже изрядно располневшим сорокалетним мужчиной с волевым подбородком (запись в дневнике Джона: «вес 15 стоунов, 7 фунтов»[3]3
Примерно 100 кг.
[Закрыть]), несколько загадочно выглядевшим на его полном добром лице. Когда уже после смерти Джона его друг, президент Королевской академии Шотландии сэр Джон Ватсон Гордон, написал его стихотворный портрет, основной акцент упал на добрые глаза мистера Максвелла:
Как только я вспоминаю
Его серые глаза,
В которых отсвечивают сполохи летних гроз,
Летнее тепло, радость, ясность ума, здоровье души,
Печаль охватывает меня...
Мягкий шотландский диалект, на котором он говорил (и надо признать, писал), несмотря на введение в Шотландии в качестве государственного английского языка, никогда не смолкал в клане Клерков. Этот диалект, пронизанный мягким юмором, но ни в коем случае не грубый, не вульгарный, мистер Максвелл довел до совершенства – взлелеянные гласные звуки перекатывались у него на языке сладким кусочком, вишневой косточкой. Хотя мистер Джон зачастую говорил прямо, без обиняков, живописная оболочка делала самые резкие для него речи необидными, мягкими. И вместе с тем, как сказали бы англичане, Джон Клерк Максвелл всегда называл лопату лопатой.
Отец и сын жили в редком взаимопонимании и любви – они были друг другу больше, чем отец и сын, больше, чем братья, больше, чем друзья. Они были в каком-то смысле двойниками – похожи по комплекции (с коррекцией на возраст), по характеру, внешне, они были равно немногословны, скромны, просты, доброжелательны и просто добры – ни один из них не причинил вреда ни одному живому существу, что мистическим образом сочеталось у старшего Максвелла со страстью к охоте и стрельбой без промаха – и именно последним оправдывал он первое. Отец и сын отличались еще тем, что сын, в противоположность отцу, прохладно относился к спорту.
Если говорить о внешних проявлениях характеров, здесь тоже были различия. Если отцу были равно чужды как энтузиазм, так и мистический пессимизм, то его сын затаил в глубоко сидящих под нависшими бровями глазах острый, непреходящий интерес ко всему сущему и происходящему.
ОТЕЦ ПИШЕТ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ
Русский путешественник Иван Головин, побывавший в Англии тех лет, верно уловил то, чем дышала страна, чем отличалась она от других, в числе коих была и Россия: «Блистательные успехи английского земледелия не старее 20 лет; оно особенно обязано своим развитием учреждению железных дорог, которые позволили перевозить скот, хлеб и орудия из одной части государства в другую. При Якове II дороги были так худы, что запрягалось по 4 и по 6 лошадей в карету, не из чванства, а из необходимости; а когда между Оксфордом и Лондоном объявлен был дилижанс, который должен был совершить этот путь в один день, седельники кричали, что свет погибнет и люди задохнутся в таких каретах». Не упустил Иван Головин и то, что «в Англии выходит в неделю книг двадцать».
Другой путешественник из России, несколько позже посетивший Англию, харьковчанин К.Таулович, не смог, видимо, разобраться в том, что в это время происходило вокруг него, не заметил промышленного переворота, не заметил тысяч ткацких станков «дженни», чуть не десятка тысяч паровых машин Уатта, не заметил железной дороги, загончики которой с тридцатью пассажирами неслись с небывалой скоростью – 30 миль в час! Поверхностный наблюдатель, Таулович со вкусом описывал роскошную жизнь английской родовой знати, чудесные пиры, «состоящие вообще в богатейшем угощении всем, что только кичливый ум человека мог изобрести и извлечь из четырех царств натуры для наслаждения и славы богатых вельмож Англии, и редких и вкусных плодах и фруктах, привезенных из обеих Индий... в чрезвычайном разнообразии зрелищ и в иных многих приятных предметах, служащих для усугубления веселости...».
Но и поверхностный наблюдатель не мог не заметить яркого газового освещения в Лондоне, «уподобляющегося почти дневному свету», не пропустил «прекрасно устроенных и убранных с великим вкусом магазинов, которым нет равных в мире», не мог не заметить «огромных мостов на реке Темзе, а Тоннель, или Туннель, прокопанный для удобства пешеходов под Темзой, – выше всякого человеческого удивления».
Не мог не увидеть он также и того, что «в естественных практических науках англичане, кажется, шагнули дальше всех прочих народов».
Действительно, в описываемые времена Англия была наиболее промышленно развитой страной мира. Лондон насчитывал уже два с половиной миллиона жителей – больше, чем любой другой город на земном шаре, две трети трудового населения были заняты в промышленности.
Тысячи фабрик со сложными паровыми машинами и усовершенствованными станками четырнадцать часов в день приковывали к себе мужчин, женщин и детей – рабочих, создававших отличного качества товары, потреблявшиеся всем миром. Ограбление колоний – и особенно Индии – требовало быстроходных кораблей и усовершенствованного оружия. На полную мощность работали фабрики, изготавливавшие шотландское виски и лондонский джин.
Промышленность требовала машин все более и более производительных. Не случайно именно в Англии появились быстрые ткацкие станки, паровые машины Ньюкомена и Уатта, паровозы Тревитика и Стефенсона, приборы Фарадея. Все указывало на то, что Англия переживала величественный, хотя и жестокий период своей истории – период технической революции – знаменитого промышленного переворота.
К чести Джона Клерка Максвелла, эсквайра, нужно отметить, что он прекрасно понимал это и стремился хоть каким-то образом участвовать в мощном научно-техническом движении. Так, еще в юности он со своим приятелем Робертом Дундасом Кеем пытался сконструировать воздуходувные мехи, дающие постоянный ток воздуха. Более того, в Эдинбургском медицинском и философском журнале (том 10. 1831 год) им была опубликована статья под таким названием: «Наброски плана соединения машинных устройств с ручным печатным прессом». Если попытаться оценить научную ценность этой статьи отца Максвелла, то придется признать, что она не была чрезмерной. Статья относилась к довольно частному проявлению промышленного переворота («ручной печатный пресс»), имела неконкретный характер («наброски»), и ее влияние на шотландскую науку и технику было, видимо, невелико. К слову сказать, в активе шотландской техники и промышленности были уже к тому времени такие великолепные предприятия, как железо-детальные заводы Каррона и Фалькирке, восхищавшие некогда Петра I и выпускавшие пузатенькие корабельные «карронады» – ими была оснащена уже «Виктория» Нельсона.
Шотландский инженер Джеймс Насмит изобрел паровой молот, коренным образом преобразовавший облик промышленной техники – с изобретением молота появилась возможность обрабатывать в горячем виде гигантские раскаленные поковки, например для винтов громадных пароходов.
На этом внушительном фоне работа Джона Клерка Максвелла теряется. Она скорее показатель его интересов и способностей, не нашедших в шотландской науке должного применения.
ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ
Матери Джеймс практически не помнил. Отдельные, отрывочные, беззвучные, бессвязные картины. Вот в имение привезли много израненных рабочих – на близлежащих карьерах случилось несчастье – молодая женщина в белом около них, перевязывающая раны...
Молодая женщина в белом, играющая на органе...
Молодая женщина, вышивающая гладью...
Молодая женщина, со слезами прощающаяся со всеми, – ее везут на тяжелую операцию – у нее рак, а наркоз еще не изобретен.
Женщина в гробу...
Максвеллу восемь лет. Он еще не объемлет трагизма ситуации. Вспоминая, как мать страшно мучилась от болей, плача, он произносит:
– Как я рад! Ей наконец не больно!
Он верит в загробную жизнь. Это влияние матери. Целое воскресенье посвящено богу и библии. Джеймс легко выучивает псалмы наизусть.
В воскресенье нельзя не только работать, но и отдыхать. Воскресенье принадлежит богу. В Эдинбурге в воскресенье не работают магазины, не ходят кареты. Один русский путешественник писал, что по сравнению с воскресеньем в Эдинбурге даже воскресенье в Лондоне может показаться веселым.
Протестантская религия имеет для Джеймса большое преимущество перед остальными – она позволяет каждому по-своему понимать библию. Вечернее чтение библии, семейные споры над ее содержанием превращаются в тренировку ума, памяти.
Вечером читаются и другие книги – слащавый «Гудибрас» Батлера и «Джон – Ячменное зерно» Бернса, старинные шотландские баллады, а позже – «Потерянный рай» Мильтона, пьесы Шекспира, «Гулливер» Свифта.
Чтение глубоко действует на Джеймса. Он может не только повторить наизусть то, что ему читают, – он глубоко и критически взвешивает каждое слово, каждую ситуацию. Чтение ранних лет навсегда осталось фундаментом его понимания людей и жизни. Он знал и любил много стихов, много старинных шотландских баллад.
Утром его будил отец. Он пел Джеймсу старинную балладу:
А «молодцов» было всего двое – Бобби и Джонни, сыновья садовника Сэнди Фразера, «вассалы», приятели детских игр.
«Молодцы» влекли его к ручью или к пруду – там можно было предаться всеми любимой игре – управлению судном. Судно сделано было из большой бадьи, было очень неустойчивым, и плавать на нем было дело непростое. Умение управлять кораблем-бадьей числилось у Джеймса в арсенале его самых больших, на его же взгляд, достоинств. И действительно, круглая бадья вертелась, перевертывалась, при быстром ходе накренялась вперед и вообще проделывала самые загадочные движения, никак не походившие на плавное скольжение по поверхности моря под парусами. Для «устранения дифферента» Джеймс придумал класть в бадью деревянный брус. Сидя на нем и подогнув под себя ноги с обеих сторон, можно было грести руками и обеспечить довольно устойчивый ход «судна». Об этом важном событии нужно сразу же сообщить уехавшему погостить в Эдинбург отцу:
«29 октября 1841 года
Дорогой папа, мы все живем хорошо. Во вторник мы с Бобби плавали на бадье, то же самое мы делали вчера и достигли многого – я могу теперь плавать без того, чтобы бадья крутилась, а в среду была стирка, и мы не могли плавать[5]5
Видно, бадью отобрали.
[Закрыть], и пошли собирать картошку...Мне нечего больше сообщить, и тем не менее я остаюсь твоим преданным сыном,
Джеймс Клерк Максвелл».
А сообщать, конечно, было о чем, лень было писать. Можно было бы написать о том, что он освоил шест-ходулю, которым его снабдил практичный отец: шест позволял легко перепрыгивать через рвы и заборы, быстро передвигаться – круг освоенных окрестностей быстро расширялся. Можно было написать, но, видимо, не стоило, что трясли они фруктовые деревья – один наверху, в ветвях, другие стараются ловить плоды прямо в воздухе – веселая игра! В июле он в один день разорил четыре осиных гнезда и ходил весь опухший – событие, которое стоило отметить!
Важное тоже занятие – пускать мыльные пузыри. Они уплывали в теплом потоке горного ветра, напоенного запахами летних горных трав, поворачивались в воздухе, уменьшались, переливались разными красками. Интересно было бы разобраться, почему мыльные пузыри такие красочные, такие разноцветные, такие переменчивые, но некогда, есть много других важных и интересных дел.
Можно было организовать «экспедицию» вверх по руслу ручья и наблюдать, как пенящийся и вихрящийся поток проделывает в твердом базальтовом основании углубления и борозды, если воронка двигается. Смутное очарование пенящегося потока, несущего гальку в Воду Урра, таинственная неизведанность водоворотов, еще пока непонятных и страшноватых, ничего пока не говорили ему, но уже, возможно, откладывались в его сознании кирпичиками будущих теорий. Еще не называет он водоворот нежным математическим термином «кэрл» – локон, завиток, не соединяет вихревое движение воды с вихревым движением таинственной среды – эфира, дающим еще неизвестные ему явления – электричество и магнетизм. Но уже отложились в это пытливом уме навсегда и воронки, и отверстия в базальтовом дне, и переливчатые краски мыльных пузырей. Все имеет для него образ и подобие в природе – он не умеет мыслить абстрактно, и за вязью формул впоследствии видит он кучевые облака, водовороты, мыльные пузыри, накреняющуюся от нагрузки бадью, падающие яблоки.
Его любовь к природе, ощущение себя ее частью были неотделимы от него самого. Иногда его одолевали раздумья о природе и о себе – он садился на берегу ручья там, где вода была спокойна и сквозь прозрачные струи видно было каменистое дно, и размышлял о своем месте здесь, в этом мире, под этими деревьями, у этого ручья. И бесконечно вкусной была вода, которую он пил ртом прямо из ручья, вместе с зелеными тенями деревьев...
Но особенно хорошо было, когда в имение приезжал из Эдинбурга отец. Джеймс на своем пони всюду следовал за его фаэтоном, учился забрасывать вилами сено в телегу, навешивать плуг, пользоваться шестом-ходулей – это сильно развило его тело. Бесконечные путешествия на шесте-ходуле по окрестностям сделали его физически выносливым.
Отец брал Джеймса на нехитрые сельские праздники, на встречи у соседей. Однажды на новогодний праздник они поехали с отцом к соседям в Ларгнейн, и там Джеймса поразила настоящая фея, выходящая из грота и раздающая подарки. Фея, как и бог, вошли с детства в его жизнь реальнейшими атрибутами природы, в существовании которых не приходилось сомневаться – он их видел собственными глазами, фею во всяком случае.
Иногда обитатели Гленлейра в те великие дни, когда туда приезжали родственники из Эдинбурга – тетя Изабелла с Джемимой и мисс Дайс – будущая жена брата Франсез, Роберта, – устраивали в горах пикники с обязательной стрельбой из лука и вручением призов. После этого ели непременный громадный пирог, говорили о родственниках, о друзьях, о сэре Вальтере Скотте, которого многие из клана знали, который был близким другом безвременно умершего мужа Изабеллы – Джеймса Веддерберна и работал когда-то вместе с дедом – судьей Кеем. Здесь узнал Джеймс и о дяде Джордже, и о самых первых Клерках, отстаивавших с оружием в руках судьбу «несчастной» Марии Стюарт, и о последующих – ученых, адвокатах, моряках.
УВЛЕЧЕНИЯ ДЕТСТВА
Джеймса всегда особенно волновало то, что связано было с развитием событий, с удивительной игрой причин и следствий. Его восхищала почти невероятная трансформация икринки в головастика, головастика – в лягушку. Джеймс и его кузина Джемима нарисовали множество серий картинок для «магического диска» – предшественника кинематографа. Вот икринка. Она лопается, затем головастик, все увеличивающийся, превращающийся в широко раскрывающую рот квакающую лягушку. При быстром вращении «магического диска», или «магического барабана», картинки следовали одна за другой, создавая за счет инерции зрения впечатление непрерывного действия. Молодые люди надрывали животики над этими «фильмами». Вместе с мистером Клерком Максвеллом-старшим.
Корова, прыгающая через луну, собака, преследующая крысу, цирковая лошадь, у которой на спине наездник прыгает через обруч, лягушка, вырастающая из икринки. И еще один рисунок, еще один «фильм», совсем необычный для любителей «магического диска», – зубчатые колесики зацепляют друг за друга, движимые маятником часов, – Джеймс изучал работу храповика. Такой способ изучения какой-нибудь проблемы – с помощью картинок, чертежей, диаграмм, геометрических фигур – так и остался у него на всю жизнь. Его мышление было предметным, он мыслил с помощью понятных, ясных, легко вызываемых воображением образов. А эти колесики с зубцами – маленькие шестереночки, зацепляющие друг за друга, – как напоминают они рисунки тех же шестереночек, с помощью которых уже мудрый, гениальный Максвелл пытается объяснить передачу электромагнитных воздействий от одной точки пространства к другой! В зримости, предметности мышления Максвелла была его сила, и все же основная его роль в науке оказалась в том, что он смог перейти к тому, что нельзя было непосредственно представить, ощутить, – новая наука постепенно переходила ко все более и более абстрактным категориям, порой не поддающимся прямому представлению, механической модели.
Период детских игр, заполненный природой, общением с отцом, книгами, рассказами о родных, «научными игрушками», первыми «открытиями» – типа обуздания своенравной бадьи, – кончался. У всякого свой образ детства – у Джеймса Клерка Максвелла идиллия детства рисовалась прохладной летней ночью: отец поднимал его с постели, бережно брал на руки, завернутого в плед так, что виднелись только блестящие неземные глаза, выносил на крыльцо их фамильного небольшого, но «допускающего возможность расширения» дома в Гленлейре, выполненного из настоящего шотландского камня.
Была темная летняя ночь, и мистер Клерк Максвелл, держа на одной руке завернутого в плед Джеймса, показывал ему другой рукой на созвездия северного неба и говорил их названия. И не было для Джеймса высшего счастья в его удивительно счастливом детстве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































