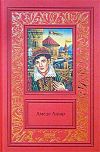Текст книги "Дикая охота короля Стаха"

Автор книги: Владимир Короткевич
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Он замолчал, уткнув лицо в ладони, пальцы на которых, белые, артистичные, были длиннее пальцев обычного человека раза в два. Я молчал, и вдруг меня прорвало:
– Как вам все же не стыдно. Мужчины, взрослые мужчины! И не можете защитить! Да пускай бы это был сам дьявол – деритесь, черт побери! И почему не всегда появляется эта охота? Почему при мне еще не была?
– Даже если они появляются часто, они не приходят в ночи перед святыми днями, а также в среду и пятницу.
– Гм, странные призраки… А в воскресенье? – У меня все сильнее росло на душе желание дать по этой фарфоровой, вялой, безвольной морде, потому что такие не способны ни на хороший поступок, ни на криминал – не люди, а трава мокрица, что глушит грядки. – А в филипповки, на петровки они появляются, если уж они такие святые привидения?
– На воскресенье Бог им позволил, потому что, если помните, Стах был убит именно в воскресенье, – совершенно серьезно ответил он.
– Так что же он тогда такое, ваш бог? – гаркнул я. – Он что, стакнулся с дьяволом? Он что, берет души невинных девушек, у которых крови того Романа, может, одна только капля!
Берман молчал.
– Четыре тысячи девяносто шестая часть крови Романа в ее жилах, – подумав, подсчитал я. – На что он тогда годится, этот ваш бог?
– Не кощунствуйте! – испуганно охнул он. – За кого вы заступаетесь?
– Слишком много чертовщины даже для такого дома, – не унимался я. – Малый Человек, Голубая Женщина, а тут еще эта дикая охота короля Стаха. Обложили и изнутри, и извне, чтоб он сгорел, этот дом!…
– Мгм, откровенно скажу вам, уважаемый пан, что я не верю в Человека и Женщину.
– Их видели все. И вы тоже.
– Я не видел, я слышал. А природа звуков нам неизвестна. Да к тому же я очень нервный человек.
– Видела хозяйка.
Глаза Бермана скромно опустились. Он поколебался и сказал тихо:
– Я не могу ей во всем верить… Она… ну, словом, мне кажется, ее бедная головка не вынесла этих ужасов. Она… м-м… своеобразный в психическом отношении человек, чтоб не сказать больше.
Я тоже думал об этом, поэтому смолчал.
– Но я тоже слышал шаги.
– Дикость. Это просто акустический обман. Галлюцинация, уважаемый пан.
Мы посидели молча, я чувствовал, что сам начинаю терять рассудок от милых приключений, которые здесь происходили.
В ту ночь мне приснилось: бесшумно скачет дикая охота короля Стаха. Беззвучно ржут кони, беззвучно опускаются копыта, качаются вырезные поводья. Холодный вереск под их ногами: мчат серые, наклоненные вперед тени, и болотные огни сверкают на лбах коней. А над ними, в небе, горит одинокая, острая, как игла, звезда.
Когда я просыпался, я слышал в коридоре шаги Малого Человека и временами его тихий жалобный стон. А потом опять была черная бездна тяжелого сна, и снова скакала по вереску и трясине стремительная, как стрела, охота.
Глава четвертая
Жители Волотовой прорвы, видимо, не очень любили ездить на большие балы. Я думаю так потому, что не часто бывает в таком уголке совершеннолетие единственной наследницы майората, и все же через два дня в Болотные Ялины съехалось никак не больше четырех десятков человек. Пригласили и меня, хотя я согласился с большой неохотой: я не любил провинциальной шляхты и к тому же почти ничего не сделал за эти дни. Не сделал почти никаких новых записей, а главное, ни на шаг не продвинулся вперед, чтоб разгадать тайну этого чертова логова. На старом плане ХVII столетия никаких слуховых отдушин не было, а шаги и стоны звучали каждую ночь с завидной регулярностью.
Я ломал голову над всей этой чертовщиной, но ничего не мог придумать.
Так вот, впервые, может, за последние два десятка лет дворец встречал гостей. Зажгли плошки над входом, сняли чехлы с люстр, сторож на сей раз превратился в швейцара, из окольных хуторов взяли еще трех служанок. Дворец напоминал нарумяненную бабусю, которая в последний раз решила пойти на бал, вспомнить молодость и потом лечь в могилу.
Не знаю, стоит ли описывать этот шляхетский съезд? Хорошее и целиком правильное описание чего-то подобного вы найдете у Фельки из Рукшениц, незаконно забытого нашего поэта. Боже, какие это были возки! Старые, с покоробленной от времени кожей, совсем без рессор, с колесами в сажень высотой, но обязательно с лакеем на запятках (у «лакеев» были черные от земли руки). Какие это были кони! Россинант показался бы рядом с ними Буцефалом. Тощие, с отвисшей, как сковородник, нижней губой, со съеденными зубами. Упряжь почти сплошь из веревок, зато кое-где на ней сверкали золотые бляшки, что перекочевали сюда с упряжи «золотого века».
«Что это творится на свете, люди добрые? Когда-то один пан ехал на шести конях, а теперь шесть панов на одном коне». Весь процесс панского разорения уместился в одной этой насмешливой народной поговорке.
Берман-Гацевич стоял за моей спиной и отпускал язвительно-вежливые замечания в адрес прибывающих.
– Взгляните, какая свирепа[25]25
свирепою на белорусском языке ХVI столетия называли клячу
[Закрыть]. На ней, наверное, кто-то из Стахов ездил: заслуженный боевой конь… А эта паненка, видите, как оделась: словно на праздник святого Антония. А вот, обратите внимание, цыгане.
«Цыганами» он назвал действительно необычную компанию. К подъезду подкатила самая обычная телега, на которой сидела самая странная компания, которую мне когда-либо приходилось видеть. Тут были и паны и паненки, человек девять, одетые пестро и бедно. И сидели они на телеге густо, как цыгане. И полог был натянут на четырех палках, как у цыган. Недоставало только собаки, которая бежала бы под телегой. Это был захудалый род Грыцкевичевых, кочевавший с одного бала на другой и так, главным образом, кормившийся. Они были дальними родственниками Яновских. И это были потомки «багряного властелина»! Боже, за что караешь!!!
Потом приехала какая-то пожилая дама в очень богатом старинном бархатном платье, уже довольно поношенном, в сопровождении худого, как бич, молодого человека с явно холуйским лицом. Бич нежно прижимал ее локоток.
Дама надушилась такими дрянными духами, что Берман начал чихать, как только она вошла в зал. А мне показалось, что вместе с нею кто-то внес в помещение большой мешок с удодами и оставил его здесь на радость окружающим. Разговаривала дама с самым настоящим французским прононсом, который, как известно, сохранился на земле только в двух местах: в салонах Парижа и в застенке Кобыляны под Оршей.
И другие гости тоже были прелюбопытные. Измятые или слишком гладкие лица, жадные глаза, глаза измученные, глаза умоляющие, с «безуминкой». У одного франта глаза были огромные и выпученные, как у саламандры подземных озер. Я смотрел на церемонию знакомства из-за двери (некоторые из этих близких соседей никогда не виделись и, наверное, не увидятся впредь – старый дворец, может, впервые за последние восемнадцать лет видел такой наплыв гостей). Звуки плохо долетали до меня, потому что в зале уже дудел оркестр из восьми заслуженных инвалидов Полтавской битвы. Я видел замасленные лица, которые галантно улыбались, видел губы, что тянулись к руке хозяйки. Когда они наклонялись, свет падал сверху, и носы казались удивительно длинными, а рты – провалившимися. Они беззвучно расшаркивались, склонялись, бесшумно говорили, потом улыбались и отплывали в сторону, а на их место плыли новые. Это было как в страшном сне.
Они оскаливались, будто выходцы из могил, целовали руку (мне казалось, что они сосут из нее кровь) и беззвучно плыли дальше. А она, такая чистая в своем белом открытом платье, лишь краснела изредка спиной, если какой-нибудь новоявленный донжуан в плотно облегающих панталонах припадал к ее руке слишком пылко. Эти поцелуи, казалось мне, пачкали ее руку чем-то липким и нечистым.
И только теперь я понял, какая она, собственно говоря, одинокая не только в своем доме, но и среди этой шатии.
«Что мне это напоминает? – подумал я. – Ага, пушкинская Татьяна среди чудищ в шалаше. Обложили, бедную, как лань во время охоты».
Здесь почти не было чистых взглядов, но зато какие были фамилии! Казалось, что я сижу в архиве и читаю старинные акты какого-нибудь Пинского копного суда.
– Пан Сава Матфеевич Стаховский с сыновьями, – оповещал лакей.
– Пани Агата Юрьевна Фалендыш-Хобалева с мужем и другом дома.
– Пан Якуб Барбарэ-Гарабурда.
– Пан Мацей Мустафович Асанович.
– Пани Ганна Аурамович-Басяцкая с дочерью.
А Берман стоял за моей спиной и отпускал замечания.
Он впервые за эти дни понравился мне, столько злости было в его высказываниях, такими пылающими глазами встречал он каждого нового гостя и особенно молодых.
Но вот в глазах его промелькнуло нечто столь непонятное, что я невольно глянул в ту сторону, и… глаза мои полезли на лоб: такое странное зрелище я увидел. В зал по ступеням скатывался человек, именно скатывался, иначе это назвать было нельзя. Человек был около сажени ростом, приблизительно как я, но в его одежду вместилось бы три Андрея Белорецких. Огромный живот, ноги в бедрах – словно окорока, невероятно широкая грудь, ладони будто ушаты. Немного случалось мне видеть таких исполинов. Но самое удивительное было не это. На человеке была одежда, которую теперь можно увидеть лишь в музее: красные сапоги на высоких каблуках с подковками (такие назывались у наших предков кабтями), облегающие штаны из каразеи, тонкого сукна. Жупан из вишневого с золотом сукна на груди и животе готов был лопнуть. Поверх его этот исполин натянул чугу, древнюю белорусскую одежду. Чуга висела свободно, красивыми складками, вся переливалась зелеными, золотыми и черными узорами и была подпоясана почти под мышками радужной турецкой шалью.
И над всем этим сидела удивительно маленькая для такой туши голова с такими надутыми щеками, словно человек вот-вот прыснет от смеху. Длинные серые волосы делали голову правильно круглой, маленькие серые глазки смеялись, темные – в них меньше было седины – усы свешивались на грудь. Внешний вид у человека был самый мирный, и только на левой руке висел карбач[26]26
Карбач – короткая толстая плеть (бел.).
[Закрыть] – короткая витая плеть с серебряной проволокой на конце. Словом, собачник, провинциальный медведь, весельчак и пьяница – это сразу было видно.
Еще у двери он захохотал таким густым и веселым басом, что я тоже невольно улыбнулся. Он шел, и люди расступались перед ним, отвечая ему улыбками, какие только могли появиться на этих кислых лицах, лицах людей касты, которая вырождается. Его, видимо, любили.
«Наконец-то хоть один представитель старого доброго века, подумал я. – Не выродок, не сумасшедший, который может пойти и на героизм, и на преступление. Добрый, простой великан. И как он сочно, красиво говорит по-белорусски!»
Не удивляйтесь последней мысли. Хотя среди мелкой шляхты тогда разговаривали по-белорусски, шляхта того слоя, к которому, видимо, принадлежал этот пан, языка не знала: среди гостей не больше десятка разговаривали на языке Марцинкевича и Каратынского, остальные на варварской смеси польского, русского и белорусского.
А этот разговаривал, как какая-нибудь деревенская сватья. Меткие словечки, шутки, поговорки так и сыпались с его языка, пока он шел от двери до верхнего зала. Признаюсь, с первого взгляда он подкупил меня этим. Он был такой колоритный, что я не сразу заметил его спутника, хотя тот тоже был достоин внимания. Представьте себе молодого человека, высокого, очень хорошо сложенного, одетого по последней моде, что редкость в этой глуши. Он был бы красив, если б не чрезмерная бледность, впалость щек и если б не выражение какого-то необъяснимого озлобления на плотно сжатых губах. Наибольшего внимания на этом желчном, красивом лице заслуживали огромные черные глаза с водянистым блеском, но они были такие безжизненные, что становилось не по себе. Наверное, именно такие были у Лазаря, когда он воскрес.
Между тем исполин поравнялся с лакеем, подслеповатым и глухим, и неожиданно дернул его за плечо.
Тот дремал на ногах, но тут мгновенно подобрался и, разглядев гостей, заулыбался во весь рот и гаркнул:
– Достопочтенный пан-отец Грынь Дубатовк! Пан Алесь Ворона!
– Вечер добрый, панове, – зарокотал Дубатовк. – Что это вы скучные, как мыши под шапкою? Ничего, мы сей миг вас развеселим. Видишь, Ворона, какие паненки! Поторопился я, брат, родиться. У-ух, пригожулечки-красулечки!
Он прошел сквозь толпу (Ворона остановился возле какой-то барышни) и приблизился к Надежде Яновской. Глаза его сузились и заискрились смехом.
– День-вечер добрый, донечка! – И звучно чмокнул ее в лоб, словно выстрелил. Потом отступил. – А какая же ты у меня стала стройная, изящная, красивая! Лежать всей Беларуси у твоих ножек. И пускай на мне на том свете Люцифер смолу возит, если я, старый греховодник, через месяц не буду пить на твоей свадьбе горелку из твоей туфельки. Только что-то глазки грустные. Ничего, сейчас развеселю.
И он с обворожительной медвежьей грацией крутнулся на каблуках.
– Антон, душа темная! Грышка, Пятрусь! Холера вас там прихватила, что ли?
Появились Антон, Грышка и Пятрусь, сгибаясь под тяжестью каких-то огромных свертков.
– Ну, губошлепы-растрепы, кладите все к ногам хозяйки. Разворачивай! Э-э, пачкун, у тебя что, руки из… спины растут? Держи, донька…
Перед Яновской лежал на полу огромный пушистый ковер.
– Держи, доня. Дедовский еще, но совсем не пользованный. Положишь в спальне. У тебя там дует, а ноги у всех Яновских были слабые. Напрасно ты все же, Надзейка, ко мне не переехала два года назад. Умолял ведь – не согласилась. Ну, хорошо, теперь поздно уже, взрослая стала. И мне легче будет, ну его к дьяволу, это опекунство.
– Простите, дядюшка, – тихо сказала Яновская, тронутая вниманием опекуна. – Вы знаете, я хотела быть, где отец…
– Ну-ну-ну, – смущенно сказал Дубатовк. – Оставь. Я и сам к тебе почти не ездил, знал, что будешь волноваться. Друзья мы были с Романом. Ничего, донька, мы, конечно, люди земные, страдаем обжорством, пьянством, однако Бог должен разбираться в душах. И если он разбирается, то Роман, хотя и обходил чаще церковь, а не корчму, давно уже на небе ангелов слушает да глядит в глаза своей бедняге-жене, а моей двоюродной сестре. Бог – он тоже не дурак. Главное – совесть, а дырка во рту, куда чарка просится, последнее дело. И глядят они с неба на тебя, и не жалеет мать, что ценою смерти своей дала тебе жизнь: вон какой ты королевной стала. Скоро и замуж, из рук опекуна на ласковые да сильные руки мужа. Думаешь?
– Прежде не думала, теперь не знаю, – вдруг сказала Яновская.
– Ну-ну, – посерьезнел Дубатовк. – Но… чтоб человек хороший. Не торопись. А теперь держи еще. Вот тут наш старый наряд, настоящий, не какая-нибудь подделка. Потом пойдешь, переоденешься перед танцами. Нечего эту современную мишуру носить.
– Он вряд ли подойдет, только вид испортит, – льстиво подъехала какая-то мелкая шляхтянка.
– А ты молчи, дорогая. Я знаю, что делаю, – буркнул Дубатовк. – Ну, Надзейка, и, наконец, последнее. Долго я думал, дарить ли это, но пользоваться чужим не привык. Это твое. Среди твоих портретов нету одного. Не должен ряд предков прерываться. Ты сама это знаешь, потому что ты древнейшего во всей губернии рода.
На полу, освобожденный от легкой белой ткани, стоял очень старый портрет необычной, видимо, итальянской работы, какой почти не найдешь в белорусской иконографии начала XVII столетия. Не было плоской стены за спиной, не висел на ней герб. Было окно, открытое на вечерние болота, был мрачный день над ними, и был мужчина, сидящий спиной ко всему этому. Неопределенный серо-голубой свет лился на его худощавое лицо, на крепко сплетенные пальцы рук, на черную с золотом одежду.
Лицо этого мужчины было живее, чем у живого, и такое удивительное, жесткое и мрачное, что можно было испугаться. Тени легли в глазницах, и казалось, что даже жилка дрожала на веках. И в нем было родовое сходство с лицом хозяйки, но все то, что было в Яновской приятно и мило, здесь было отвратительным до ужаса. Вероломство, ум, болезненная сумасшедшинка читались в этом спесивом лице, властность до закостенелости, нетерпимость до фанатизма, жестокость до садизма. Я отступил в сторону – большие, до дна читающие в твоей душе глаза повернулись и снова смотрели мне в лицо.
Кто– то вздохнул.
– Роман Старый, – приглушенно сказал Дубатовк, но я сам уже понял, кто это такой, настолько правильно представил его по словам легенды. Я догадался, что это виновник родового проклятия еще и потому, что лицо хозяйки побледнело и она едва заметно покачнулась.
Неизвестно, чем окончилась бы эта немая сцена, но тут кто-то молча и непочтительно толкнул меня в грудь. Я отступил невольно. Это Ворона пробирался сквозь толпу и, стремясь подойти к Яновской, оттолкнул меня. Он спокойно шел дальше, не извинившись, даже не обернувшись в мою сторону, словно на моем месте стоял неживой предмет.
Я происходил из обычных интеллигентов, которые выслуживали из поколения в поколение личное шляхетство, были учеными, инженерами – плебеями с точки зрения этого спесивого шляхтича, предок которого был доезжачим у богатого магната-убийцы. Мне часто приходилось защищать свое достоинство перед такими, и теперь вся моя «плебейская» гордость встала на дыбы.
– Пан, – громко сказал я, – вы считаете, что это достойно настоящего дворянина – толкнуть человека и не извиниться?
Он обернулся.
– Вы это мне?
– Вам, – спокойно ответил я. – Настоящий шляхтич – это джентльмен.
Он подошел ко мне и начал с любопытством рассматривать.
– Гм, – сказал он. – Кто это будет учить шляхтича правилам хорошего тона?
– Не знаю, – также спокойно и язвительно отозвался я. – Во всяком случае, не вы. Необразованный ксендз не должен учить других латыни – ничего хорошего из этого не получится.
Через его плечо я видел лицо Надежды Яновской и с радостью заметил, что наш спор отвлек ее внимание от портрета. Кровь снова прилила к ее лицу, а в глазах промелькнуло что-то похожее на тревогу и ужас.
– Выбирайте выражения, – процедил Ворона.
– Почему? И, главное, с кем? Воспитанный человек знает, что в компании вежливых нужно быть вежливым, а в компании грубиянов – высшая вежливость – платить той же монетой.
Видимо, Ворона не привык получать отпор. Я знавал таких заносчивых индюков. Он удивился, но потом бросил взгляд на хозяйку, снова повернулся ко мне, и в глазах его плеснулась мутная ярость.
– А вы знаете, с кем разговариваете?
– С кем? С Паном Богом?
Я увидел, как рядом с хозяйкой появилось заинтересованное лицо Дубатовка. Ворона начинал закипать.
– Вы разговариваете со мной, с человеком, который привык драть за уши разных парвеню.
– А вам не приходит в голову, что некоторые парвеню сами способны надрать вам уши? И не подходите, иначе предупреждаю вас, ни один шляхтич не получит такого оскорбления действием, как вы от меня.
– Хамская драка на кулаках! – взорвался он.
– Что поделаешь? – холодно заметил я. – Мне случалось встречать дворян, на которых ничто другое не действует. Они не были хамами, их предки были заслуженными псарями, доезжачими, альфонсами у вдовых магнаток.
Я перехватил его руку и держал, как клещами.
– Ну…
– Ах ты! – процедил он.
– Панове, панове, успокойтесь! – с невыразимой тревогой воскликнула Яновская. – Пан Белорецкий, не надо, не надо! Пан Ворона, стыдитесь!
Лицо ее было умоляющим.
Видимо, и Дубатовк понял, что время вмешаться. Он подошел, встал между нами и положил на плечо Вороны тяжелую руку. Лицо его налилось кровью.
– Щенок! – крикнул он. – И это белорус, это житель яновской округи, это шляхтич?! Так оскорбить гостя! Позор моим сединам. Ты что, не видишь, кого задираешь? Это тебе не наши шуты с куриными душонками, это не цыпленок, это – мужчина. И он тебе быстро оборвет усы. Вы дворянин, сударь?
– Дворянин.
– Ну, вот видишь, пан – шляхтич. Если тебе нужно будет с ним побеседовать – вы найдете общий язык. Это шляхтич, и добрый шляхтич, хоть бы и предкам в друзья – не ровня современным соплякам. Проси прощения у хозяйки. Слышишь?
Ворону словно подменили. Он пробормотал какие-то слова и отошел с Дубатовком в сторону. Я остался с Яновской.
– Боже мой, пан Андрей, я так испугалась за вас. Не стоит вам, такому хорошему человеку, связываться с ним.
Я поднял глаза. Дубатовк стоял в стороне и с любопытством переводил взгляд с меня на панну Яновскую.
– Панна Надежда, – с неожиданной для самого себя теплотой сказал я, – я очень вам благодарен, вы добрый и искренний человек, и ваше беспокойство обо мне, вашу приязнь я запомню надолго. Что поделаешь, моя гордость – единственное, что есть у меня, я никому не даю наступить себе на ногу.
– Вот видите, – она опустила глаза. – Вы совсем не такой, как они. Многие из этих родовитых людей поступились бы. Видимо, настоящий шляхтич здесь – вы, а они только притворяются… Но запомните, я очень боюсь за вас. Это опасный человек, человек с ужасной репутацией.
– Знаю, – шутливо ответил я. – Это местный «зубр», помесь Ноздрева…
– Не шутите. Это известный у нас скандалист и бретер. На его совести семь убитых на дуэли… И, возможно, это хуже для вас, что я стою рядом с вами. Понимаете?
Мне совсем не нравился этот маленький гномик женского пола с большими грустными глазами, меня не интересовало, какие отношения существовали между ней и Вороной, был Ворона воздыхателем или отвергнутым поклонником, однако за добро платят добром. Она была такая милая в своей заботе обо мне, что я взял ее ручку и поднес к губам.
– Благодарю, пани.
Она не отняла руки, и ее прозрачные неживые пальчики чуть вздрогнули под моими губами. Словом, все это слишком смахивало на сентиментальный и немножко бульварный роман из жизни большого света.
Оркестр инвалидов заиграл вальс «Миньон», и сразу иллюзия «большого света» исчезла. Сообразно оркестру были уборы, сообразно уборам были танцы. Цимбалы, дуда, нечто подобное на тамбурин, старый гудок и четыре скрипки. Среди скрипачей был цыган и один еврей, скрипка которого все время старалась вместо известных мелодий играть что-то очень грустное, а когда сбивалась на веселый лад, то наигрывала нечто похожее на «Семеро на скрипке». И танцы, которые давно вышли повсюду из моды: «Шаконь», «Па-де-де», даже «Лебедик» – эта манерная белорусская пародия на «Менуэт». Хорошо еще, что я все это умел танцевать, потому что любил народные и старинные танцы.
– Позвольте пригласить вас, панна Надежда, на вальс.
Она немного поколебалась, робко подняла на меня пушистые ресницы.
– Когда-то меня учили. Наверное, я забыла… Но…
И она положила руку, положила как-то неуверенно, неловко, ниже моего плеча. Я поначалу думал, что мы будем посмешищем для всего зала, но скоро успокоился. Я никогда не встречал такой легкости в танце, как у этой девушки. Она не танцевала, она летала в воздухе, и я почти нес ее над полом. И было легко, потому что в ней, как мне казалось, было не больше 125 фунтов. Приблизительно на середине танца я заметил, что лицо ее, до этого сосредоточенное и неуверенное, стало вдруг простым и очень милым. Глаза заискрились, нижняя губка немножко выдалась вперед.
Потом танцевали еще. Она удивительно оживилась, порозовела, и такое сверкание молодости, опьянения, радости появилось на ее лице, что у меня стало тепло на сердце.
«Вот я, – словно говорила ее душа через глаза, большие, черные и блестящие, – вот она я. Вы думали, что меня нет, а я здесь, а я здесь. Хоть в один этот короткий вечер я показалась вам, и вы удивились. Вы считали меня неживой, бледной, бескровной, как росток георгина в подземелье, но вы вынесли меня на свет, я так вам благодарна, вы такие добрые. Видите, и живая зелень появилась в моем стебле, и вскоре, если будет пригревать солнышко, я покажу всему миру свой чудесный алый цветок. Только не надо, не надо меня уносить снова в погреб».
Необычным было отражение радости и ощущения полноценности в ее глазах. Я тоже увлекся им, и глаза мои, наверное, тоже заблестели. Лишь краем глаза видел я окружающее.
И вдруг белка снова юркнула в дупло, радость исчезла из ее глаз, и прежний ужас поселился за ресницами: Ворона давал указания двум лакеям, которые вешали над камином портрет Романа Старого.
Музыка умолкла. К нам приближался Дубатовк, красный и веселый.
– Надеждочка, красавица ты моя. Позвольте старому хрену лапочку.
Он грузно опустился на колено и, смеясь, поцеловал ее руку.
А минуту спустя говорил совсем иным тоном:
– Правило яновской округи такое, что нужно огласить опекунский отчет сразу, как только опекаемой исполнится восемнадцать лет, минута в минуту.
Он вынул из кармана огромную серебряную, с синей эмалью луковицу часов и, сделавшись официальным и подтянутым, объявил:
– Семь часов. Мы идем оглашать отчет. Пойду я, а за второго опекуна, пана Калацечу-Казловского, который живет в городе и по болезни не смог приехать, пойдут по доверию пан Сава Стаховский и пан Алесь Ворона. Нужен еще кто-нибудь из посторонних. Ну… – глаза его пытливо задержались на мне, – ну, хотя бы вы. Вы еще человек молодой, жить будете долго и сможете потом засвидетельствовать, что все здесь делалось честно, по старым обычаям и человеческой совести. Пани Яновская – с нами.
Наше совещание длилось недолго. Вначале прочитали опись имущества, движимого и недвижимого, которое осталось по завещанию отца. Выяснилось, что это, главным образом, дворец и парк, майорат, из которого ни одна вещь не должна исчезнуть и который должен «в вящей славе поддерживать честь рода».
«Хороша честь, – подумал я. – Честь подохнуть от голода в богатом доме».
Дубатовк доказал, что недвижимое имущество сберегалось нерушимо.
Потом выяснилось, что по субституции старшей и единственной наследницей является пани Надежда Яновская.
Перешли к прибылям. Дубатовк сообщил, что небольшой капитал, помещенный Романом Яновским в две банкирские конторы под восемь процентов без права трогать основной капитал, дает сейчас от ста пятидесяти до ста семидесяти рублей ежемесячно. Эта прибыль даже возросла стараниями опекуна, мало того, получена прибавка к основному капиталу в двести восемьдесят пять рублей, которые, при желании, могут пойти на приданое наследнице.
Все покачали головами. Прибыли были мизерными, особенно если учесть необходимость поддерживать в порядке дом.
– А как платить слугам? – спросил я.
– Им выделена в завещании часть наследства, так как они – неотъемлемая часть майората.
– Я просил бы пана Дубатовка объяснить мне, как обстоят дела с заарендованной землей при имении Болотные Ялины? – спросил Сава Стаховский, маленький худощавый человек с такими острыми коленями, что они, казалось, вот-вот прорежут его светлые панталончики. Он, видимо, всегда немного пикировался с Дубатовком и задал ему теперь какой-то ядовитый вопрос. Однако тот не растерялся. Он вытащил большие серебряные очки, платок, который разостлал на коленях, потом ключ и лишь после этого клочок бумаги. Очки он, однако, не надел и начал читать:
– У прадеда пани Яновской было десять тысяч десятин хорошей пахотной земли, не считая леса. У пани Яновской, как это вам, вероятно, известно, уважаемый пан Стаховский, 50 десятин пахотной земли, значительно истощенной. У нее также имеется парк, который не дает ни гроша, и пуща, являющаяся практически также майоратом, ибо это заповедный лес. Скажем прямо, мы могли б поступиться этим правилом, однако, во-первых, доступ в пущу для лесорубов невозможен из-за окружающей ее трясины. А во-вторых, разумно ли это? У Яновской могут появиться дети. Что им делать на 50 десятинах бедной земли? Тогда род совсем придет в упадок. Конечно, пани теперь взрослая, она сама может…
– Я согласна с вами, дядя, – краснея до слез, сказала Надежда Романовна. – Пускай пуща стоит. Я рада, что до нее можно добраться только тропинками, и то в засуху. Жаль изводить такой лес. Пущи – это божьи сады.
– Так вот, – продолжал опекун, – помимо этого, пани принадлежит почти вся яновская округа, но это трясина, торфяные болота и пустоши, на которых не растет ничего, кроме вереска. На этой земле никто никогда не жил, сколько помнит человеческая память. Значит, возьмем только 50 десятин, которые сдаются в аренду за второй сноп. Земля неудобренная, выращивают на ней только рожь, и она дает тридцать, самое большое сорок пудов с десятины. Стоимость ржи 50 копеек за пуд, значит, десятина дает дохода десять рублей в год и, таким образом, со всей земли 500 рублей в год. Вот и все. Эти деньги не задерживаются, можете меня проверить, пан Стаховский.
Я покачал головой. Хозяйка большого имения получала немногим больше двухсот рублей дохода в месяц. А средний чиновник получал 125 рублей. У Яновской было где жить и что есть, однако это была неприкрытая нужда, нужда без просвета. Я, голяк, ученый и журналист, автор четырех книг, имел рублей четыреста в месяц. И мне не нужно валить все в эту прорву – дворец, делать подарки слугам, содержать в относительном порядке парк. Рядом с нею я был Крез.
Мне стало жаль ее, этого ребенка, на плечи которого лег такой непосильный груз.
– Вы очень небогатый человек, – грустно сказал Дубатовк. – На руках у вас, собственно говоря, после всех необходимых расходов остаются копейки.
И он бросил взгляд в мою сторону, очень выразительный и многозначительный взгляд, но мое лицо, полагаю, не выразило ничего. Да и в самом деле, какое это имело касательство ко мне?
Документы передали новой хозяйке. Дубатовк обещал дать личные указания Берману, затем поцеловал Яновскую в лоб и вышел. Мы все тоже возвратились в зал, где публика успела уже устать от танцев. Дубатовк опять вызвал взрыв веселья.
Я не умел танцевать какой-то местный танец, и потому Яновскую сразу умчал Ворона. Потом она куда-то исчезла. Я наблюдал за танцами, когда вдруг почувствовал чей-то взгляд. Неподалеку от меня стоял худощавый, но, видимо, сильный молодой человек, светловолосый, с очень приятным и открытым лицом, одетый скромно, однако с подчеркнутой аккуратностью.
Я не видел, откуда он появился, но он с первого взгляда понравился мне, понравилась даже мягкая аскетичность красивого большого рта и умных карих глаз. Я улыбнулся ему, и он, словно только этого и ожидал, подошел большими плавными шагами, протянул руку:
– Простите, я без церемоний. Андрей Свецилович. Давно хотел познакомиться с вами. Я студент… бывший студент Киевского университета. Меня исключили за участие в студенческих волнениях.
Я тоже представился. Он улыбнулся широкой белозубой улыбкой, такой ясной и доброй, что лицо сразу стало красивым.
– Я знаю, я читал ваши сборники. Не сочтите за комплимент, я вообще не любитель этого, но вы мне стали после них очень симпатичны. Вы занимаетесь полезным, нужным делом и хорошо понимаете свои задачи. Я сужу по вашим предисловиям.
Мы разговорились и отошли к окну в дальнем углу зала. Я спросил, как он попал в Болотные Ялины. Он засмеялся:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.