Читать книгу "Гавани Луны"
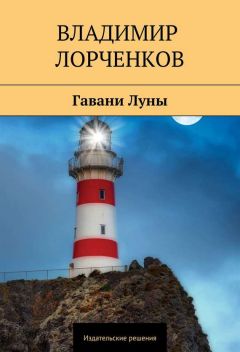
Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Владимир Лорченков
Гавани Луны
– Должно быть, я просто не очень умею с дамами
– Ты с дамами достаточно умеешь. И ты просто дьявольский писатель.
Уж лучше бы я с дамами умел
Ч. Буковски
…между художником и просто опустившимся типом, если разобраться, очень зыбкая грань
Э. Доктороу
… сила его, помимо чисто стилистического блеска, заключается в том, что он, подобно Мейлеру, скользит по опасной грани психологического (и не только) эксгибиоционизма, и вместе с тем у него, как у Фолкнера, есть своя Йокнапатофа
В. Топоров
Только спиртное дает возможность людям дать братский отпор как ангелам, так и бесам
Н. Мейлер
1
Мир это белый лист.
Он заправлен в мою машинку, и время от времени я бросаю взгляд вдаль. Куда-то в сторону дома у реки, которые сейчас так далеко, что мне не видны. Но я не должен думать о них, если я хочу закончить свою историю до конца. Я должен о них говорить. Говорить с бумагой. Так что я говорю с ней и с вами.
Если бы я был Палаником, то рассказал бы вам, как делают бумагу – от того момента, как бросают тряпку в станок до выхода белой щели. Я бы даже в библиотеку не поленился сходить за книгой про то, как делают бумагу. И упомянул бы ее название в предисловии, там, где они все благодарят литературных агентов, любовниц, детей. Ну, они – писатели. Как Паланик, например.
Если бы я был Гюго, то, рассказывая об этом, я бы сделал часовое отступление, которое посвятил рассказу о станках для производства бумаги, начиная с китайского Средневековья.
Если бы я был Барнсом, то обратил ваше внимание на то, к каким забавным и парадоксальным последствиям может привести ваш брак клочок бумаги, оброненный кем-то из супругов по неосторожности.
Более того, я на своем горьком опыте убедился, к каким забавным и парадоксальным последствиям приводит оброненный клочок бумаги.
Будь я Апдайк, я бы сразу начал с адюльтера, а лист бумаги сделал бы частью пейзажа, который не что иное, как мазок великой картины мира, в который мы попадаем на миг – от 70 до 100 лет – только чтобы снять в придорожном мотеле комнату для себя и жены соседа.
Будь я на самом деле Апдайком, я бы непременно добавил что в соседнем мотеле отдыхает моя жена с соседом.
Миллер сделал бы лист ослепительно белым Ничто, от которого началось сотворение мира.
Хеллер рассказал бы с десяток исторических анекдотов, связанных с листом, бумагой, писателями, и что обо всем этом думал Сократ по мнению Платона, если, конечно, верить Аристотелю, пересказавшему Платона, в изложении его – Хеллера – разумеется. И вышло бы это у него – разумеется, – блестяще.
Будь я Сароян, я бы набил себе физиономию за украденный образ. Мужчина в костюме, сидящий на крыше небоскреба, и печатающий что-то на машинке. Время от времени он встает и отдает рвущему рук ветру лист за листом. Листья вспархивают вверх. Несутся к самому небу. Оно здесь совсем рядом, и правда кажется, что рукой потрогать можно. Я знаю.
Ведь я действительно стою сейчас на крыше высотного здания.
Рядом со мной – стол с печатной машинкой на нем. Все, что вы сейчас читаете, я печатаю, и разбрасываю. Совсем как мужчина из истории Сарояна. Разница лишь в том, что я – человек из своей истории. И я не придуманный. И все, что происходит со мной сейчас, не образ. Не фантазия и не иллюзия. Это все реальность. Насколько, конечно, реальность бывает настоящей. А для меня она сейчас не больше, чем белый лист, который медленно – как в фильмах, когда печатную машинку берут крупным планом, – покрывается аккуратными буковками.
Я печатаю, встаю иногда, и бросаю листы бумаги с крыши.
Здесь так высоко, что бумага не падает, а взлетает. Все дело в воздушных течениях, которые состав… Впрочем, так я снова возвращаюсь к Паланику.
Я продолжаю.
Фаулз нырнул бы в лист, чтобы выплыть оттуда другим человеком и с настоящей женщиной под руку. Впрочем, ему бы и бумага не понадобилась, настолько высокого уровня мастерства он достиг.
Впрочем, для того, чтобы выплыть из мутной реки жизни другим человеком и с женщиной в руке, вовсе не обязательно быть Фаулзом.
И я заплатил за эту тайну сполна.
Сарамаго бы отошел от чистого листа к теории двойника, и вернулся нагруженный притчами, словно ветхозаветный верблюд из так любимой им Библии.
Вы наверное, думаете, что я их всех ненавижу? А на самом деле они были членами моей семьи. Куда более реальными, чем мой отец, или, к примеру, вы. Как монах переписчик, закрывшийся в башне из темного дерева, я живу сейчас лишь словами. А кто знает в них толк больше нас, писателей? Почему я говорю о них всех сейчас? Может быть потому, что мое сознание было чересчур… литературным? Как сказал мне один знакомый критик, нужно уметь бросить писать. Ну, я так и сделал когда-то.
А сейчас вот вижу себя таким, каким никогда не собирался увидеть.
Сидящим за столом с печатной машинкой. Антураж, правда, не совсем подходящий. Крыша высотки, сильный ветер. И небо, на расстоянии вытянутой руки, ей Богу. Нет, пальцами вы его не почувствуете. Оно ведь прозрачное. Но я должен отойти от неба и вернуться к бумаге. Она уже заправлена, это, кажется, третий по счету лист.
Итак, писатели.
Если бы я был… черт никак не могу вспомнить никого из русских.
Впрочем, это и не нужно. Я ведь говорю о великих, а великих, словно дровишки, подкидывает на Землю Бог. Бог же покинул не только Африку, – как совершенно верно заметил Брюс Виллис в боевике про Черный континент, который мы с Риной смотрели в гостиной в нашем доме у реки, заперев ветрам двери, – но и Россию.
Возможно, Пелевин провел бы на этом листе связующую их – Африку и Россию– линию, воспользовавшись ассоциативным рядом слова «черный», и оно привело бы его от экватора к залежам нефти, спрятанным под заснеженными сибирскими полями.
Впрочем, я же говорил, что здесь не должно быть русских. Да и французов. Немцев, голландцев, евреев, папуасов, троглодитов, коллекционеров белья, ублюдков, святых, гомосексуалистов, нацистов, католиков, вудуистов, блондинок, детей, ветеранов Крестового похода… Писателей, проституток, полицейских, журналистов, критиков, парикмахеров, людей, животных…
На этой крыше не должно быть никого. Ни единой живой души. Ну, кроме одной, конечно.
И это – я.
2
Есть кое-что легче, чем бросить курить.
Это – пошутить над тем, кто бросает курить постоянно. Кажется, первым это сделал еще Марк Твен. Позже его процитирует на первой странице своей книги про крутых парней, которые не танцуют, Норман Мейлер. Что общего у этих парней, кроме прически одуванчиком? Прически взъерошенного американского еврея – позже такую позаимствуют негры, и среди них самый знаменитый это Майкл Джексон, – и которая стала так популярна в благословенной Америке Рейгана? Что общего было у них? По мне так, Мейлер и писал намного лучше, да и Твен вовсе никаким евреем не был. Классический белый протестант, выпускавший довольно неумные разоблачительные книги про Библию, и отметившийся в мировой литературе лишь книжкой про пацанов-озорников, которой сам никакого значения не придавал. Так, безделушка, думал он. Ерунда, говорил он о труде всей своей жизни. А это был ее смысл. Он так врезался в литературу. Можно сказать, полоснул бритвой. Оставил шрам. Ну, а еще оставил после себя добрую сотню шуток и афоризмов, которыми тогда так увлекались интеллигентные круги нового государства, США. Когда оно станет старым, и Норман Мейлер засядет за свою книгу про крутых парней, чтобы расплатиться с долгами – а их, по свидетельству Буковски, которому об этом сам Норман сказал, было с миллион, и это по ценам 70—хх! – избитая шутка Марка Твена про курево войдет в притчи во языцы. Как она точно звучит?
Нет ничего легче, чем бросить курить.
И вторая часть: я знаю, о чем говорю, потому что сам бросал сто раз.
Ну или двести. Или триста. Или пятьсот. Или десять тысяч. Цифры разнятся в зависимости от настроения шутника, его социального статуса, семейного положения. Последнее для меня никогда не представляло загадки. Как правило, они женаты. Человек, который бросал курить минимум сто раз, курит минимум десять лет. Это средний возраст, около тридцати-сорока лет, а мужчины в этом возрасте склонны уступать давлению женщин, и регистрируют отношения. Ну, или начинают жить с женщиной под одной крышей. Что, кстати, гораздо опаснее, чем даже начать курить. Я знаю, о чем говорю.
Я ведь сам когда-то курил, но потом бросил.
И делал это – отдаю должное даже не остроумию, а наблюдательности Твена, – около ста пятидесяти раз. Да-да. Я курил около пятнадцати лет. И, как вы уже понимаете, я женат.
Вернее, был женат.
В конце концов, человек, избавившийся от такой привычки, как сигареты, в состоянии отказаться от любой другой вредной привычки. От брака, например. Или от выпивки. Неважно. Важно лишь, какой способ избавления вы предпочтете. Некоторые выбирают шоковую терапию. Ну, например, съесть пачку сигарет, сидя на унитазе. Такой способ применяют особо строгие отцы в отношении сыновей-переростков. Или иглоукалывание. Холодные ванные. Прогулки в садах Гемисаретских. Я знаю, конечно, что они называются как-то по-другому, но мне, честно говоря, лень перепроверять их название. А поскольку поминаю я их всуе всякий раз, когда упоминаю сады, то привык. И сады стали для меня Гемисаретскими.
Да, человек, не лишенный склонности к анализу, уже давно бы меня раскусил.
Попробуйте-ка и вы. Постоянное упоминание сигарет, брака, и полемика с писателями, а также недурное знание обстоятельств их жизни. Нет, что вы. Литературные критики понятия не имеют, сколько должен был Мейлер к тому времени, как ему заказали третий сценарий, и в каком месте «Голливуда» Буковски об этом упомянуто. Это никому, кроме нас не интересно. Ну-ка, ну-ка… Да!
Итак, я курил, я был женат, и я писатель.
Впрочем, не это все делает меня похожим на коктейль Молотова, принесенный к вашему столу в ведерке со льдом, между двумя бутылками шампанского. Кстати, я предпочитаю брют. Опасным меня сделала другая привычка, от которой я также решил отказаться этим летом. После чего оно стало самым удивительным – и насыщенным невероятными и разнообразными событиями в моей скромной, в общем-то, жизни, – временем. Чего уж.
Это лето стало самым горячим в моей жизни.
Настолько, что сожгло меня дотла.
3
В моих словах о том, что я не представляю никакого интереса, нет кокетства.
Во мне нет ничего удивительного. Я серость. Если бы не события моей жизни, во время которых меня всего лишь использовали другие люди, я бы этой серостью и оставался.
И неординарной личностью стал лишь благодаря стечению обстоятельств.
Я занимал место репортером криминальной хроники в довольно известной в Молдавии газете, и сотрудничал с местными театрами. Писал пустые, никчемные пьески про отношения полов. Потом обратил, наконец, внимание на то, что происходило с этими самыми отношениями в реальности. Так я развелся с женой. В знак окончательного разрыва я также бросил писать пьесы для местных театров.
Еще я бросил работу, чтобы жить с девушкой, с которой познакомился к тому времени. Ее звали Анна-Мария. Она бросила меня спустя несколько лет, и, чтобы излечиться, мне пришлось перевести нашу историю из разряда настоящих в полки моих фантазий. Кое-что приукрасив, кое-что скрыв.
Книга о нас получилась порнографичной.
Действительно, я оказался заложником операции полиции, которая вышла на поставщиков героина, а Анна-Мария служила в этой самой полиции. Я был вынужден дать показания против своего приятеля из комиссариата полиции, приятеля, связанного с поставщиками наркотиков, – поэтому легавые и обратили на меня внимание, а не в силу каких-то моих особенных качеств – и после его самоубийства покинул страну. В романе же я описал события совсем иначе. В книге почти не было и слова правды. Анна-Мария свела меня с ума тем, что просто Была, и когда я надоел ей, покинула меня, оставив с разбитым сердцем и маленькими неприятностями с полицией, которые были вовсе не так велики, как я описывал. Тем не менее, эта история – в книжном моем изложении – в Молдавии имела довольно большой резонанс. И если меня не посадили, то лишь из какого-то суеверного почтения, которое туземцы испытывают к печатному слову. Человеку, который считается писателем, в странах третьего мира позволено все.
Проблема лишь в том, что никаким писателем я не был.
А кем же я был? Неудачником с разбитым сердцем, которого использовали, чтобы разоблачить и посадить нечистого на руку полицейского. С таким же успехом они могли бросить ему под ноги палку, чтобы он не успел сбежать. Палкой я и был. Предметом. И больше ничем.
Мне пришлось покинуть страну. Сейчас я честно признаю, что бежал не от полиции, а от самого себя и улиц города, которые пахли волосами этой женщины, и если я, задумавшись, натыкался на столб и хватался на него, то чувствовал тепло ее талии. Каштаны в Кишиневе пахли пиздой Анны-Марии, вырезка на рынке была такой же мясистой и розовой, как ее срамные губы, дома Кишинева были не просто домами, а домами, мимо которых проходила Анна-Мария. Я не мог этого вынести и уехал.
Я обосновался в Стамбуле. Спустя несколько лет я, в попытках излечить свое уязвленное самолюбие, написал о своей истории ту самую книгу. Я изобразил пуританку Анну-Марию настоящей нимфоманкой, и даже издал эту книгу. Получил за нее литературную премию, несколько уничижительных отзывов, парочку восторженных, и возможность вернуться в Кишинев с видом триумфатора. Как будто вся эта история меня нисколько меня не задела. Уничижительные отзывы касались, в основном, фактологической содержащей моей книги. Ту самую, которую я попросту списал из газет, публиковавших отчеты по моему делу. Восторженные же касались описания моих любовных отношений с Анной-Марией, и я питал кое-какие иллюзии, возвращаясь в Кишинев.
Конечно, зря.
Анны-Марии здесь уже давно не было, да и звали ее не Анна-Мария, так что никакого значения для нее эта моя язвительная книга не имела.
Она просто забыла меня, и все.
Это поставило меня в довольно глупое положение. Представьте себе воинство, ворвавшееся в Иерусалим в поисках гроба Господня, и не обнаружившее там ничего, кроме блошиного рынка. Мне некому было мстить. Так я оказался в Кишиневе, будучи автором одной толковой книги, десятка глупых никчемных пьес, и полной неопределенностью относительно того, что мне предстоит делать дальше. И, как и все, кому нечем занять себя и в ком столкновение с реальностью будит болезненные похмельные ощущения в висках, я не только стал писать вторую книгу, но и начал пить.
Это потребовало от меня некоторых усилий.
Я купил дом в курортном поселке Вадул-луй-Воды, в пятидесяти километрах от Кишинева, и начал устраивать вечеринки. Они пользовались спросом. Я смеялся над событиями своей жизни, и обещал судьбе никогда больше не потерпеть крах. Любое поражение я грозился – и осуществлял это свое намерение – обернуть в печатные листы. Проигрыш означал для меня торжество победителя. Любую трагедию я превращал в историю. Свое прошлое я растворил в спиртном, после чего выпарил жидкость, а порошок растолок, и стал окунать в него кисть, чтобы рисовать картины. Я сделал себя прибыльным предприятием.
Любое падение я оборачивал цирковым кувырком.
Все это привело к тому, что за десять с небольшим лет я написал больше пятнадцати книг.
Большинство из них прошли незамеченными, хоть их издали. Две уже считаются вехами в литературе. Не заметили, конечно, лучшие. Признали самые глупые. Все мои попытки понять, как и почему происходит признание книги, – или ее провал, – оказались тщетны.
Это напомнило мне мою позапрошлую жизнь газетчика. Никто никогда не знал, почему разойдется тот или иной номер. Любые предположения оказывались ложными. Вы могли поставить на первую полосу фото растерзанной зверями поп-звезды, и тиражи пылились в киосках. А в иной безводный день вы, – с отчаяния, – ставили на первую полосу заметку об открытии филиала библиотеки в пригороде, и газету сметали.
Вы не понимали причин своих побед, и вы не понимали причин своих поражений.
Это учило смирению. Вы постепенно переставали понимать разницу между успехом и провалом. Со временем вы учились жить с этим, и лишь пожимали плечами невероятным прорывам или оглушительным провалам. Постепенно вам становилось все равно.
Я распространил этот принцип и на свои книги.
После этого я перестал писать.
Как раз к этому времени – как им и положено – критики спохватились, наконец, и назвали меня хорошим прозаиком и Кишиневским Соловьем. Я давал интервью, в которых называл себя лучшим русским писателем в мире и многих это раздражало. Я недоумевал. Скажи мне кто-то, что он – величайший писатель мира, – я бы лишь рассмеялся, и забыл об этом. Анна-Мария уничтожила меня, но Анна-Мария научила меня многому. Самое главное из этого – нет ничего важнее жизни, которую ты сейчас проживаешь. Встал в строй, беги вперед, и руби. Смотришь в мохнатку – смотри в нее. Мир это непрерывный трах и роды, а если так, то мир это женщина. Думай о женщине. Пизда. Вот что манило и влекло меня сильно и неотвратимо. Я был словно Одиссей, давший себе волю и вынувший воск из ушей гребцов. Они несли меня навстречу водовороту пизды дружно, словно команда гребцов какого-нибудь Оксфорда на этой их традиционной гонке. Мое честолюбие, мои разбитые надежды, моя жажда одиночества при наличии рядом живого тела. Вот кто, – дружно и в ритм, – нес меня к Сциллам и Харбидам женских грудей, в глубины их мясистых пропастей. Я хотел Быть и все тут. Но меня о чем-то спрашивали, и неловко ничего не говорить в ответ, так ведь? И в интервью я туманно намекал на то, что пишу очередную книгу. При этом, конечно, я ничего не писал, и не минуты не сомневался в том, что не напишу больше ни слова.
Я кончился и выгорел, понимал я.
Но при этом с удовольствием участвовал в книжных выставках и фотографировался на пресс-конференциях.
Так я и стал настоящим писателем.
4
Со временем в доме появилась Рина.
Я не увидел в этом ничего удивительного. Само собой, если вы устраиваете вечеринки каждую неделю, рано или поздно в вашем доме заведется женщина. Мы заключили торжественный союз, власть насытившись трахом на громадной кровати, которую я заказал в лучшем мебельном магазине города, и для которой выпиливали проем в стене. На установку кровати сбежался весь городок. Я бы не сказал даже, что это был средний класс. Скорее, низшие слои высшего класса. Адвокаты с международной практикой, бизнесмены, чиновники, погрязшие в коррупции. Купить домик в нашем поселке считалось в Кишиневе хорошим тоном. При этом здесь никто не живет по будням. К городу, до которого езды всего два часа, отсюда ведет прямая дорога, и ее – в отличие от всех дорог Молдавии – регулярно ремонтируют, да и построили на славу. В городке чисто и ухоженно, рядом течет река, и по ее берегам растут тополя, недоуменно выстроившиеся здесь, словно на парад. Вид на это открывается прямо из моей спальни, потому то я и решил оставить проем, выпиленный для кровати. Мы просто застеклили его, и трахались ожесточенно, как враги, на виду у реки, тополей, и нашего городка.
Нашего дьявольского городка, – сказала Рина задумчиво.
После чего, оставив на простыне огромное пятно – меня дико возбуждала чрезмерная избыточность ее смазки, – перевернулась и прикусила мне грудь. Я взвыл.
Полегче, детка, – сказал я тоном порноактера.
Она усмехнулась и склонила ко мне голову. В ее лице я увидел что-то грубое, – словно на несколько секунд она напялила на себя маску, резную обрядовую маску, которыми в молдавских деревнях пугают друг друга на Рождество – после чего стала прежней Риной. Красивой девушкой с длинными волосами, небольшой крепкой грудью, и гладкой кожей, которая покрывалась пупырышками – словно вода рябью, – когда я сжимал ее между ног, и вел в спальню. Она это обожала. Любила твердую мужскую руку. А я любил ее и, как мне показалось, постепенно излечивал себя, возвращая веру в то, что женщина это не всегда мина, касаясь которой, можно ожидать горячего дрожания воздуха и последующего великого безмолвия смерти. Женщина не всегда обман, убеждался я.
Веру в это возвращала мне моя любимая жена Рина.
Которая, в конце концов, выжала меня без остатка.
Чего, в принципе, и следовало ожидать. В конце концов, не это ли имел в виду Маркс – как всякий восточноевропейский интеллектуал, я приобрел привычку цитировать его в приложении к делам интимным и бытовым – когда утверждал, что материальное имеет приоритет? Если ты связываешься с женщиной, которая способна довести тебя до оргазма не двигаясь, – одними лишь сокращениями своих глубин, – то ты не должен удивляться тому, что она выжмет не только твой член.
Влагалищные мышцы Рины повлияли на ее дух и закалили характер.
Господь сотворил Рину и ее манду, а манда сотворила Рину.
Вместе они и свели меня с ума.









































