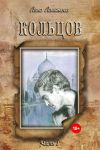Читать книгу "Временное правительство. Большевистский переворот"

Автор книги: Владимир Набоков
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Владимир Набоков
Временное правительство и большевистский переворот
Временное правительство
I
Ровно год тому назад,[1]1
Писано 21 апреля 1918 г.
[Закрыть] в эти самые дни, 20–22 апреля, произошли в Петербурге события, все значение которых для судьбы войны и судеб нашей Родины тогда еще не могло быть в достаточной степени понято и оценено. Теперь уже ясно видно, что именно в эти бурные дни, когда впервые после торжества революции открылось на мгновение уродливо-свирепое лицо анархии, когда вновь, во имя партийной интриги и демагогических вожделений, поднят был Ахеронт, и преступное легкомыслие, бессознательно подавая руку предательскому политическому расчету, поставило Временному Правительству ультиматум и добилось от него роковых уступок и отступлений в двух основных вопросах – внешней политики и организации власти, – в эти дни закончился первый, блестящий и победный, фазис революции и определился – пока еще неясно – путь, поведший Россию к падению и позору.
Это не значит, конечно, что в течение двух первых месяцев, когда на развалинах самодержавия – формально отжившего еще 17 октября 1905 года, но фактически еще целых 11 лет пытавшегося сохранить свое значение, – организовывалась новая, свободная Россия, – что в этот короткий период все обстояло благополучно. Напротив того: внимательный и объективный взгляд мог бы в первые же дни «бескровной революции» найти симптомы грядущего разложения. Теперь, post factum, когда просматриваешь газеты того времени, эти симптомы кажутся такими несомненными, такими очевидными! А тогда те люди, которые взвалили на свои плечи неслыханно тяжелую задачу управления Россией, – в особенности на первых порах – как будто предавались иллюзиям. Они хотели верить в конечный успех; без этой веры откуда бы могли они почерпнуть нравственные силы? И впервые должна была пошатнуться их вера именно в эти роковые апрельские дни, когда «революционный Петроград» вынес на площадь жизненный для России вопрос о задачах ее внешней политики и на красных знаменах впервые появились надписи, призывавшие к свержению Временного Правительства или отдельных его членов.
С этого момента начался мартиролог Временного Правительства. Можно констатировать, что уход Гучкова и принесение Милюкова в жертву требованиям Исполнительного Комитета Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов были для Врем. Правительства первым ударом, от которого оно уже более не оправилось. И, в сущности говоря, последующие шесть месяцев, с их периодическими потрясениями и кризисами, с тщетными попытками создать сильную коалиционную власть, с фантастическими совещаниями в Малахитовом Зале и в Московском Большом Театре, – эти шесть месяцев были одним сплошным умиранием. Правда, в начале июля был один короткий момент, когда словно поднялся опять авторитет власти: это было после подавления первого большевистского выступления. Но этим моментом Вр. Правительство не сумело воспользоваться, и тогдашние благоприятные условия были пропущены. Они более не повторились. Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть последнее коалиционное правительство Керенского, обнаружила его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо осведомленных людей…
С первых дней переворота я стоял довольно близко к Временному Правительству; в течение первых двух месяцев (до первого кризиса) занимал должность управляющего делами Временного Правительства, а впоследствии находился с ним – по разным поводам и при разных обстоятельствах – в довольно тесном контакте. К сожалению, я не вел тогда ни дневника, ни каких-либо систематических записей. Занятый с утра и до поздней ночи, я еле находил время для того, чтобы выполнять всю выпавшую на мою долю работу. Поэтому у меня не сохранилось почти никаких документальных данных, относящихся к тому времени. Я долго колебался, стоит ли теперь, по прошествии стольких месяцев, приниматься за перо и пытаться записать то, что уцелело в памяти. Трудность этой задачи увеличена теми условиями, в которых я теперь нахожусь, – проживая в «медвежьем углу» Крыма, уже целый месяц совершенно отрезанного от всей остальной России и только что занятого немцами. У меня под рукой нет ничего для облегчения работы памяти, если не считать кипы номеров «Речи», по счастью сохранившихся у И. Петрункевича и им мне предоставленных. Правда, это очень драгоценное пособие, но оно не могло, конечно, отражать хода той внутренней, закулисной политической жизни, которая, как это всегда бывает, направляла и всецело определяла ход жизни внешней. В течение тех двух месяцев, что я находился на посту Управляющего делами Врем. Правительства, я чуть не ежедневно присутствовал при закрытых его заседаниях, где я был единственным лицом, не принадлежавшим официально к составу правительства. Впоследствии я подробнее коснусь вопроса о моем положении и о тех причинах, которые побудили меня мириться в течение моей кратковременной работы с этим положением только свидетеля, но не участника политического «творчества» Врем. Правительства. Сейчас я хочу только констатировать, что, насколько мне известно, от всех этих совещаний не осталось никакого следа. Записывать прения в самом заседании я не мог, ввиду их строго конфиденциального характера. Это, конечно, вызвало бы протест прежде всего со стороны Керенского, всегда очень подозрительно и ревниво относившегося ко всему, в чем он мог усматривать покушение на «верховные прерогативы» Врем. Правительства. Писать же post factum у меня не было времени. Думаю, что ни один из министров не имел возможности делать какие-либо записи после заседания. Само собой разумеется, что теперь, год спустя, я не имею ни малейшей возможности систематически восстановить то, что происходило на этих совещаниях.
И тем не менее, я все-таки решил приступить к этим запискам. Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными работе Вр. Правительства, поступили бы так же. Будущий историк соберет и оценит все эти свидетельства. Они могут оказаться очень разноценными, но ни одно из них не будет лишенным цены, если пишущий задастся двумя абсолютными требованиями: не допускать никакой сознательной неправды (от ошибок никто не гарантирован) и быть вполне и до конца искренним.
Вступление это мне казалось необходимым, так как оно пояснит самый характер моих воспоминаний и мое собственное отношение к этим запискам. Приступаю к моему повествованию.
II
Как только вспыхнула война, я немедленно – 21 июля 1914 года – получил бумажку, уведомлявшую меня, что я, в качестве офицера ополчения, призываюсь в 318-ую пешую Новгородскую дружину и обязан явиться в место формирования этой дружины, в г. Старую Руссу. Не собираюсь сейчас подробно касаться всего, пережитого мною, сперва в Старой Руссе, потом в Выборге, где дружина находилась до мая 1915 года, затем в местечке Гайнаше, на берегу Рижского залива, на полпути между Перновом и Ригой. Я был сперва дружинным адъютантом, потом в Гайнаше, где из трех дружин был образован полк (под названием 434-го пехотного Тихвинского), полковым адъютантом, и в этот первый год войны был свидетелем работы по подготовлению тыла, протекавшей, вероятно, более или менее одинаково по всей России. Думаю, что мои наблюдения в этой области также не будут лишены некоторого интереса, но покамест откладываю записывание этого материала, а также и всего того, что относится к моей службе в Азиатской части Главного Штаба, куда я был совершенно для себя неожиданно и без всякого своего участия переведен из Гайнаша в сентябре 1915 года и где оставался до самого переворота, заставшего меня временно исполняющим обязанности делопроизводителя этого учреждения. Если я здесь упоминаю о своей военной службе, то только для того, чтобы пояснить, что с июля 1914 года и до марта 1917 года я не принимал никакого участия в политике. Даже вернувшись в Петербург, я не возобновил ни публицистической работы в газете «Речь», ни работы в Центральном Комитете партии народной свободы. Открыто вернуться к той и другой я – в силу своего положения офицера, служащего в Главном Штабе – не мог, сделать же это, так сказать, конспиративно у меня не было никакой охоты, да и не было бы в таком тайном участии большого смысла. Как бы то ни было, мне важно, для пояснения многого дальнейшего, констатировать это обстоятельство. С начала войны и до самой революции я был оторван от политической и – в частности – от партийной жизни и следил за нею только извне, как сторонний наблюдатель. Мне были неизвестны сложные отношения, развившиеся в эти годы внутри Думы и в недрах нашего ЦК. Я совершенно не знал Керенского, – мое знакомство с ним было чисто внешнее, мы кланялись при встрече и обменивались банальными фразами, – о политической его физиономии я мог судить только по его речам в Думе, о которых я никогда не был высокого мнения. Конечно, в силу моей близости к редакции «Речи», личных отношений с Милюковым, Гессеном, Шингаревым, Родичевым и другими, я не мог, да и не хотел, вполне терять связь – вернее, контакт – с партией и политикой; и не потерял ее. Но все же внешняя моя отчужденность была причиной того, что после переворота, на первых порах моей возобновившейся политической деятельности, я не сразу мог разобраться в той сложной сети и личных, и партийных отношений, которая опутала – отчасти сковала – работу Вр. Правительства. Я многого не знал и многого поэтому не понимал. Это отразилось и на собственной моей роли, как будет видно далее.
Перехожу к внешним фактам, в их хронологической последовательности.
23 февраля жена моя должна была вернуться из Раухи, в Финляндии, куда она уехала с сыном еще в середине января и где оставалась несколько дней после возвращения сына, поправляясь от бронхита. Я ездил на вокзал ее встречать и живо помню, как на пути домой я рассказывал ей и полковнику Мятлеву (которого мы в своем автомобиле довезли до его дома на Исаакиевской площади), что в Петербурге очень неспокойно, рабочее движение, забастовки, большие толпы на улицах, что власть проявляет нервность и как бы растерянность и, кажется, не может особенно рассчитывать на войска – в частности, на казаков.[2]2
Не так давно, в апреле 1918 года, Мятлев, находящийся в Ялте, при встрече напомнил мне об этой поездке и о моем рассказе.
[Закрыть] В пятницу 24-го и в субботу 25-го я ходил, как всегда, на службу. 26-го, в воскресенье, Невский получил вид военного лагеря, – он был оцеплен. Вечером я был у И. В. Гессена, у которого по воскресеньям обычно собирались друзья и знакомые. На этот раз я, помнится, застал у него только Губера (Арзубьева), который вскоре ушел. Мы обменивались впечатлениями. Происходившее нам казалось довольно грозным. То обстоятельство, что власть – высшая – находилась в такую критическую минуту в руках таких людей, как кн. Голицын, Протопопов и ген. Хабалов, не могло не внушать самой серьезной тревоги. Тем не менее, еще 26-го вечером мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою такие колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения.
Возвращаясь домой с Малой Конюшенной, я не мог взять обычный путь – прямо на Невский и Морскую, так как через Невский меня бы не пустили. Я прошел переулком на Большую Конюшенную, потом через Волынкин переулок на Мойку, через Певческий мост, Дворцовую площадь, совершенно пустынную, мрачную, огромную, мимо Невского, по Адмиралтейскому проспекту. Проходя мимо градоначальства, я не мог не обратить внимания на большое количество автомобилей (10–12), стоявших перед подъездом. Вернулся я в начале первого, встревоженный и с мрачными предчувствиями.
Утром в понедельник 27-го я, как всегда, в десять часов утра отправился на службу. Азиатская часть Главного Штаба помещалась тогда в здании бывшего Главного Управления казачьих войск, на Караванной против Симеоновского моста. Проходя по Караванной и поравнявшись со сквером, я был остановлен каким-то господином со знакомым лицом (кто он такой – я ни тогда, ни потом вспомнить не мог), который мне сказал, что на Кирочной – стрельба, что часть солдат взбунтовалась. Он упомянул, помнится, о Преображенском полке. Придя затем в помещение Азиатской части, я никаких новых сведений не получил. Началась обычная работа, шедшая в этот день как-то вяло. Тем не менее, мы (мои сослуживцы и я) досидели обычное время – до трех часов, и в три часа я пошел домой, по Невскому, по которому в это время уже был свободный проход и толпились массы народу.
К вечеру Морская – насколько можно было видеть из окон, в особенности из боковых окон тамбура, выходящего на улицу и дающего возможность обозревать ее до «Астории», с одной стороны, и до Конногвардейского переулка, с другой, совершенно вымерла. Начали проноситься броневики, послышались выстрелы из винтовок и пулеметов, пробегали, прижимаясь к стенам, отдельные солдаты и матросы. Временами отдельные выстрелы переходили в оживленную перестрелку. Временами – но всегда на короткое время – все затихало. Телефон продолжал работать и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. С утра 28 февраля возобновилась сильнейшая пальба на площади, а также в той части Морской, которая идет от лютеранской кирки к Поцелуеву мосту. Выходить было опасно – отчасти из-за стрельбы, отчасти потому, что с офицеров начали срывать погоны, и уже ходили слухи о насилиях над ними со стороны солдат. Часов в 11 утра (может быть, даже раньше) под окнами нашего дома прошла большая толпа солдат и матросов, направляясь к Невскому. Шли беспорядочно и нестройно, офицеров не было. В эту толпу, по-видимому, стреляли – не то из «Астории», не то из Министерства Земледелия: точно это никогда не было установлено, да и самый факт стрельбы также не установлен, – возможно, что это было позднее выдумано. Как бы то ни было, под влиянием ли выстрелов (если они были), или по каким-либо другим побуждениям, эта толпа начала громить «Асторию». Оттуда начали к нам являться «беженцы»: сестра моя с мужем – адмиралом Коломейцовым, потом семья целая, с маленькими детьми, приведенная знакомыми английскими офицерами, потом еще другая семья наших отдаленных родственников Набоковых. Все это кое-как разместилось у нас в доме.
Весь вторник 28-го, а также среду 1-го марта я не выходил из дому. Было много хлопот по устройству неожиданных и невольных гостей, но большая часть дня проходила в каком-то тупом и тревожном ожидании. Точных сведений было мало. Известно было только, что центральным пунктом является Государственная Дума, а к вечеру 1-го марта уже говорили, что весь Петербургский гарнизон, а также некоторые прибывшие из окрестностей части присоединились к восставшим.
Утром 2-го марта уже офицеры могли свободно появляться на улицах, и я решил отправиться в Азиатскую часть выяснить положение. Придя туда, я застал на первой большой площадке огромную толпу служащих, офицеров и писарей. Я быстро прошел в наше собственное помещение, но через некоторое время пришли мне сказать, что меня просят, чтобы сказать несколько слов по поводу происшедших событий. Я пошел к собравшимся. Меня встретили аплодисментами. Мы все перешли в большую залу. Я взобрался на стол и сказал краткую речь. Точно не помню своих слов, – смысл их заключался в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина. На отдельные вопросы я отвечал, что я сам еще не в курсе происшедших событий, но что собираюсь днем в Государственную Думу и там всё, конечно, узнаю в подробности, а завтра мы все можем вновь собраться. На этом мы и покончили, служащие разошлись, оживленно разговаривая. Я недолго пробыл в Азиатской части, где не было ни начальника ее, ген. Манакина, ни ближайшего его помощника, ген. Давлетшина, и где, разумеется, в этот день ни о какой работе нельзя было думать. Вернувшись домой, я позавтракал, и в два часа снова вышел с намерением пробраться в Государственную Думу.
На углу Невского и Морской я как раз столкнулся со всем составом служащих Главного Штаба, которые шли в Государственную Думу для того, чтобы заявить Временному Правительству, о сформировании которого только что стало известно, свое подчинение ему. Я к ним присоединился, мы пошли по Невскому, Литейной, Сергиевской, Потемкинской, Шпалерной. На улицах была масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время как мы проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня (я шел с края), сошел с тротуара, подбежал ко мне, схватил меня за руку и, потрясая ее, благодарил меня «за все то, что вы сделали», прибавляя с большой энергией и решительностью: «но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно!» На Потемкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем, – по-видимому, из манежа Кавалергардского полка, куда они были заключены при начале восстания.
В эти 40–50 минут, пока мы шли к Государственной Думе, я пережил не повторившийся больше подъем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм… Я не отдавал себе тогда отчета в том, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели… Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь.
Когда мы подошли к Шпалерной, она оказалась совершенно запруженной войсками, направлявшимися к Думе. Приходилось несколько раз останавливаться и довольно долго ждать. То и дело проползали моторы, с трудом прокладывая себе дорогу через толпу. Площадь перед зданием Думы была переполнена так, что яблоку негде было упасть; на аллее, ведущей к подъезду, происходила невероятная давка, раздавались крики; у входных ворот какие-то молодые люди еврейского типа опрашивали проходивших; по временам слышались раскаты «ура». Одну минуту я уже отчаялся дойти до подъезда Думы и потерял связь с моими товарищами. Наконец, протискиваясь и проталкиваясь, я добрался до ступеней подъезда. В это время на возвышение, устроенное перед дверью, – а может быть – на открытый автомобиль (мне с моего места не было хорошо видно) взобрался В. Н. Львов и сказал приветственную коротенькую речь по адресу тех воинских частей, которые находились на площади. Его плохо было слышно и речь его не производила никакого впечатления. Когда он кончил и спустился к дверям Думы, туда хлынула толпа, давка стала еще сильнее. Не помню уже, как я оказался в вестибюле. Внутренность Таврического дворца сразу поражала своим необычным видом. Солдаты, солдаты, солдаты, с усталыми, тупыми, редко с добрыми или радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале, – везде давка и суетливая растерянность. Уже ходили по рукам листки со списком членов Временного Правительства. Помню, как я был изумлен, узнав, что министром юстиции назначен Керенский. (Я не понимал тогда значение этого факта и ожидал, что на этот пост будет назначен Маклаков.) Такой же неожиданностью было назначение М. И. Терещенка. Встретившийся мне знакомый журналист, по моей просьбе, взялся показать мне дорогу к комнатам, где находились Милюков, Шингарев и другие мои друзья. Мы пошли какими-то коридорами, комнатушками, везде встречая множество знакомых лиц, – по дороге попался нам кн. Г. Е. Львов. Меня поразил его мрачный, унылый вид и усталое выражение глаз. В самой задней комнате я нашел Милюкова, он сидел за какими-то бумагами, с пером в руках; как оказалось, он выправлял текст речи, произнесенной им только что, – той речи, в которой он высказывался за сохранение монархии (предполагая, что Николай II отречется или будет свергнут). Около него сидела Анна Сергеевна (его жена). Милюков совсем не мог говорить, он потерял голос, сорвав его, по-видимому, ночью, на солдатских митингах. Такими же беззвучными охрипшими голосами говорили Шингарев и Некрасов. В комнатах была разнообразная публика. Почему-то находился тут кн. С. К. Белосельский (генерал), ожидавший, по его словам, Гучкова, – очень растерянный. Через некоторое время откуда-то появился Керенский, – сопровождаемый графом Алексеем Орловым-Давыдовым (героем процесса с Пуаре), – взвинченный, взволнованный, истеричный. Кажется, он пришел прямо из заседания Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, где он заявил о принятии им портфеля министра юстиции – и получил санкцию в форме переизбрания в товарищи председателя комитета. Насколько Милюков казался спокойным и сохраняющим полное самообладание, настолько Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т. е. до того, как принял на себя роль «заложника демократии» во Вр. Правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки – крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился, вместо франтовского, какой-то нарочито-пролетарский вид… При мне он едва не падал в обморок, причем Орлов-Давыдов не то давал ему что-то нюхать, не то поил чем-то, не помню.
В соседней комнате происходило какое-то военное совещание. Я издали увидел генералов Михневича и Аверьянова.
Кажется, в то время уже говорили о том, что Гучков и Шульгин уехали в Псков, – и говорили как-то неодобрительно-скептически.
Делать в Думе мне было нечего. Вести сколько-нибудь систематический разговор с людьми смертельно усталыми – было невозможно. Пробыв некоторое время, вобрав в себя атмосферу – лихорадочную, сумасшедшую какую-то – я направился к выходу. По дороге, в одной из маленьких комнат, я встретил П. Б. Струве, который находился в Думе, если не ошибаюсь, чуть ли не со вторника. Настроение его было крайне скептическое. Мы с ним недолго поговорили на тему о необычайной сложности и трудности создавшегося положения. Потом я направился домой.
На другой день, 3 марта, я утром, в обычное время, пошел в Азиатскую часть. На углу Морской и Вознесенского я встретил М. А. Стаховича, который сообщил мне, как о свершившемся факте, об отречении Николая II (за себя и за сына) и о передаче им престола Михаилу Александровичу. Это же самое подтвердил мне М. П. Кауфман (бывший министр народного просвещения), которого я встретил недалеко от Караванной. Придя на службу, я застал опять крайнее оживление, толпу народа на лестнице и в большом зале заседаний, и снова ко мне обратились с просьбой сделать какие-нибудь разъяснения по поводу создавшегося положения. Я согласился. В зале собрались все служащие, пришел и почтенный ген. Агапов, начальник казачьего отдела Главного Штаба. В своей речи я поделился теми сведениями, которые у меня были (правда, крайне скудными), – сказал, что факт отречения царя должен разрешить вопрос и для всех тех, кто стоит на почве верноподданнической лояльности quand-meme, и затем, останавливаясь на предстоящей задаче, развивал вчерашние свои мысли о необходимости положить все свои силы на работу и на поддержку безусловной дисциплины. Вслед за мною говорили и другие, в том числе ген. Агапов. Настроение было очень твердое и хорошее, никаких диссонансов не было заметно. Помню даже, что Агапов поднял некоторые ближайшие практические вопросы, требующие, как он указал, немедленного решения для того, чтобы не останавливать налаженной работы и не вносить расстройства в нормальный ход дел.
Пробыв недолго со своими сослуживцами, я решил отправиться к начальнику Азиатской части, ген. Манакину, не выходившему из дому по нездоровью (кажется, он по телефону просил меня зайти к нему). Была чудная, солнечная морозная погода. Не успел я прийти к ген. Манакину и поговорить с ним, как к нему позвонили из моего дома и жена сказала мне, что меня просят немедленно, от имени князя Львова, на Миллионную 12, где находится – в квартире кн. Путятина – вел. кн. Михаил Александрович. Я тотчас распростился с ген. Манакиным и поспешил по указанному адресу, разумеется, пешком, так как ни извозчиков, ни трамвая не было. Невский представлял необычайную картину: ни одного экипажа, ни одного автомобиля, отсутствие полиции и толпы народа, занимающие всю ширину улицы. Перед въездом в Аничков дворец жгли орлы, снятые с вывесок придворных поставщиков.
Я пришел на Миллионную, должно быть, уже в третьем часу. На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх.
Раздевшись в прихожей, я вошел сперва в большую гостиную (в ней, как я узнал, в это утро происходило то совещание Михаила Александровича с членами Временного Правительства и Вр. Комитета Госуд. Думы, которое закончилось решением велик. князя отказаться от навязанного ему «наследия»). В следующей комнате – по-видимому, будуаре хозяйки – сидел кн. Львов и Шульгин. Кн. Львов объяснил мне мотив моего приглашения. Он рассказал мне, что в самом Вр. Правительстве мнения по вопросу о том, принимать ли Михаилу Александровичу престол или нет, – разделились. Милюков и Гучков были решительно и категорически за и делали из этого вопроса punctum saliens, от которого должно было зависеть участие их в кабинете. Другие были напротив на стороне отрицательного решения. Вел. князь выслушал всех и просил дать ему подумать в одиночестве (я предполагаю, что он посоветовался со своим секретарем Матвеевым, которому он очень доверял, и что тот был сторонником отказа). Через некоторое время он вернулся в комнату, где происходило совещание, и заявил, что при настоящих условиях он далеко не уверен в том, что принятие им престола будет на благо родине, что оно может послужить не к объединению, а к разъединению, что он не хочет быть невольной причиной возможного кровопролития и потому не считает возможным принять престол и предоставляет решение (окончательное) вопроса Учредительному Собранию.
Тут же кн. Львов прибавил, что в результате этого решения Милюков и Гучков выходят из состава Вр. Правительства. «Что Гучков уходит – это не беда: ведь оказывается (sic), что его в армии терпеть не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить остаться. Это уже дело Ваше и Ваших друзей, помочь нам». На мой вопрос, зачем меня просили прийти, кн. Львов сказал, что нужно составить акт отречения Михаила Александровича. Проект такого акта набросан Некрасовым, но он не закончен и не вполне удачен, – а так как все страшно устали и больше не в состоянии думать, не спав всю ночь, то меня и просят заняться этой работой. Тут же он передал мне черновик Некрасова, сохранившийся до настоящего времени в моих бумагах, вместе с окончательно установленным текстом.
Здесь я хотел бы открыть скобку, прервать на минуту нить моего рассказа и коснуться вопроса об отречении Михаила Александровича по существу.
Много раз впоследствии я возвращался мысленно к этому моменту и теперь вот, в конце апреля 1918 г., когда я пишу эти строки, в Крыму, завоеванном немцами («временно занятом», как они говорят), пережив все горькие разочарования, все ужасы, всё унижение и весь позор этого кошмарного года революции, стоя у разбитого корыта истерзанной, загаженной, расчлененной России, испытав всю мерзость большевистской вакханалии, убедившись в глубокой несостоятельности тех сил, на долю которых выпала задача создания новой России, я спрашиваю себя: не было ли больше шансов на благополучный исход, если бы Михаил Александрович принял тогда корону из рук царя?
Надо сказать, что из всех возможных «монархических» решений это было самым неудачным. Прежде всего, в нем был неустранимый внутренний порок. Наши основные законы не предусматривали возможности отречения царствующего императора и не устанавливали никаких правил, касающихся престолонаследия в этом случае. Но, разумеется, никакие законы не могут устранить или лишить значения самый факт отречения, или помешать ему. Это есть именно факт, с которым должны быть связаны известные юридические последствия. И так как при таком молчании основных законов отречение имеет то же самое значение, как смерть, то очевидно, что и последствия его должны быть те же, т. е. – престол переходит к законному наследнику. Отрекаться можно только за самого себя. Лишать престола то лицо, которое по закону имеет на него право, – будь то лицо совершеннолетний или не совершеннолетний, – отрекающийся император не имеет права. Престол российский – не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу. Основываться на предполагаемом согласии наследника также нет возможности, раз этому наследнику не было еще полных 13-ти лет. Во всяком случае, даже если бы это согласие было категорически выражено, оно подлежало бы оспариванию, здесь же его и в помине не было. Поэтому передача престола Михаилу была актом незаконным. Никакого юридического титула для Михаила она не создавала. Единственный законный исход заключался бы в том, чтобы последовать тому же порядку, какой имел бы место, если бы умер Николай II. Наследник сделался бы императором, а Михаил – регентом. Если бы решение, принятое Николаем II, не оказалось для Гучкова и Шульгина такой неожиданностью, они, быть может, обратили бы внимание Николая на недопустимость такого решения, предлагающего Михаилу принять корону, на которую он – при живом законном наследнике – не имел права.
Я касаюсь этой стороны вопроса потому, что она не является только юридической тонкостью. Несомненно, она значительно ослабляла позицию сторонников сохранения монархии. И, несомненно, она влияла и на психику Михаила. Я не знаю, обсуждался ли вопрос с этой точки зрения в утреннем совещании, но несомненно, что Николай II сам (едва ли сознательно) сделал наибольшее для того, чтобы затруднить и запутать создавшееся положение. Правда, им – по словам акта об отречении – руководили чувства нежного отца, не желающего расстаться с сыном. Как ни почтенны эти чувства, не в них, конечно, может он найти себе оправдание.
Принятие Михаилом престола было бы, таким образом, как выражаются юристы, ab initio vitiosum, с самого начала порочным. Но допустим, что эта – так сказать формальная – сторона дела была бы оставлена без внимания. Как обстояло положение по существу?