Текст книги "Трусаки и субботники (сборник)"
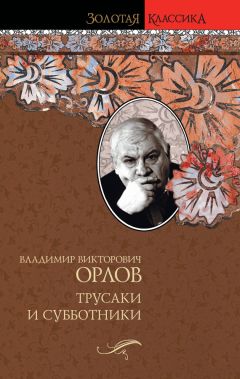
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
8
Но предсказания его сбывались.
Лишь появился я на следующий день на шестом этаже, услышал: умер Чукреев. Говорили и ахали громко. А шепотом добавляли: перерезал вены, вызвали «скорую», но опоздали.
С Чукреевым, совершенно неприметным мужичком лет сорока (оказалось – сорока четырех), за четыре года я имел всего лишь два мимолетных разговора ни о чем, дела наши никак не пересекались. Должность Чукреев занимал – при произнесении вслух – очень важную. Ответственный секретарь. В действительности же он ничего не значил. Как-то завели в областях по два Первых Секретаря обкома, промышленного и сельского. Сейчас же вскипела всеобщая кампания по раздвоению начальства. У нас в газете в штатном расписании своевременно обнаружился еще один ответственный секретарь. Чукреева на эту должность, курировать сельские темы, выписали из собкоров по Оренбуржью. Журналист он был посредственный и в Москве растерялся (квартиру, правда, получил хорошую, трехкомнатную). Существовавший прежде единственным ответственным секретарем Роберт Степанович Мелкасов, человек честолюбивый и хрупко-ранимый, поначалу не реагировал на пребывание рядом, в параллельном измерении, Чукреева. Но потом изобретательно-тонко стал создавать ситуации, из которых вытекало, что труды этого дурака бесполезны для газеты (впрочем, для Роберта Степановича все люди по отдельности и в целом были дураки и его замыслам и талантам лишь мешали). Со временем кампания с двумя секретарями обкомов стала казаться сомнительной, высмеивалась куплетистами Рудаковым и Нечаевым, а Чукреева вытеснили в угол, занимался он какой-то чепухой, оценивал работы собкоров. А и без него существовал отдел собкоровской сети. В общем, в профессиональных делах ему было несладко.
Я был одним из последних, кто узнал о кончине Чукреева, и мне пришлось выслушать несколько версий происшествия с намеками и многозначительными придыханиями. Мне знакомо свойство людей осведомленных получать удовольствие от передачи сведений, удививших их часами раньше, поутру, человеку «проспавшему», обделенному этими сведениями до обеда. Тут сочетались сорочье нетерпение проговориться и желание создать видимость собственной заслуженной посвященности в секреты, «а тебе всего открыть мы не можем». По этому поводу, но существенно более значительному, вспомнился мне октябрьский день шестьдесят четвертого года. А именно – 16 октября. В тот день открывались летние Олимпийские игры в Токио. Меня ввели в олимпийскую бригаду (на сами Игры обычно – по деньгам – посылали двух-трех журналистов, их репортажи и тассовскую информацию обрабатывали, переписывали в Москве люди, собираемые из разных отделов, Марьина направляли туда стилистом и правщиком, я же пригодился как знаток спортивной статистики, меня определили в надсмотрщики над техническими результатами, следить за точностью циферок – метров, секунд и т. д.). Сидеть нам в редакции предстояло, возможно, до утра, и на работу мы явились в три дня. На нас и навалились. «Вы что, и радио не слушали?» – «А что такое?» – «Никиту сняли!» И началось. И криком, и шепотом: «Переворот! Завтра сажать начнут… Нашу фронду – непременно… Зятя уже погнали…» Что печатать, кроме – черными, жирными буквами – информации о решении Пленума, никто не знал. Нам сказали: забивайте своими олимпийскими материалами хоть три полосы. А что предлагать? В Токио от полной неизвестности растерялись. Руководитель нашей делегации, молодежный вождь, получил телеграмму: «Срочно вылетай, заболела бабушка». И летел через вражеский Сайгон, в аэропорту не выходил из самолета. От наших репортеров мы получили строк тридцать. И тогда умельцы из отдела спорта сотворили отчет страниц на двадцать пять о всем, чего они не видели, но что в Токио непременно произошло. Пошло в ход и мое досье. В студенческие годы у меня была блажь: собирать вырезки о всяческих спортивных кумирах. Да и свежая, не забитая позднее информацией моя память позволяла мне держать в голове даже и результаты скромнейших забегов в Кудымкаре или на гавайском острове Нуруа. В тот день я оказался в газете не лишним. Тяжче всего бригаде было с подзаголовками темпераментного токийского отчета. Номер вел ехидный Агутин, главный соперник К. В. в чиновничьей толкотне, он потирал руки, К. В. же притих, угнетенный судьбой светлейшего Зятя. Агутин выглядел нервно-возбужденным. Но и он был растерян и, похоже, не сознавал, что будет завтра. А потому все предложенные бригадой аншлаги, выносы в рамки, анонсы сюжетных смыслов и подзаголовки сразу же отметал с руганью: «Вы хотите, чтобы газету завтра разогнали? Что вы суете мне вашу спортивную дребедень – „Победил сильнейший“! Или – „Голиаф одолел Давида“. Или – „У кого провал, у кого золотой бал!“ Что и кого вы имеете в виду? Вы поглядите на первую полосу! А это что? „Ненавидеть врагов – пустое занятие“? Это слова Юрия Власова? Ну пусть Власов и подотрется ими!» Даже простейший и тихий, как замерзающий мухомор в октябрьском лесу, заголовок «Наша первая золотая медаль» и тот был забракован. Прошли слова самые смиренные и фамилии спортсменов рядом с ними, чтобы ни о ком другом и подумать было нельзя. Тот номер я храню… А с ребятами из спортивного отдела я стал ходить в приятелях…
Почему я описал здесь тот октябрьский день? Показалось надобным.
Теперь, стало быть, Чукреев.
Мне захотелось поговорить с Башкатовым. А тот сам углядел меня в коридоре и повлек к себе. Комната его была пуста.
– Ну, – зловеще произнес Башкатов. – Что я говорил?
– При чем здесь Чукреев?
– А при том! При том! – Башкатов приоткрыл дверь, убедился, что за ней никого, дверь прикрыл, остался стоять к ней спиной. – Два дня назад Чукреев был у К. В. на приеме. – И что?
– И то! – Башкатов перешел на шепот. – Никакого фарфорового изделия по окончании разговора К. В. Чукрееву не вручил.
– Если бы я не получил солонку, мне следовало бы вешаться или резать вены?
– Какой ты, Куделин, все же прямолинейный! – поморщился Башкатов. – Но, надеюсь, ты не поверил в версию этой ехидны Чупихиной?
– А что К. В., – спросил я, – мог наговорить Чукрееву такого, что тот расхотел жить?
– Не знаю, – сказал Башкатов. – Может, что и наговорил. Но вряд ли беды Чукреева были в его интересах. Чукреев раздражал Мелкасова, но был ставленником Агутина, то есть на этом инструменте К. В. мог бы выводить и собственные рулады… Да, Куделин, а что ты валял дурака, делая вид, что незнаком с Цыганковой?
– Я видел ее пятиклассницей три или четыре раза, – сухо сказал я. – Теперь я ее не узнал.
– А со старшей сестрой, Корабельниковой в девичестве…
– Да, – помолчав, сказал я. – Я дружил с ней.
– Корабельников – фамилия громкая. – Башкатов отправил палец в ноздрю. – А я знаю, стало быть, мужа этой неизвестной мне Виктории, хлыща-дипломата, который нынче в Англии…
– Не имею чести…
– Где тебе, – согласился Башкатов. – А я и не рад, что имел честь. Сука порядочная… А как уязвила-то тебя Цыганкова Единорогом! Я ж тебе говорил: держись от нее подальше.
– Это мое дело, – сказал я. – И я с ней не общаюсь.
– Вот и хорошо, – сказал Башкатов. – И не мешай мне. У меня на Цыганкову виды. Пусть и временные.
– И это при жене и двух дочерях?
– Ты, Куделин, – рассмеялся Башкатов, – истинно – Единорог! Впрочем, такие блаженные болваны особенно опасны. К сожалению, во всем. Как эта Вика Корабельникова предпочла тебе карьерного циника? Или она такая же шальная, как ее младшая сестренка?.. И что в тебе увидел К. В.? А он что-то увидел или узнал. Тебе неведом К. В. И ты не знаешь, что он видит в тебе. И я не знаю этого… Кстати, ты лебезил перед ним?
– Я? Лебезил… – растерялся я. – Это, может быть, ты когда-нибудь лебезил перед ним? Оттого и спрашиваешь?
– Да, лебезил. И не раз. Такая подлая натура, – сказал Башкатов. – Все. Перейдем к делу. В том, что ты напряг своих архивистов по поводу родов Кочуй-Броделевича и Ахметьева, я не сомневаюсь.
Верно. Я рассказал историю с солонкой и коллекцией Кочуй-Броделевича Алферову и Городничему, те засверкали очами. Озадачивать ли их родовым древом Ахметьева, я долго не решался. Одно дело откапывать дворянские корни покойника, другое дело – соваться в судьбу процветающего молодого человека, ему-то знанием исторических подробностей можно было и навредить. Но в конце концов я рассказал Алферову с Городничим и про Ахметьева («А что он морочит мне голову четырьмя убиенными?»), взяв с них слово: никаких невыгодных Ахметьеву мелочей в воздухи не выпускать. Кому нужно, те и сами, о ком пожелают, все добудут.
– А не размышлял ли ты, Куделин, – сказал Башкатов, – отчего и Ахметьева, и Бодолина заинтересовало то обстоятельство, что номер твоей солонки пятьдесят седьмой?
– Владислав Антонович, а не кажется ли тебе, что кто-то намерен всеми этими солонками с их номерами подтолкнуть кого-то, предположим, что нас с тобой, а может, и не нас с тобой, а еще кого-то, подтолкнуть к банальности – двенадцать стульев, голубой карбункул, рождественский гусь и так далее? Неизвестно зачем. Как неизвестно зачем ты обращаешь мое внимание на другую банальность: старшая сестра, младшая сестра, хлыщ-муж, увезший старшую сестру в Англию…
– За многими тайнами, – вздохнул Башкатов, – укрывались банальности. Или простые случаи.
– И что же ты полагаешь делать дальше с этими солонками?
– Не знаю. Пока не знаю… Пока ходы не наши. Да мы ведь и не игроки, а зрители. Будем поджидать ходы главных игроков. Терпение, терпение…
– Говорят, Чукреев оставил какое-то письмо…
– Я не знаю его текста… Я не член редколлегии… Тебя небось сунут в похоронную команду, не отказывайся… Может, чего и услышишь… А Цыганкову надо уберечь от ее дурацких увлечений. – Твое дело, – сказал я. – Мне ее увлечения неизвестны.
9
Нельзя сказать, чтобы разговор с Башкатовым нечто мне прояснил.
Мои сомнения по поводу самого Башкатова и его участия в приключениях солонок никоим образом не были отменены. И слова Чупихиной я не забыл. Надо было только обтолковать, какие туманы он подпустил сегодня, если подпустил, и чем все-таки я был ценен ему в его расследованиях или его авантюрах.
Про Цыганкову я ему не врал. Относительно не врал. А если и врал, то прежде всего – самому себе.
Действительно, в общения с ней я не вступал. И не был намерен вступать. И ощущал опасность, какую необходимо было избежать.
Отец поучал меня редко. Но несколько раз я слышал от него выстраданное: «Не суйся туда, куда не следует соваться», обращенное скорее к самому себе, а уж потом к сыну, то есть ко мне, и к жене, моей матери. Я знал, чем были вызваны эти слова, помнил чувства, с какими они произносились, они были истинными. Но мое понимание опасностей и пределов приближения к ним существовало само по себе, как нечто единичное, собственное, воспитанное во мне зуботычинами жизни, потерями душевного покоя, укорами чести, выбрасываниями меня из устойчивости мироощущений в грязи и несоответствия идеалам. При этом опасности были разные. Иные из них могли и увлечь в свои омуты.
Скажем, совершенно не следовало мне соваться в историю с солонками. Но звенело во мне (пока) бесшабашное: «А-а! Что будет, то будет!», и опасность представлялась воздушной, надбытовой, заманивающей, подобно опасности спортивной: «Клюшки наголо! И на лед!» И я был уверен, что всегда сумею, коли будет нужда, ушмыгнуть от засад и разбойников через улицу и в проходные дворы. Но в случае с Цыганковой ушмыгивания и проходные дворы были невозможны. Происходили уже в моей жизни и ушмыгивания, и проходные дворы. Сейчас любое общение с Цыганковой, пусть и самое прохладно-протокольное, могло привести к возвращению в прошлое. Нет, и не к возвращению, а, что еще хуже, к повторению прошлого.
Но повторение это вышло бы односторонним. Лахудра Цыганкова явилась ко мне с расчетом и домашней заготовкой. Ну, кроссворд с единорогом она, скорее всего, притащила и не заготовленный, а горячий, с пылу с жару, это не меняло сути. Разговора со мной, хотя бы и немого, она ждала, возможно, долго и нетерпеливо. Мифологический персонаж способен был лишь подтолкнуть ее к действию. Свидетели, скорее всего оказавшиеся лишними, помешали ей высказаться определеннее. С чем явилась ко мне Юлия Ивановна? Перчатку ли она бросила мне, объявив войну? Отмщение ли назначила за сестру или уже произвела его, высказав мне свое брезгливо-презрительное отношение прилюдно? (Вот и свидетели оказались хороши.) Мне не дано этого было понять. Что слышала обо мне Юла-Юлька от своей старшей сестры (я и вправду видел Юлу раза три, ну побольше, и запомнил ее ехидно-вредной соплячкой), что нафантазировала сама, какие предположения выстроила о моих значениях в судьбе ее сестры, любила ли она старшую («папину дочку») или не переносила ее, кто она сама: фурия или ангел (глазато лучистые, ангельские, но не кроткие) или падший ангел? Обо всем об этом я хотел бы знать. Но положил себе: ничего не вызнавать. Особенно от Цыганковой. Я должен был от нее шарахаться («Чур! Чур меня!») и не откликаться ни на одну из ее реплик.
Но шарахаться необходимости не возникало. Мы нигде не сталкивались с Цыганковой. Она, видимо, забыла обо мне. Исполнила долговременно лелеемое, унизила меня, пощечину влепила при свидетелях, и все? «Неужели все?» – сокрушался я. Эти сокрушения разозлили меня. Что за бред (с пощечиной) я выстраиваю и о чем сокрушаюсь? Я сейчас же, чтоб отвлечься от моих сокрушений, вернулся к мыслям о не высказанном в разговоре с Башкатовым. Если каша заварена, то заварил ее прежде всего Кочуй-Броделевич! Его коллекция! Какие-то ее тайны. Что случилось с самим Кочуй-Броделевичем? От чего он умер? Почему его смерть иные называли неожиданной? Кто его враги? Какие коллекционеры строили ему козни? И наверняка среди них были такие, кто сам подбирался к собранию Броделевича или части его. Хитрец Башкатов, возможно, многое вызнал, но от меня утаивает. Коли что добудут Алферов с Городничим, придется устраивать с Башкатовым обмен сведениями. И надо заняться Светой Рюминой. Она как будто бы приветлива со мной. Башкатов объявил ее глупой и неучем, бранил ее за то, что она поверхностно отнеслась к коллекции и судьбе Броделевича. Но очень может быть, что он говорил мне неправду.
Позвонили. К себе вызывал комсорг Дима Трощенко. Причина вызова была мне ясна. Я пообещал: «Сейчас». Сам же вырвал листок из блокнота и набросал: «1. Кочуй-Броделевич. Тайна коллекции. Или тайна, неизвестная ему самому, но упрятанная в коллекции: драгоценности, шифр, карта клада, важные для кого-то документы и др. 2. Есть ли у Кочуй-Броделевича наследники, и если есть, что им досталось и что они хотели получить. 3. Коллекционеры, их интриги и интересы. 4. Не арестовывали ли кого из родственников Броделевича в 17 или 37, и не сунул ли один из них при аресте в солонку бумаги или вещи. 5. Скворцова…»
Опять звонок. «Куделин, долго тебя ждать!» Я схватил сумку из-под стола, сунул только что исписанный листок в один из бутсов за стельку и отбыл к комсоргу Трощенко. Как и предполагал ведун и старец Башкатов, меня назначили в похоронную команду. В нее обычно вгоняли самых младостажных и малозначительных работников редакции, но физически надежных. На этот раз со мной в части команды оказались Мальцев (этот – «значительный, но без году неделя»), юморист-оптимист Резвенников и стажер Алексашин. Нам полагалось утром быть на кладбище в Царицыне, присматривать, чтобы могильщики все делали как надо и вовремя, а в случае чего трясти перед директором кладбища удостоверениями, а когда подъедет процессия, нести гроб.
Я уже сообщал, что знал Чукреева плохо, то есть вообще не знал как человека, он был мне чужой, а за четыре года я привык хоронить взрослых или старых сотрудников, которых я тоже почти не знал и очень смутно ведал об их судьбах. При этом я не раз, как и мои ровесники, коим было поручено носить гроб или венки, испытывал чувства, требующие осуждения, но, увы, дававшие даже радость. Мы хоронили, это печально, вокруг смерть и тлен, но мы-то молоды и здоровы, послезавтра у нас матч с «Культурой», и мы будем жить долго, всегда, а судьба не сложится такой бесцветно-бедной, как у ныне погребаемых или отданных огню. Конечно, вечером каждому из нас было муторно и хотелось напиться. Какими бы мы ни были молодцами днем, как бы ни хорохорились, смерть есть смерть, зрелище погребения человека и соучастие в нем, сами знаете прекрасно, вызывает в каждом мысли, пусть и не объявленные словами, о высоком и неизбежном. И о собственной греховной мелкости. Но что я опять докучаю Вам банальностями…
Когда процессия из двух автобусов, ритуального и для сопровождающих, прибыла с панихиды на кладбище, могила была приготовлена. Процессия показалось жалкой. Чукреев был номенклатурой. Провожать его по протоколу обязаны были чины с Новой и Старой площадей. Они не явились. Не приехал и ни один из членов редколлегии. Самыми значащими людьми на похоронах были замзавы отделов. А так вокруг могилы тихо жались обычные наши редакционные сострадалицы из отдела писем и Группы Жалоб да незнакомые мне люди, возможно родственники Чукреева и его внеслужебные приятели. Выходило, что своим уходом из жизни Чукреев провинился, учинил структурам, в которых он должен был пребывать ответственным служакой, непозволительный подвох и теперь получал перед сырой глиной заслуженный прощальный выговор. Речи произносились примятые, двусмысленные, и в них и во взглядах слушателей отражалось смятение.
Было жарко. Я стоял среди провожающих взмокший, в темном пиджаке и рубахе, но уже освобожденный от работ. И опять ко мне приходили мысли, которых следовало бы стыдиться. Среди прочего мне, исполняя совет Башкатова, надо было бы из настроений и реплик провожающих Чукреева добыть полезные для нашего расследования сведения. На поминки, куда звали и где по русской традиции многое могло бы открыться, я не пошел, там бы я чувствовал себя определенно шпионом. А на кладбище и в автобусе мне удалось составить такие представления.
Бабы никакой не было. Чукреев в этом деле вообще был не смел. Но, может, отсутствие бабы его и угнетало. А как работника его доконали. Поставили за чужой станок. Письмо он оставил, но его изъяли. Служебный или партийный выговор объявлен на панихиде и на кладбище, но считайте, что и не Чукрееву, а Главному редактору. Чукреева ему теперь вставят в строку. Но на него дуются давно. К К. В. же претензий как будто бы нет…
Ни про какую невыданную солонку не говорили.
Вернувшись в редакцию, я хотел было найти Башкатова. Но выяснилось: он уехал на квартиру Чукреева, поминать.
На следующий день долго не поднимали полос из типографии. У меня было время, и я отправился посидеть на Часе интересного письма.
Редакция получала тысячу писем в день. Иногда больше, иногда меньше. Иные из них прочитывались мельком. По существующей тогда практике, вызванной причинами, мягко сказать, формальнодемагогическими, что сознавалось и в ту пору, и обговоренными ласковым дедушкой Калининым, всенародным газетчиком номер два, тексты всех пресс-изданий делились на «сорок процентов» и на «шестьдесят процентов». Сорок – это личные, подписные публикации штатных бумагомарак. Шестьдесят – это трубный и правдивый голос народа, письма трудящихся и статьи людей самых разных земных специальностей, выражающих мнение общества (статьи эти сочиняли опять же штатные работники, деньги за них по государственной установке платили фиктивным авторам, то есть народу, и все это называлось проклятущей «отработкой» или журналистским оброком). А вот письма публиковались – подлинные, со страстями людей, с их слезами, с их отчаянием, с их общественной выучкой и их блажью (сам блажил, участвуя в читательских дискуссиях, но искренне блажил, зацепило…). Газете верили, а потому ей исповедовались и били челом в надежде, что она возьмет под свой покров, беды развеет, житейские проблемы остудит, а душу ублажит. Большинство писем не публиковали, и не только из-за нехватки места, а из-за того, что многие письма были «не для газеты», то есть касались тем, обсуждать которые было как бы неприятно или даже неприлично. Попросту говоря, тем, неписано запрещенных или не рекомендованных к публичному толкованию, дабы не возбудить мнения в обществе. Письма эти, понятно, не сжигались, им давали служебный ход и по ним принимали меры, для этого держали в штате Группу Жалоб, в ней служили юристы. Но определение судьбы письма (и судьбы его автора) нередко было спорным. А потому и решили раз в неделю устраивать Час интересного письма, куда обязаны были приходить первые перья и умы, выслушивать письма, отобранные Свежим глазом (опять же дежурными читчиками почтового потока из разных отделов), и думать, как с ними поступать.
На эти чтения приглашались «все желающие». Порой ходил на них и я. Иногда скучал, иногда открывал рот, иногда готов был орать: «Доколе будем терпеть такие безобразия!» Нынче Свежим глазом был назначен Денис Миханчишин, а он мог уготовить и развлечения. Этот шебутной парнишка в газету попал из агрономов Кустанайской области, прозвище имел Пострел, писал он именно что бойко, но ситуации выкапывал каверзные и непривычные для очеркистов-ветеранов, а в своих размышлениях подходил к ним «не с того боку», то есть по-своему и без расхожей морали.
Все сидели вялые, не расположенные ни к шуткам, ни к проявлению амбиций. Нынче общую подавленность объяснили бы магнитной бурей. Миханчишин, верткий, худой, костлявый, в очочках, подвязанных к левому уху веревочкой, а возможно, шнурком для ботинок (дурачился), в дешевом мятом костюме (презрение к московским франтам, или московитам), был похож скорее и не на агронома, а на регистратора ветеринарного пункта. Он объявил сразу, что прочтет пять писем из почты последней недели и из них самое важное – «Исповедь импотента». Ожидаемого Миханчишиным оживления не последовало, вялость или даже сумеречность собравшихся развеять он не смог. Это Миханчишину не понравилось. Он любил дерзить и даже хамить (никого не боится, поговаривали: оттого, что ради него сверху, с каштановых деревьев, коли надо, свесится большая лохматая лапа…).
– Ну что же, – сказал Миханчишин. – Поскучаем вместе. Неудивительно, что полусонность присуща и нашей газете.
Он словно бы не знал о вчерашних похоронах Чукреева.
Одно из писем, зачитанных Миханчишиным, было о пожаре на молодежной ферме, произошедшем по причине пьянки. Уникальности в пожаре не было никакой, но особенность имелась. Ферма три года жила со знаменем «Коллектив коммунистического труда» и в области слыла передовой. Журить же публично ударников комтруда, тем более что порождены они были почти десять лет назад именно нашей газетой, как бы не полагалось, и мне стал понятен сюжет Миханчишина.
– Денис, это же вашего отдела тема! Вы и пишите про этот случай. С анализом проблемы.
– Да чего писать-то! – тут же нашелся благоразумный. – Зачем движение-то чернить? Случай, он и есть случай. Послать копию письма в обком комсомола, пусть разберутся, накажут кого следует…
– Вот! Вот! – обрадовался Миханчишин. – Мы потому и вынесли письмо на обсуждение, знали, знали! Это и не благоразумие, а трусость, и мы этого ждали!
– Что ждать-то? Поезжайте на место и пишите!
– Как же! – еще более радостно заявил Миханчишин. – А на статью потом наложат резолюцию: «Очернение движения». Если все так смелы, проголосуем и примем решение: «Одобрить разработку темы».
Проголосовали. Одобрили. Смелости никакой не потребовалось, спрашивать с ныне собравшихся никто не стал бы. Миханчишин же миролюбию сборища обрадован не был. Не возникло поводов для едких реплик и уколов, бичующих зарвавшихся на московских харчах конформистов. Два следующих письма были связаны с нарушениями техники безо пасности на транспорте. Оба случая чуть ли не привели к катастрофам с людскими жертвами. Опять же о казусах в гражданском воздушном флоте и на железных дорогах со скверными обстоятельствами рассказывать, мягко сказать, не поощрялось. Дабы не вызвать страхов перед полетами и занятием мест на полках. И дабы не было поводов усомниться в надежности государственных служб. И все помнили, что верховная досада висит над нашим Главным из-за статьи о происшествии на транспортном средстве Черноморского пароходства (впрочем, там дело было в нарушении газетой краеугольной дисциплины и партийного чинопостроения, малявки огрызнулись на старших). И все же уколы Миханчишина своего достигли. Письма о самолетах и поездах вызвали дебаты с перебранками. В конце концов сошлись на мнении: одно из писем, взяв его под контроль, пустить во внутреннее расследование, второе же, рельсо-вагонное, опубликовать с комментариями. Башкатов сидел недалеко от меня, помалкивая и ухмыляясь, он-то ведал про космос такое, что и в голову не могло прийти знатокам аэропланов и колесной тяги.
Четвертое письмо Миханчишин явно приглядел для забавы, и содержало оно коренной вопрос дискуссии во взводе воинов Забайкальского орденоносного округа. Дискуссию вызвало заявление одного из ефрейторов со ссылкой на журнал, название коего ефрейтор запамятовал, о том, что скорость блохи превышает скорость ягуара. Ученые изучали прыжки блохи, даже и не вызванные испугом или мерами предосторожности, и были удивлены их скоростными характеристиками. Оппоненты ефрейтора стояли на том, что в лучшем случае блоха способна перебегать дворнягу, а никак не ягуара. И то если дворнягу не кусают другие блохи.
– Отдайте Башкатову, – послышались советы. – Пусть пошлет в Забайкалье обстоятельный ответ с математическими выкладками.
– Э, нет! – не согласился Миханчишин. – Дискуссия солдат лишь на первый взгляд требует математических выкладок. Я же вижу в ней возможности для столкновения нравственных позиций. Я чувствую, что стою на трибуне морального ристалища. Я ожидаю обогащения нашей газеты десятками тысяч писем. Я предлагаю отдать документ в отдел писем и обязать его провести очередной «Форум наших читателей».
Поднялся заведующий отделом писем Яков Львович Вайнштейн, войну проведший фронтовым корреспондентом.
– Благодарим Дениса Миханчишина, – сказал Вайнштейн, – за сострадание к трудам нашего отдела. Непонятно только, чем привлек внимание Дениса сегодня именно наш отдел. Денис любит паясничать, но нынче у нас не капустник. К сведению Дениса, как работник пожилой, могу лишь сообщить, что отчего-то проблема скорости передвижения блохи лет двадцать как окрашивает солдатский досуг. Подобные письма приходят каждый год со всех, пожалуй, округов…
– Мы берем это письмо, – сказал Серега Топилин, спортивный отдел по традиции занимался армейскими темами.
Все ожидали громкого несогласия Миханчишина, но он спокойно передал письмо Топилину, рассудив, что ссориться со спортсменами ему не резон, но скорее всего посчитав, что номер с блохами отработан и пора переходить к «Исповеди импотента».
Тут в зал, словно бы поджидавшая в коридоре и теперь подчинившаяся условленному знаку, втекла шумная четверка слушателей, среди них и Цыганкова. Я напрягся, вцепился пальцами в сиденье стула, будто ожидая скандала, стать свидетелем которого мне было бы неприятно. Все смотрели на вошедших и прежде всего, как мне казалось, на Цыганкову. Она вошла в юбке сантиметров на двадцать выше колен. Но юбка есть юбка, а редакция наша молодежная. Вот если бы Цыганкова позволила себе появиться в брюках (или тем более в шортах), ей бы указали на дверь. Было видно, что Цыганкова вместе с тремя своими ровесниками готовы были усесться на пол, но пустых стульев стояло много, и четверо разместились на стульях.









































