Читать книгу "Трусаки и субботники (сборник)"
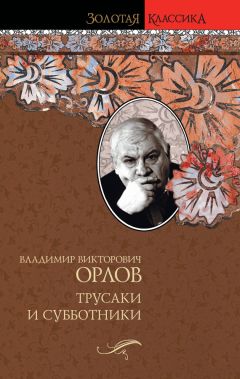
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
3
Полагаю, пришла пора сообщить о том, кто такой К. В. и что это за фарфоровые изделия, давшие повод для ехидств и малообъяснимых опасений Глеба Ахметьева.
К. В. – это Кирилл Валентинович Каширин, первый заместитель главного редактора газеты с тиражом в десять с лишним миллионов экземпляров, большой человек, располагающий правами казнить всякую мелочь и эту же мелочь миловать.
А фарфоровые изделия были частью фонда так называемого Музея газеты. Музей этот, надо сказать, – особенный, представлял собой собрание главным образом подарков друзей и героев газеты, космонавтов в частности, и всяких диковин и реликвий, добытых нашими журналистами в командировках. Первые экспонаты случились или образовались еще в довоенные времена и связаны были со спасением челюскинцев, папанинским дрейфом, даже серо-бурый свитер Чкалова хранился в залежах музейного запасника, то бишь в одной из обычных редакционных кладовок. Потом пошли приобретения фронтовые, из-под Вязьмы, из-под Сталинграда, из Кенигсберга (мы с Серегой Топилиным, отправленные года три назад в архивы Музея обороны Царицына и Волгограда за неопубликованными документами, и то приволокли в Музей (наш) осколки и дырявленую каску с Мамаева кургана, еще не облагороженного Вучетичем). Теперь в коридоре на подходе к Главной редакции, то есть к кабинетам Главного и трех его замов, в четырех отсеках под стеклами можно было увидеть макеты атомных подлодок и ледоколов, автографы Гагарина, Кастро, Шолохова, отбойные молотки рекордсменов-стахановцев, набедренные повязки диких амазонских индейцев (доставки сеньора Олега Игнатьева), сушеных морских звезд от берегов Антарктиды, пачку балерины Бессмертновой и прочее, и прочее. Попадали (понятно, что в музейные запасники) и предметы курьезные, достойные редакционной кунсткамеры. Как правило, поставляли их сидельцы из отдела науки. И прежде всего – шустрый Владик Башкатов. Именно к ним приходили изобретатели, снимальщики порчи, связные пришельцев, телепаты, оглашенные, колдуны, в ту пору повсеместно гонимые. А вот в нашем отделе науки к ним относились с доброжелательным вниманием, на мой взгляд, не всегда оправданным, за что, случалось, получали распекаи от курирующих нас чинов. Но иногда изобретатели своими открытиями и капризами все же допекали и наших ученых мальцов, вынуждая их к действиям, вовсе не доброжелательным. Однажды их посетил отставной полковник. Существовал тогда в природе такой социальный тип (с утра голодный – сужу по нашему буфету, – а к вечеру сытый драматург Софронов сейчас же состряпал про него народно-ростовскую драму). Приметы его были такие: мужик лет пятидесяти, крепыш, большеголовый, лысый, или бритый наголо, или седой, но коротко стриженный, в жару – с носовым платком (узелки на углах) на башке, в китайских синих брюках и ковбойке навыпуск, громкогласный правдолюбец, лезущий во все дыры и что-то изобретавший. Тот «полковник», о ком я вспомнил, первым делом потребовал, чтобы все сотрудники отдела науки подтвердили ему, что беспартийных среди них нет, что, на худой конец, все они комсомольцы. Только тогда он имел право сообщить им о своем открытии мирового стратегического значения. А изобрел он способ свободного и безо пасного опускания любого тела, в том числе и человеческого, с любых высот на любой клочок земли без парашютов и прочих планирующих устройств. Владик Башкатов переписывал полуграмотную статью, был в раздражении, бросил: «Покажите изобретение в действии! Спуститесь на пол хотя бы с моего стола!» – «Вы мне не верите… – расстроенно выдохнул изобретатель. – А другие мне верили…» – И он достал из портфеля ворох грамот и дипломов, подтверждающих его государственную и надтелесную ценность. «Мы вам верим, верим! – теперь уже раздосадованно заторопился Башкатов. – Но ведь не хотелось бы и усомниться…» Он подошел к окну, открыл его, сказал: «Вот что. Вы отдаете свой портфель. Для чистоты опыта. Вдруг в нем парашют. Наш этаж шестой. На подъем даем пять минут. Ждем вас в коридоре. И как только вы вернетесь, пишем репортаж о вашем изобретении прямо в номер». Ребята быстро выскочили из кабинета, Башкатов запер дверь на ключ. Через минуту изобретатель забарабанил в дверь. «Прихватило! Прихватило! – восклицал он. – Где у вас туалет?» И унесся в сторону туалета, более его не видели. Еще один, показавшийся чайником, явился демонстрировать аппарат, созданный им для назидания начальникам, БКС-6, бюрократокосилку. Косить аппарат обязан был не самих бюрократов, а их бумаги – входящие, исходящие, согласующие, прочие. «Валяйте, валяйте, показывайте!» – благодушно поощрил Башкатов посетителя. Изобретатель достал из чемодана с нищенскими фибровыми боками сооружение, сбитое из четырех фанерин, на колесиках, умеющих, как выяснилось позже, не только ездить, но шагать и обшагивать предметы. Внутри фанерок крепились на веревочках и резинках лезвия, половинки безопасных бритв и какие-то зубья. Был там еще и жестяной бачок. «Сейчас, сейчас, подожжем спиртовку и нагреем мотор», – неспешно объяснил изобретатель. Зрители приготовились к длительному созерцанию действий аппарата. Тот взревел, заверещал, зазвякал металлом, завертелся на месте, задымил, но тут же бросился в поход по столам. В тесноте кабинета столы были придвинуты друг к другу, и аппарату не было необходимости прыгать по крышам вагонов, он просто перебирался со стола на стол («Не трогайте его! – кричал изобретатель. – Пальцы отхватит!»), и через пять минут дело было сделано. Рукописи, правленые и неправленые, письма читателей и ответы на них, казенные бумаги со штампами и печатями – все было превращено в крошки, в отруби, в опилки. «А-а-а! Каково!» – торжествуя, восклицал изобретатель. «Да… – протянул помрачневший Башкатов. – Это у вас и не косилка, а потрошитель…» Изобретатель от своих щедрот был готов снабдить все отделы персональными Бэкаэсами, но Башкатов согласился принять от него лишь один экземпляр. Позже он заходил к членам редколлегии с намерением привести Бэкаэс в их кабинетах в трудовое состояние. Но его гнали, ссылаясь на жару и обременительную занятость. Сошлись на мнении, что косилку следует сберегать в Музее. В Кунсткамере. Туда ее и сгрузили.
Коллекция же фарфоровых изделий попала в Музей следующим образом. Света Рюмина из отдела информации обнаружила собирателя Кочуй-Броделевича Николая Митрофановича и написала о нем заметку. Вся квартира этого Кочуй-Броделевича, одинокого инженера-мостовика, была заставлена солонками. Сотнями солонок. Рюмина увидела солонки самых разных форм и размеров, созданы они были во многих странах и истории имели примечательные. Слабость к солонкам проявил еще отец нашего Кочуй-Броделевича, унаследовав ее от отца, строившего Великую Сибирскую магистраль под началом Гарина-Михайловского. Педанты-коллекционеры не признавали собрание Кочуй-Броделевича чистым и, стало быть, ценным и не допускали его вещицы на выставки и в каталоги. Действительно, кроме солонок у Кочуй-Броделевича хранились еще просто фарфоровые изделия, вовсе не солонки, а сами солонки его не все были из фарфора, имелись среди них экземпляры пусть и забавные, но из глины, из металла, из обыкновенного стекла, из соломки, наконец. То есть собрание его было и не собранием солонок, и не собранием фарфора, а так, чем-то промежуточным. Публикация Рюминой, да еще и с фотографиями, взбодрила и обрадовала старика (по моим тогдашним представлениям – старика, стариком он не был). А позднее его и его солонки показали по телевизору. Но потом он неожиданно умер. И выяснилось, что собрание свое он завещал нашей редакции как истинной хранительнице отечественной культуры и наказал включить его частью в фонды Музея. Месяца через три исполнители подняли на шестой этаж несколько серьезных фанерных и картонных коробок с дарами Кочуй-Броделевича. «Да куда же их девать-то! Да чтоб этот Броделевич со своими солонками!..» – бранились хозяйственники. Кабы мог услышать их тихий чудак Кочуй-Броделевич! Но увы… Или, напротив, к счастью… «Да не орите! – отвечали хозяйственникам. – Толку от вас, как всегда, никакого! Вот скоро съедет „Огонек“ в журнальный корпус у Савеловского. Их Белый зал и кабинеты отойдут к нам. Там, наконец, и разместят Музей». Ну а пока? А пока? Хозяйственники взвыли и пошли жаловаться к К. В. – материальные ценности были в его ведоме. «А пока поставьте коробки ко мне в комнату отдыха!» – распорядился К. В. В тот вечер К. В. был весел, сыт, здоров и благорасположен к неожиданному и невыгодному для себя жесту.
Попасть в комнату отдыха К. В. я, естественно, не мог. При всех кабинетах главных – самого Главного и трех его замов – со времен войны имелись комнаты отдыха с ванной, туалетом, диваном, столом для трапез, гардеробом; кабинеты в войну становились квартирами. К. В., рассказывали, завел себе шведскую стенку для поддержания физических совершенств. Может, рядом покачивалась и боксерская груша. В соседи к ним в апартаменты К. В. и занесли коробки Кочуй-Броделевича. Дуся Кулагина, определенная в общественные хранители Музея, захотела было провести инвентаризацию новых единиц хранения. Но ей драматически указали: «Не суйся ты как дура! Не лезь сейчас в коробки! А то он передумает и вышвырнет их в коридор!»
Понятно, что вскоре о даре Кочуй-Броделевича забыли, для нас он был ничем не примечательнее, нежели сушеная морская звезда из водяной Котловины Беллинсгаузена. А если и вспоминали о нем, то лишь в рассуждении – долго ли К. В. сможет вытерпеть коробки. Владик Башкатов, изучавший натуру К. В., утверждал, что недолго. Недели две от силы. И то – при благонамеренном развитии стихий. А уж если просыпется вдруг град из начальственных туч, или, не дай Бог, неведомая нам новая очаровательница откажет К. В. в проведении именин сердца, то он и вышвыривать коробки не станет, а в досаде перебьет в них все фарфоры. Да, утверждал лукавый и прозорливый Башкатов, К. В. приобрел свойства степенного государственника и далеко пойдет, но мальчишка, гонявший на мотоциклах и сигавший с неба на парашютах, из него никуда не делся, не утихомирился и свободы К. В. окончательно не дал. А я вспомнил, как проводили мы юбилей редакции в Доме журналиста. Прежде чем перей ти к столам в ресторане, ради чего и собрались, сидели в Мраморном зале в занудстве обязательных слов. Наконец добрались до модной тогда лотереи. С розыгрышами не только шуточных предметов, но и вещей относительно ценных, на них продавали билеты. К. В. сидел на сцене главным, все призы лежали перед ним, лотерейщик вел дело медлительно и скучно. К. В. вдруг вскочил: «К застолью, братцы, к застолью! В ресторан! Хватит! Это нам-то зависеть от слепого жребия! Никогда! Мы все на равных! А потому – на шарап! Всё – на шарап!» И принялся разбрасывать призы в народ. Он и запомнился мне воодушевленным, провозглашающим: «На шарап!»
Владик Башкатов считал дни, но прошло две недели, и ему пришлось признаться в своем конфузе. «Не ожидал я этого! – сокрушался он. – Не ожидал!» И тут совершенно неожиданным образом произошло явление публике предмета из коллекции Кочуй-Броделевича.
Лена Скворцова из отдела учащейся молодежи ходила на прием к К. В. и вернулась от него в задумчивости и удивлении. Пошла же она к нему с просьбой дать ей командировку в Курган. Материал для статьи она могла собрать и в Рязани, и в Ярославле, даже и в Москве, но Курган ее манил по причине приватных интересов. К. В. это понял. Лена Скворцова была девушка симпатичная, а К. В. одно удовольствие было подтрунивать над симпатичными и смазливыми. В конце собеседования он заявил, что конечно, конечно, не сейчас, но когда-нибудь Лена обязательно поедет в Курган, он обещает, и, чтобы нынче карие очи Лены не затуманивались слезами, он вручает ей фарфоровый сувенир, и опустил в руки Скворцовой ласковую пастушку с ягненком. Оказалось, что солить можно и из пастушки, и из ягненка. А ягненок был способен и на рассыпку молотого перца. Владик Башкатов, узнавший о событии с опозданием, бросился к Лене Скворцовой со словами, объяснявшими его интерес, и обнаружил в подножье пастушки выведенный черной тушью № 23. Надо полагать, что Кочуй-Броделевич или кто-то, приглашенный им, все же проводили инвентаризацию собрания и постарались составить ряды. «Ну Кирилл Валентинович! – восхищался Башкатов. – Ну дает! Выдержка-то какая!» Но и потом, месяцев пять, К. В. содержимое коробок Кочуй-Броделевича не курочил, а лишь потихоньку и по настроению раздаривал. Иные, приходившие к нему с просьбами о жилье, внесезонном отпуске, непредус мотренном маршруте командировки и пр. (не все, не все!), случалось, выслушивали отказы и ехидства К. В. Но кончались отказы утешениями Кирилла Валентиновича, снятием нервических напряжений, кому и с предложением коньяка, обещанием «не сейчас, но позже» и фарфоровым даром.
В нашей газете работали тогда молокососы, каждому – немногим за двадцать, лишь треть редакции составляли ветераны (за сорок) с довоенным или военным прошлым. Те, что поярче, уходили во взрослые («богатые») газеты, остававшиеся с нами не поднимались выше начальников средних значений. Всем главным и членам редколлегии либо не так давно исполнилось тридцать лет (К. В., например, сравнялось тридцать четыре), либо вот-вот должно было исполниться. Ко всему прочему большинство нынешних работников учились на факультете журналистики, пусть и на разных курсах, но знали друг друга студентами, да и в какие годы – шалые, весело-мечтательные, с брожением умов и идеалов, свержением с трибун, с должностей сановных подлецов и дуроломов. А потому и в государственной уже конторе чинособлюдения считались дурным тоном. Ни на каких дверях не висели таблички, делящие на разряды и звания, вроде «Прием по личным вопросам от 15 до 17 часов». Надо было лишь подойти к Тоне Поплавской, референту Главной редакции, высказать ей свои пожелания и подождать звонка со словами: «О. Б. (или К. В.) могут сейчас с тобой поговорить. Двадцать минут. Давай…»
4
И мне приспичило явиться на прием к Кириллу Валентиновичу. Предприятие мое было безнадежным. Но мне ничего не оставалось делать, кроме как грязными ботинками, их подметками в глине с дерьмом растоптать, растереть все свои комплексы и за шиворот ввести себя в кабинет К. В. Я уговаривал, успокаивал себя: «Что особенного-то? Что необыкновенного? Надо лишь соблюсти правила протокола, обязательность заведенного порядка. Всем это предстояло. Или предстоит… Ишь выискался какой душевно тонкий!»
Я уже сообщал мимоходом, что все хозяйственные и материальные дела редакции находились в ведоме первого зама, К. В. Конечно, все мог перерешить Главный, но подобное случалось редко. Или не случалось вовсе.
Я приоткрыл дверь в кабинет К. В. Он был один.
– А, это ты, Куделин, – сказал К. В. – Заходи. Давай бумагу. Садись.
Я присел. Сам К. В. полулежал в кресле сбоку от обязательных форм стола для ежедневных заседателей, покрытого синим сукном, колени выставив вверх. Он отделился от четырех своих телефонов и вроде был не на посту, а отдыхал. Текст моей слезливой челобитной был безукоризненно банальный и не предполагал долгого чтения, но К. В. все держал бумагу перед глазами. Может, исследовал почерк автора в намерении открыть глубины моей натуры. Я же разглядывал его кабинет. Здание наше было построено в начале тридцатых модным тогда архитектором-конструктивистом Голосовым, его поминали в своих монографиях искусствоведы. Но интерьеры редакции были убого-провинциальные, самого что ни на есть мелко-чиновничьего стиля, с дальними и угодливыми отражениями вкусов сановников кремлевских и министерских значений. То и дело возникали разговоры о грядущих ремонтах, должных превратить шестой этаж в истинно журналистский офис второй половины столетия. Но пока обиталище К. В. походило на скучнейшее трудовое пространство какого-нибудь начальника ситцевого главка, и было в нем нечто промежуточно-временное. Или временно пребывал здесь сам К. В., достойный куда более замечательных мест умножения государственной энергии?
– Сколько ты у нас работаешь? – спросил К. В.
– Четыре года, Кирилл Валентинович. – Я готов был вскочить и расположить руки по швам. – Почти четыре…
– Немного, немного… – К. В. принялся раскачиваться в кресле. – Стаж у тебя, Куделин, мелкий… Мелкий… К тому же ты у нас не творческий работник…
– Не творческий, – кивнул я.
– Ты скорее технический работник…
– Да, я скорее технический работник, – поспешил согласиться я. Сидеть вблизи К. В. мне было неловко. Я ощущал себя Акакием Акакиевичем, вынужденным объясняться с генералом. Поверьте, хотя нынче это сделать трудно, тогдашнее мое уравнение себя с маленьким человеком, Акакием Акакиевичем, было совершенно осознанным и нисколько не искажающим истинное состояние моих чувств. И разницы в наших хлопотах и упованиях не было никакой. Ну разве что Башмачкин пребывал в стараниях о шинели, а я – о квартире. Но квартира, пусть самая крохотная, никудышная и убогих свойств, была для таких, как я, то есть для тьмы тем, именно шинелью Акакия Акакиевича. Сколько людей в ту пору в усердиях добыть квартиру и существовать сносно погубили душу и сломали судьбы, и собственную, и домашних. Не забуду Рашида, беспалого пространщика из Ржевских бань, долго вымаливавшего в присутствиях жилье, а потом, в отчаянии, спалившего дом, деревянный, одноэтажный, наискось от моего. У Рашида был расчет: его посадят, но жене его с четырьмя детишками как погорельцам дадут квартиру. Рашида посадили, в лагерях он сгиб, а его погорельцев подселили в коммуналку в семейной Солодовке, там жить было куда хуже, чем в спаленном доме.
– А зачем ты мне принес? – поинтересовался К. В. – У нас есть жилищная комиссия.
– Но они без вас, Кирилл Валентинович, решать ничего не станут…
– Это ты, Куделин, преувеличиваешь. Есть правила закона, и мы их соблюдаем. Резолюцию я тебе поставлю, но самую обычную: «Рассмотреть на жилищной комиссии». И все. Ты заявление в комиссию отдавал? Нет? Ну что же ты? Отдай. И быстро. И все справки. Но должен тебе сказать, что раньше чем через четыре года твоя очередь не подойдет. Ты это понимаешь?
– Я понимаю! – выдохнул я с воодушевлением, будто срок в четыре года был для меня незаслуженной наградой. – Я-то ладно, я-то ко всему привыкший. Старикам вот тяжко. Я-то, был бы я один, разве б решился обременять просьбой.
Мне было стыдно. Я стал себе противен. Я оправдывался, будто я в чем-то мог считать себя виноватым. Ну да, я был виноват, коли посмел просить… Я встал.
– Спасибо за совет, Кирилл Валентинович. Я пошел. Очередь есть очередь. Но она все же движется.
– Погоди! Садись! – резко сказал К. В. – У меня еще есть время. Номер сегодня ведет Камиль.
Я сел. Он смотрел на меня, сощурив глаза, и не было в них доброты и благожелательности, чуть ли не брезгливость видел я в них.
– Ты, Куделин, всегда такой кроткий и смиренный? Благостный прямо?.. Тихий инок… из этой… из Оптиной пустыни?.. Нет, пожалуй, я помню тебя и не кротким. Отнюдь!
Приехали… Пришла пора, настало лето… Кириллу Валентиновичу будет сейчас что мне припомнить…
Молодые люди нынешних дней понять нравы и привычки нашего поколения вряд ли смогут. Слова «регламент», «ранжир», «субординация», «твой номер – девятьсот восемнадцатый» и пр. им неизвестны, им и в разумение не могло бы войти то, что их отцам и дедам танцы «танго» и «фокстрот» (что говорить о роке!) исполнять было запрещено, да и никогда над ними, нынешними, не висел в небесах аэростат с портретом генералиссимуса. А я и в первых классах, и в пионерах (в детском саду и в октябрятах я не был), да и во всем укладе воспринявшей к пребыванию в ней жизни, я быстро прошел выучку государственного устроения и совершенствования и шкурой (иные говорили – «всеми фибрами души») ощущал свое истинное месторасположение в вертикалях и горизонталях общественного бытия. А если заблуждался или плавал в черничных сиропах грез, меня тут же тыкали мордой об стол и объявляли: «Нет, твой номер и не девятьсот восемнадцатый, а куда более мелкий…» И сегодня вот: «Ты не творческий работник, ты скорее технический…» «Ну, технический, ну и что? Технический, технический, успокойтесь…» Я уже писал выше, что объяснялся с генералом. Кирилл Валентинович Каширин по значению должности и номенклатурному измерению вершинных устройств на самом деле был гражданским генералом. Примеривали же его и в маршалы. А я по выходе из университета получил в военном билете запись: «младший лейтенант запаса». В должностном же состоянии я ощущал себя сержантом или ефрейтором. Пора моих бонапартьих воспарений отлетела лет пять назад, и в грядущем генералом я себя не видел. Да и не было у меня нужды ни в каком генеральстве… И вот недавно, месяц или полтора назад, я наорал на генерала, на Кирилла Валентиновича, наорал яро, и в том крике-выговоре самым нежным, ласковым почти, было слово «мудак», другие слова я приводить здесь не буду. Возможно, и разговор сегодняшний К. В. продолжил, чтобы напомнить мне о забавном – для него – случае. Играли мы тогда на Пресне, на поле «Метростроя» с ФИСом, командой издательства «Физкультура и спорт». Я бегал правым хавбеком, держал персонально знаменитого сборника Арменака Алачачана, но порой позволял себе гулять от него вперед и влево, в центр. Там, уходя то и дело в правые инсайды, носился Виктор Понедельник, мы с ним сближались редко. И Понедельник, и Алачачан считались как бы авторами издательства, и мы, поворчав, согласились не называть их «липачами». Алачачан, в баскетболистах – Малыш (метр семьдесят восемь), был ниже меня, но, когда я врезался в него, я понял, что налетел на чугунный столб. Играть с ним надо было на опережение. А К. В. держался сзади меня на позиции чуть выдвинутого вперед правого защитника. Острые случаи до него не доходили. Играли мы прилично, после первого тайма вели один-ноль и могли бы получить два очка в турнирном зачете «Золотых перьев», если бы не казус за семнадцать минут до конца игры. Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, резкий, короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисовцев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас же надо было отправить либо Марьину, либо Гундареву. Но игроки торчали забором. Я чуть скосил глаза. К. В. стоял в прекрасной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марьину. Марьин игрок был так себе: плохая дыхалка, техники никакой, глаза – в землю, но рывок имел отменный, а сейчас рывок вывел бы его прямо к воротам, забивай хоть пузом. Я отбросил мяч К. В., закричал: «Марьину! В разрез! Скорее! Марьину!» К. В. не поспешил исполнить мой совет, почти требование, на меня он не взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу удара не рассчитал, мяч покатился вяло, седьмой номер фисовцев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым и мимо ошарашенного долговязого Мартына влепил мяч в нашу сетку. Тогда я и наорал на К. В. Кроме матерных были произнесены и истинно обидные слова: «Не умеешь играть – не лезь в команду!» Поначалу К. В. пытался отшутиться: «Да что вы, братцы! За корову, что ли, играем?», но увидел глаза ребят, своих и чужих, нахмурился и опустил плечи. Позже в раздевалке, после душа, все отошли, пили пиво, дурачились, об эпизоде с К. В. не вспоминали, мне было неловко. Игрок-то он был неплохой. Резкий, смелый, не ныл от травм и не кичился ими. И хотел играть. Вышел бы случай с моим ровесником, я бы подошел к нему, извинился: «Старик, мало ли что может произойти в горячке игры, не обижайся!» Но сунуться с извинениями к К. В. ни сегодня (а он уже и убыл по делам, за ним подлетела «Волга»), ни завтра я не мог. Да и как бы расценил К. В. мои извинения? И вряд ли мои крики остались в его памяти. Через неделю мы играли с «Советским спортом». К. В. явился на предварительный сбор. И когда обсуждали состав, было заметно, он нервничал. Могли бы ведь напомнить и о его возрасте, еще кое о чем, хотя бы и косвенным образом. Но нет, мнение было общее, защитником на правый фланг ставить К. В. И он разулыбался…
– Куделин, ты верующий? – услышал я.
– Верующий?.. – растерялся я. – Я… Я – крещеный… По всей вероятности… Хотя не знаю… Отец-то у меня партиец…
– Я спрашиваю, ты – верующий?
– Я – комсомолец, – продолжал бубнить я. – А к православным традициям отношусь с уважением… Это история отечества…
– Фу-ты. – К. В. произнес это с раздражением теряющего терпение. – Я про одно, ты про другое… Вот вы с Марьиным суетитесь по поводу церквей, публикации готовите…
– Не церквей, а памятников архитектуры… Их столько наломали и еще ломать намерены…
– Ну ладно, успокойся, успокойся! Памятников так памятников. Сейчас к этому делу отношение благосклонное. И в твоей благонамеренности никто не сомневается. Ведь ты, Куделин, благонамеренный?
– В каком смысле благонамеренный? – взволновался я.
– В самом прямом и простом. Или ты только прикидываешься простаком со старомодными установлениями? А сам живешь со своей дудой и своими ожиданиями?
– Никем я не прикидываюсь! – сердито сказал я. – Как живу, так и живу.
– Скорее всего, оно и так. Ты весь просвечиваешь… Нет, Куделин, ты не игрок. Не игрок!
– Я… Кирилл Валентинович…
– Не командные игры имею в виду, – сказал К. В. и встал. – А всякие мелочи, вроде квартир, можно приобрести и поиграв. Не в карты, естественно. Но не всякому дано… Увы!
Я тоже был намерен встать, но К. В. движением руки повелел мне сидеть. Сам же принялся прохаживаться по кабинету, не роняя слов, будто бы обдумывая опечалившее его открытие: Куделинто – не игрок, а смирная благонамеренная личность. Да на кой сдался ему этот Куделин, растерянный, а может, и разобиженный (и на самого себя, конечно)?
В те минуты я вовсе не занимался созерцанием натуры Кирилла Валентиновича. Но рано или поздно, хотя бы из литературных приличий, следовало бы сказать кое-что о внешности нашего Первого зама. И я подумал: а почему бы не сделать это сейчас?
В ту пору молодежный начальник (а молодежных-то ход времени и фортуна по ковровым дорожкам сопровождали в начальники взрослые, а потом и в степенные) не мог быть не только инвалидом, уродливым лицом, болезненным, но и просто непривлекательным. Существовала система «смотрин» кандидатов в лидеры (кандидаток я сейчас касаться не буду, там были свои смотрины и проблемы) и перед выборами, и перед утверждениями, и перед показом кураторам, и пр., и пр. Лидеры должны были нравиться массам, вызывать их доверие и располагать их к себе, как располагали к себе герои (не плакатные, упаси Боже, не плакатные!), а оживленные Урбанским, Баталовым, Юматовым, Столяровым, Лановым. Да и мужицко-спортивная крепость была бы в них не лишней, она бы свидетельствовала об их силовой надежности. Ну и гагаринская улыбка не помешала бы. Или хотя бы улыбка Бернеса. Ценилось также умение носить костюмы современных деловых людей европейских достоинств, забыв при этом о габардиновой серости и фетровых шляпах нафталиновых секретарей. Должен добавить, что, как правило, не было удачи на «смотринах» малорослым. Достижения прежних мелких размерами вождей не принимались во внимание. «Нынче стиль иной…» Претендент ростом выше метра семидесяти пяти на «смотринах» имел преимущество перед соперником ниже ста семидесяти сантиметров, пусть и обладавшим лицом самым что ни есть открыто-доброжелательным.
К. В. подобным «смотринам» не подвергался (если и случались какие «смотрины», то иного рода). Его движение было профессионально-творческим, оно и привело его в номенклатуру с ее правилами развития. Но теперь К. В. выглядел так, будто бы в свое время упомянутые мной «смотрины» он заслуженно прошел. Мужик был что надо. В соку. Крепыш, роста при этом отнюдь не малого, широкоплечий, но не тяжеловес, вполне стройный и даже элегантный. Единственно – он косолапил или даже был немного кривоног. На футбольном поле это виделось отчетливо. К. В., говорили, рос офицерским сыном, из гарнизона – в гарнизон, там всюду были лошади, и он с детства уважал себя кавалеристом. Он и теперь с помощью ребят из спортивного отдела приятельствовал с конниками и в свободные часы чуть что – взлетывал в седло, осанка его, рассказывали, вызывала уважение. Состояние духа и мышц он вообще старался поддерживать. Увлекался аквалангом и водными лыжами, дважды в отпуски отправлялся в тяньшанские походы с альпинистами, в прошлом году делал вылазку на медведя, причем не на обреченного бедолагу в завидовском хозяйстве, а с деревенскими охотниками в вологодском лесу. Замечу, что и стрелком офицерский сын считался хорошим. Помимо всего прочего, разговоры о стиле жизни К. В., хотя бы отпускной или досужей, создавали ему репутацию охотника и удальца, а по входившей в оборот терминологии – плейбоя и супермена. Нынче при воспоминаниях о тогдашнем Каширине на ум мне приходит Николай Расторгуев из группы «Любэ», но, пожалуй, К. В. был повыше ростом, шею имел подлиннее и лицо потоньше…
По установлениям времен сотрудники влиятельного департамента на Маросейке, кому подчинялась наша газета, обязаны были приходить на службу в костюмах, разумеется, при галстуках и белых рубашках. Взрослые подручные партии этажами ниже нас тоже – и чаще всего с удовольствием – соблюдали правила социального приличия. Наши же мастера, юноши и девицы, считали себя независимыми творцами, уставную принадлежность к департаменту относили к дипломатическим атавизмам, себя же полагали фрондой, а ношение галстуков, синих и темно-серых пиджаков причисляли к дурному тону или даже к актам политических уступок. А то и к предательствам идеалов. Во всяком случае, каждый надевший галстук без объяснимой в тот день причины (свадьба, поход в театр, съемки для паспорта) мог быть признан делающим карьеру. Ковбойки, водолазки, свитера, куртки – вот в чем было принято являться в редакцию и во всякие уважаемые и неуважаемые помещения. К. В. мог позволить себе визиты без галстука (в костюме, конечно, не в джинсах же) и в строения на Старой площади, хотя там он не был любимцем, принцем-дофином. Там он скорее был на подозрении. Ведь ход к продвижению дал ему Никитин ЗЯТЬ, Аджубей Алексей Иванович, сам, пусть пока и не четвертованный. Но униженный нынче необходимостью не иметь имени, а иметь псевдонимы, задвинутый в затхлые и без лестниц в небо комнаты на улице Москвина. Кастратоголосый Михаил Андреевич Суслов ехидств в свой адрес и уж тем более посягательств на сан кардинала не прощал. И все же, несмотря на ненавистного Зятя, шептала молва, Михаил Андреевич зла на К. В. не держал и будто бы видел в нем нечто надежно-родственное (а вот деликатнейшего нашего Главного, О. Б., он не миловал и был намерен сгрызть. И сгрыз, и отправил кости в Берлин). А К. В. мог бы прибыть к нему на вызов и в водолазке. Впрочем, Михаил Андреевич сам не любил костюмы и галстуки, а комфортно, говорили, ощущал себя во френчах, толстовках и в грубом, но теплом (мерзляка!) нижнем белье. (Тут я опираюсь на молву и редакционные легенды.)









































