Текст книги "«Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге"
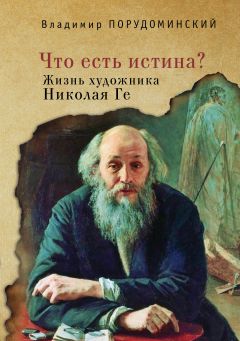
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Начало портретиста
Герцен писал про Ге: «известный живописец», «художник первоклассный», «делает он удивительно». Он это писал до того, как Ге начал портрет. В лучшем случае Герцен видел лишь фотографию с «Тайной вечери». Позже, когда начались сеансы, Ге показал ему повторение картины. В мастерской стояла также неоконченная – «Вестники воскресения»; Герцену она, кажется, понравилась. Эпитеты «известный», «первоклассный», «удивительный» Герцен выдал как бы авансом, понаслышке. О борьбе вокруг «Тайной вечери» Герцен должен был знать из русских газет. Это свидетельство славы Ге: он завоевал неотъемлемый эпитет – «известный» живописец, «первоклассный» художник. Его уже упоминают с эпитетом, даже не видя его работ.
После «Тайной вечери» Ге стал известным художником, но известен как художник он был раньше – еще в пору ученичества. В 1855 году молодая художница Хилкова взялась написать «перспективу» петербургской рисовальной школы «со всеми ученицами и учителями». Она просила Ге сделать один из главных портретов – преподавателя Гоха, академика. Портрет вскоре пропал – его украли у Хилковой. В списках произведений Ге он не указан, а это одна из самых ранних работ художника.
История с портретом Гоха рассказана в дневнике Е.А. Штакеншнейдер – широко признанном документе прошлого столетия. Имя Ге упомянуто в дневнике без объяснений, как бы между прочим. Чувствуется, что и для Хилковой, и для Гоха, и для самой Штакеншнейдер, автора дневника, Ге – человек известный.
Молодой Ге был известен как портретист. Это не удивительно: из его картин до «Тайной вечери» знали только конкурсные академические работы, а портретов за это время Ге написал не меньше тридцати. Некоторые он выставлял. О портретах кисти молодого Ге говорили, даже писали.
Портрет Я.П. Меркулова, петербургского чиновника, знакомого Ге, хвалили «Отечественные записки» – портрет «превосходен по лепке, по полноте натуры и рельефности: многие знатоки ставят его наряду с лучшими произведениями в этом роде». «Художественный Листок» обнаруживал в портрете «познание самых тонкостей анатомии, мастерское воспроизведение красок тела. Все это заслуживает всякого уважения и похвалы, и путь к этому чуть ли не указан г. Зарянко».
Имя художника Зарянко произносят теперь примерно с той же интонацией, как имя поэта Бенедиктова. Но, что делать, по словам современника, «и литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова». Его ставили рядом с Пушкиным. И даже «Жуковский… до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками».
А Зарянко сделал в живописи не меньше, чем Бенедиктов в поэзии. Ге выставил портрет Меркулова в ноябре 1855 года. Зарянко был еще на взлете. Его ценили не только за осязательно выписанные кружева, меха, бархат. Помнили портреты скульптора Ф. Толстого, сановника Танеева. Сравнение с Зарянко, наверно, было лестным. Ге в ту пору не хотел многого. В письме к Анне Петровне (тогда невесте) он сопоставлял работу над картиной «Ахиллес оплакивает смерть Патрокла» и над портретом Меркулова:
«Я сам скажу, что портрет хорош, впрочем, это понятно: сделать портрет гораздо легче. Кроме выполнения ничего не требуется».
Сказано упрощенно, по-молодому заносчиво, без понимания самого себя.
Если бы Ге следовал тому, что сказал, портрет Меркулова стал бы эталоном. Этот портрет – хорошо выделанное изделие. Оно характеризует Ге как умелого ремесленника. Художник должен всегда владеть ремеслом. Зато ремесленник может быть художником лишь до тех пор, пока ищет прием, готовит образец, – потом он переходит к серийному выпуску продукции.
Ге наивно полагал, что всего лишь «выполняет», всего лишь переносит на холст черты оригинала. Он наивно полагал, что так надо, и не думал оправдываться. Но оправдание его в том, что он так и не нашел приема («приемчика»!). Он не умел по одной мерке; хотя и повторяться вроде бы не грех, – он писал портретов много, гораздо больше, чем нам известно.
В наиболее подробном списке портретных работ Ге 1854 годом датируется один портрет; а художник в письме невесте от 29 декабря 1854 года замечает: «Я написал два эскиза по исторической живописи и три портрета – середина между подмалевком и оконченными работами да несколько портретов карандашом».
Разгадывать портреты еще труднее, чем картины. И еще ненужней. Живые черты оригинала, и эти же черты, но уже воспринятые художником, измененные его чувством, его мыслью, его отношением к оригиналу и ко всему миру, внутренняя задача, с которой он, того, быть может, не сознавая, подошел к холсту, – все переплавилось в портрете. Но сплав – не спайка: его не раздерешь на составные части.
Ранние портреты Ге часто разносят по группам: «парадные», «домашние», «романтические». Если бы можно было еще расставить эти группы хронологически – сначала писал парадные портреты (подражал Зарянко), потом – романтические (подражал Брюллову), потом… Очень удобно раскладывать художника по периодам. Он может, например, с каждым периодом подниматься на новую ступень. А может достигнуть вершины в предпоследнем периоде, в конце жизни сделав шаг назад (допустим, под влиянием изменившегося мировоззрения).
Ге очень «неудобный» художник, сортировать его творчество – все равно что переставлять мебель в темной комнате, потом зажигаешь свет и видишь, что все поставил не туда.
Даже ранние портреты не располагаются по системе: «домашний» сменяется «парадным», «парадный» – «романтическим».
Ге говорил – уже в старости:
«Я в своей жизни написал более ста портретов и ни один раз мне не пришлось написать одинаковым способом: каждое лицо особого характера потребовало наново искать способ передать этот характер, а что ежели я еще напомню вам, что эти головы потребовали бы передачу того выражения, которых каждое лицо может иметь неограниченное число и столько же оттенков».
Ге всякий раз наново искал – и не только способ передать характер. Нужно было и себя найти в портретной живописи так же, как в живописи исторической.
В портрете он себя нашел скорее. Когда писал Меркулова, выделывал петельки и пуговки – подражал Зарянко; когда писал женскую голову, изображая Анну Петровну в виде римлянки, взял у Брюллова совершенство пластических форм, но портреты – не зарянковский, не брюлловский: оба портрета – Ге, его, неотъемлемые.
Можно еще не найти свой способ передать характер, но всякий художник истинный, то есть искренний, неизбежно передаст в портрете свое отношение к тому, кого пишет, – иначе у него портрета не выйдет. Портрет всегда в чем-то автопортрет.
Ге маялся, когда пробовал писать «Разрушение Иерусалимского храма»: «Что для меня храм?..» Но когда писал отца, брата, Анну Петровну, друга Меркулова, не спрашивал себя, конечно: «Что для меня он (она)?» Он писал с отношением, тем более что писал – особенно в молодости – обычно знакомых, близких, дорогих людей. Своих.
Герцен, едва Ге закончил его портрет, тотчас начал добиваться портрета Огарева. Он писал сыну: «Вот ты что еще ему скажи – что он бы меня страшно одолжил, сделавши портрет Огарева, когда будет в Женеве». И через две недели – Огареву: «Ге будет на днях в Женеве. Я интригую, чтоб он сделал твой портрет».
Ге не «одолжил» Герцена, из «интриг» не вышло ничего. Возможно, помешали причины внешние (во всяком случае, ими легче всего объяснить дело), но, возможно, были и другие причины. Десять лет назад Ге хотел бежать в Лондон к Герцену, не к Огареву. И во Флоренции он ждал Герцена. И счастлив был оттого, что живет в эпоху Герцена. Для Огарева места не оставалось. Наверно, это несправедливо. Однако огаревского портрета Ге не написал.
Он сам не осознавал поначалу, что делает, работая над портретами. Ему казалось, что он только «выполняет», он не замечал, как себя переплавляет с тем, кого пишет.
В начале 1856 года Ге писал портреты девочек Ани и Нади Мессинг, дочерей своего петербургского знакомого. Портреты девочек Мессинг – неизбежно приводимый пример влияния Брюллова на Ге. Но, коли приглядеться, влияние Брюллова только внешнее. Праздничная нарядность – брюлловская, лепка форм – брюлловская. Но есть в этих девочках нечто такое, чего у Брюллова не было. Они интимны. Они для Ге свои.
Из писем его к невесте узнаем, что он писал Аню и Надю Мессинг, охваченный думами о любимой женщине, о будущем, о собственном семейном счастье и, наверно, о том, что его омрачает, – о ненужных размолвках, нежелании понять другого. Он писал про Мессингов: «Мне там у них хорошо. Эти люди очень счастливо живут, наслаждаются семейным счастьем, и, я, смотря на них, воображаю себя тоже и приятно, и неприятно».
Это перешло в портреты, пока Ге их «выполнял».
Но Ге любит думать широко, объемно, от частных фактов убегает мыслью в общее. Ему мало, что девочки Мессинг – милые, искренние девочки: «Хорошо бы, как бы люди учились у них и перенимали хорошее, эту откровенность и чистоту». Это тоже перешло в портреты.
Ге всю жизнь не любил заказных портретов. Деньги вообще разрушали для него очарование близости с тем, кого он пишет. Герцен это почуял. Он писал сыну, «интригуя» об огаревском портрете: «Узнай стороной у Железнова или Забеллы, или Fri V[1]1
Фрикен. Игра слов: по-французски «пятый», V – quint, произносится «кен». Здесь и далее прим. автора.
[Закрыть], если он согласится на деньги, – цену. Но в последнем будь осторожен – он может обидеться».
В молодости Ге был порой даже слишком интимен с этим стремлением писать с в о и х.
Во Флоренции он познакомился с Михаилом Бакуниным, у них, по словам Ге, установились «добрые, даже сердечные отношения». Ге написал портрет Михаила Бакунина; потом – и его небезызвестных братьев, Александра и Николая. Но, по дошедшим скупым сведениям, с не меньшей охотой написал он портрет другого Бакунина, Александра, вовсе не знаменитого. Про этого Александра Бакунина только и говорится, что в справочнике одесского Ришельевского лицея: он преподавал там в течение года историю правоведения. Из скудных воспоминаний современников узнаем, что этот Бакунин, Александр, бросив правоведение, занимался медициной, потом естественными науками вообще, потом живописью, потом и живопись оставил – и выстрелил себе в сердце из пистолета… Он искал истину. С пулей, чудом застрявшей в груди и не извлеченной, он разгуливал по Флоренции, был отчаянный говорун и спорщик. Ге его любил, почитал своим другом и написал его: у Ге было к этому Бакунину свое отношение.
Он все старался писать людей любимых и писал любя.
В Италии он чаще всего писал жену – Анну Петровну. Одна и с детьми, только голову и в рост. Она ему позировала для апостола Иоанна, а позже, в России, даже для Петра Первого.
Впрочем, апостол Иоанн и царь Петр – это уже переосмысление образа, перевоплощение; для нас же интереснее обобщение, когда Анна Петровна Ге, урожденная Забелло, женщина в общем-то некрасивая, с крупноватыми чертами лица, тяжелым подбородком и лучистыми глазами (наверно, чем-то на толстовскую княжну Марью похожая), вдруг заставляет почувствовать то прекрасное, чем богаты самые прекрасные женщины мира. И все же остается, а может, еще больше становится Анной Петровной. Интересно, как Ге, еще наивно полагая, что воссоздает облик, создавал образ.
В первых вариантах тургеневского «Рудина» главный герой был очень конкретен, очень похож на Бакунина. В редакции «Современника» Тургеневу советовали освободиться, уйти подальше от прототипа. Тургенев послушался, и тогда стало совершаться чудо: образ, теряя конкретность, приобретал достоверность.
У Ге «Жена художника с сыном» – добротный семейный портрет, но это всего лишь Анна Петровна с сыном.
В другой раз Ге написал ее в виде римлянки, даже название замаскированное – «Женская голова», но это пока «Бакунин, переодетый Рудиным». Анна Петровна угадывается без труда. Для неподготовленного зрителя на портрете – просто римлянка, нежная и задумчивая, решительная и страстная.
Наверно, лучший из «догерценовских» портретов – Анна Петровна за чтением. Атрибуты (какая условность!) парадного портрета – просторная комната, кресло, ковер, шкура звериная под ногами, одежда нарядная, но ничего от парадного портрета. Работу часто называют портретом-картиной. Женщина, которая, сидя в кресле, задумалась над книгой, конечно, Анна Петровна – тут ее одухотворенность, но про одухотворенность Анны Петровны знал супруг ее, живописец Ге Николай Николаевич; для нас женщина на портрете сродни Беатриче и пушкинской Татьяне. Художник не скрывает, что пишет любимую женщину и любимую героиню. Солнечный свет, врываясь в распахнутую дверь балкона, пронизывает женскую фигуру, но она как бы светится и изнутри, – свет объединяет частное с общим: гармония человека и природы удивительна. Кресло слегка сдвинуто в сторону: перед взглядом зрителя, властно привлекаемым светлой и светящейся женской фигурой, одновременно, за дверью балкона, открывается даль неоглядная (даль – не фон!). Женщина словно вписана в целый мир. Как ветка Иванова: одна-единственная – и вся вселенная.
Портрет Анны Петровны за чтением написан в 1858 году. Ге еще не нашел себя в «Тайной вечере». Портрет не этапен: парадный овал «Жена художника с сыном» написан годом позже (опять-таки по хронологии схему не выстроишь!), однако портрет за чтением среди поисков молодого Ге целен необыкновенно.
Это вообще один из лучших портретов пятидесятых годов. Но – пятидесятых! Портрет весь в своем времени, хоть и обновлен замыслом, обновлен настроением.
Через три с половиной десятилетия, когда Анна Петровна уже навеки покинет его, Ге снова вернется (а может, и не расставался никогда) к портрету читающей женщины. Этот портрет и сегодня живет, звучит, тревожит. Его принимаешь сразу, непосредственно, не приглядываясь и не оценивая. «Содержание истинное» – никаких очевидных задач, только одна – от сердца к сердцу, – да такой полной мерой, что все сердце до дна. Оттого и «живая форма» – Ге о ней всегда мечтал, а тут живая, как жизнь: она не ощутима. Плоскость, покрытая красками, не замечается. Портрет – окно в мир. Или – внутрь себя.
Прозрачный утренний свет не врывается в комнату, как на портрете Анны Петровны. Солнце, густое, вечернее, позолотило листву сада, сделало ее словно бы тяжелее, ощутимее. Женщина с книгой подошла к окну; она не озарена светом, она в тени, но, вглядываясь в нее, мы ни на минуту не теряем из виду густого и зеленого, залитого солнцем сада; вглядываясь в нее, мы вдруг чувствуем, что словно бы растворяемся в ней. Имя той, что на портрете, – Петрункевич, по мужу Конисская. Какая разница! Чужие имена. А женщина на портрете до последней клеточки – своя. Нет, более того: она – это я, ты, он, – каждый из нас, – и мы все в этом зеленом и солнечном мире.
Но и в итальянскую пору Ге выпало счастье достигнуть этой глубины проникновения в образ. Когда человек на портрете становится, по сути своей, всеобщим, оставаясь личностью. Портрет молодой итальянки в голубой блузе – пример тому. До этого в России знали прекрасных итальянок Брюллова – нежных, заласканных солнцем и немного бездумных. Итальянка на портрете Ге не слишком красива, она умна, взгляд ее напряжен, испытующ и горяч. Такую женщину невозможно написать похожей на брюлловских красавиц, с томной нежностью собирающих виноград и готовых к нетрудной любви. Такая женщина, может быть, собирает маслины – для того, чтобы есть. Нежность и затаенная страстность переплавлены в ней с отвагой, волей и умением решать. Женственность с готовностью вторгаться в события. Такие женщины пляшут на карнавалах, но и перевязывают раны гарибальдийцев. Любят, но и рожают детей – рыбаков, погонщиков мулов, каменотесов, раз в столетие – Данте или Гарибальди. Данте и Гарибальди живут в свое Время. Но Время этих женщин не кончается: их дочери продолжают его.
Ге не оставил нам имени молодой итальянки. Наверно, его и не нужно знать. Наверно, Ге, когда писал портрет, много думал о стране, о народе, с которым десять лет прожил.
Имя молодой итальянки не больше сказало бы нам, чем имя Петрункевич-Конисской.
Чужие имена.
Неизвестный молодой человек, написанный Дюрером, больше говорит о себе и о человечестве, чем иные с детства знакомые исторические лица, многократно и похоже изображенные.
Немного хронологии
Ге писал в воспоминаниях, что Герцен «исполнил эти пять сеансов с немецкой аккуратностью».
И дальше:
«Первый сеанс состоялся, и благодаря этому обстоятельству у меня сохранилось единственное письмо его, которое я сохранил, как драгоценность. Вот оно:
«7 декабря. Суббота, вечер. Почтеннейший Николай Николаевич, сегодня искал ваш дом и не нашел. Доманже взялся доставить записку. Дело в том, что Тата нездорова, а ко мне навязался скучный гость завтра. Позвольте прийти в другой день. Я остаюсь еще неделю, а может, и больше. При сем с почтением русская половина «Колокола».
Весь ваш А. Герцен»
Воспоминания о Герцене Ге заканчивает так:
«Уезжая, он прислал мне с сыном своим А. А. свою книгу, с надписью крепким почерком, карандашом:
«Посылаю вам в знак глубокой благодарности мой экземпляр “Былое и думы”, в знак дружественного сочувствия. 16 февраля 1869 г. Флоренция».
Автограф, судя по всему, датирован ошибочно: надо не 1869 год, а 1867-й. В феврале 1869 года Герцен во Флоренции не жил. Четвертый том «Былого и дум» вышел как раз в конце 1866 года. В январе 1867 года Герцен просит прислать ему во Флоренцию некоторое количество экземпляров нового тома. 10 февраля он помечает в бумагах, что нужно отправить книгу «Былого и дум» М. К. Рейхель. Тут же Пометка: «Книгу Ге». Возможно, в «Северном вестнике»» где печатались воспоминания Ге, опечатка. Вряд ли сам Ге ошибся именно в этой дате: тут п о е г о л о г и к е должен стоять 1867 год.
Воспоминания о встречах с Герценом, написанные художником через четверть века после самих встреч, воспринимаются, несмотря на их отрывочность, нерасшифрованность, как нечто целое, даже сюжетное. Это – от «обрамления», от начала и конца. В самом деле… Нежданно-негаданно отворяется дверь и является Герцен – кумир, мечта. В первый же вечер, едва оправившись от волнения, Ге умоляет его позировать для портрета. Герцен согласен, но какая-то неувязка с первым сеансом – и в руках художника ценнейший документ, записка Герцена. Затем все идет своим чередом: портрет написан, Герцен покидает Флоренцию – «мы простились, расставшись друзьями», – посылает Ге книгу с дарственной надписью (еще один автограф – завершающий) И… «Больше я его не видел, но не забуду никогда».
Старик Ге ошибался – то ли память подвела, то ли чрезмерно заботился о «литературной форме» своих воспоминаний.
По двум датам, которые он приводит, получается, что портрет написан между 7 декабря 1866 года и 16 февраля 1867 года.
Но мы уже знаем, что 7 декабря 1866 года Герцена еще не было во Флоренции – он приехал 18 января 1867 года. Мы уже знаем, что Ге запамятовал историю первого сеанса, знаем, что первый сеанс состоялся 8 февраля 1867 года. Если Ге не ошибся и сеансов было действительно пять, как он писал (а за ним все, кто изучает историю портрета Герцена), то попробуем их примерно датировать.
Сохранилось двадцать пять писем Герцена, написанных в течение того времени, пока Ге работал над его портретом. Из них более половины, тринадцать, одному лицу – Огареву. Если предположить, что Герцен сообщал Огареву что-либо о портрете после каждого очередного сеанса, то хронология работы над портретом будет выглядеть приблизительно так:
8 февраля 1867 года – первый сеанс. Письмо к Огареву подкрепляется письмом к Н.А.Тучковой-Огаревой от 9 февраля: «Известный живописец Ге просил дозволение снять мой портрет «для потомства», как он говорит. Это художник первоклассный – я не должен был отказать. Вчера он начал…»
13 февраля Герцен пишет знаменитое: «Портрет идет «rembrandtisch». Видимо, второй сеанс был в этот день или накануне. В письме к дочери Лизе от 14 февраля Герцен сообщает: «Портрет Дяди»[2]2
Так маленькая Лиза называла Герцена.
[Закрыть], такой большой, Ге сделал или делает отлично». «Rembrandtisch», «сделал или делает отлично» – видимо, работа с первых же сеансов продвинулась очень значительно.
17 ф е в р ал я Герцен пишет о портрете, как о законченном: «Портрет Ге – chef-d'oeuvre. Тата будет его копировать». Сеанс был, видимо, 15 или 16 февраля. 17 февраля Герцен уезжал в Венецию на десять дней. Перед этим отъездом, прерывая сеансы, Герцен и подарил художнику «Былое и думы» с благодарственной надписью, а вовсе не перед окончательной разлукой.
28 февраля Герцен возвратился из Венеции. Он уже торопится покинуть Флоренцию, его задерживает портрет: «Кончу портрет и буду собираться».
Очередной сеанс состоялся, скорее всего, между 1 и 4 марта. Должно быть, об этом сеансе вспоминает Ге: «Вернулся из Венеции, рассказал, как виделся с Гарибальди, которого осаждают все с 4 часов утра, увидел старых друзей при нем…» Между 4 и 7 марта сеансов не было. «Я три дня не существовал, – пишет Герцен 7 марта Н.А. Тучковой-Огаревой, – жар, сонливость, грудь, кашель… Завтра иду окончить портрет…»
8 марта, через месяц после первого сеанса, состоялся последний: «Портрет кончен. Эго – первоклассный chef-d'oeuvre». Ну а как же записка Герцена от 7 декабря, в которой он назначает свидание Ге, – ведь не выдумка? Нет, не выдумка, но только написана она годом позже, чем впоследствии казалось Ге, в суббо-ту[3]3
7 декабря 1866 года приходилось на пятницу.
[Закрыть], 7 декабря 1867 года. И оттого, что годом позже, становится для нас куда интереснее. Записка, датированная декабрем 1867 года, означает, что с завершением портрета отношения Герцена и Ге не прекратились. Через восемь месяцев, оказавшись во Флоренции, Герцен хочет встретиться с Ге, ищет его и, что еще важней, посылает ему «русскую половину «Колокола», а говоря точнее – «Русское прибавление к «Колоколу», которое, хоть и имело дату «1 января 1868 г.», было на саамом деле отпечатано 5–6 декабря 1867 года. Надо думать, не случайно Герцен передает Ге первый номер «русской половины». Письма Герцена свидетельствуют, что он хотел, чтобы Ге получал его издания. Через год, в ноябре 1868 года, он просит сына, чтобы тот «раздал всем» последний номер «Колокола». И тут же спрашивает: «Кстати, не прислать ли «Полярную звезду» Забелло, Ге и Железнову? Прежние ли у них адресы?»
Говоря о присылке своих изданий, Герцен почти неизменно упоминает всех троих – Ге, Забелло и Железнова. Видимо, из русских художников он сошелся с этими тремя всего ближе. И надолго. Зимой 1869 года Герцен снова беспокоится, прислана ли «Полярная звезда» для Ге, Железнова, Забеллы.
Близость с Герценом была не безопасной. Ге недаром вспоминает: «Каждый раз я его провожал, когда он уходил от нас. Он был так деликатен, что заметил мне, что я не боюсь ходить с ним. Я его успокоил тем, что мне нечего бояться: политикой я не занимаюсь, а дорожить тем, что мне дорого, я свободен».
Пармен Забелло тоже как будто не занимался политикой, однако агент Третьего отделения во Флоренции Бутковский донес, что скульптор выходил с Герценом из его квартиры. Было предписано при возвращении Забелло в Россию «произвести у него на границе строгий обыск и по результатам последнего поступить».
На книге «Былого и дум», подаренной Ге в феврале 1867 года, Герцен написал – «в знак дружественного сочувствия».
Слово «сочувствие» сто лет назад означало не столько «сострадание», сколько «сопереживание» и даже «единомыслие». В словаре Даля читаем: «Сочувствовать – чувствовать согласно, сообща, заодно; понимать, мыслить одинаково…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































