Текст книги "Обелиск (сборник)"
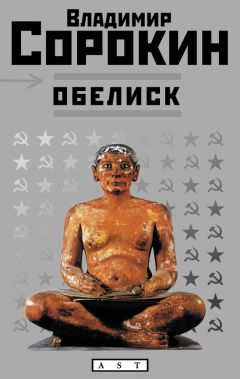
Автор книги: Владимир Сорокин
Жанр: Контркультура, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Первый субботник
– Ну вот, – Саламатин подошел к рассевшейся на плитах бригаде, – нам, ребят, листья сгребать.
Рабочие зашевелились, поднимаясь:
– Во, это по мне…
– Нормально, Егорыч.
– Небось Зинку ублажил, вот и работу полегче дала…
– А где сгребать будем?
Саламатин достал из широких брюк пачку «Беломора»:
– От проходной и выше.
– Так там много. С полкилометра.
– А ты как думал… Давайте, мужики, в девятый за граблями. Там и грабли и рукавицы. Или кто-нибудь пусть сходит, что всем переться.
– Мы с Серегой сходим. – Ткаченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. – Сходим, Серег?
– Сходим, конечно… дай закурить, Егорыч. – Зигунов потянулся к пачке.
Саламатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял:
– Значит, сходите. Не обсчитайтесь только. Четырнадцать грабель. И рукавиц четырнадцать пар. А вот и новичок бежит… Пятнадцать грабель и пятнадцать пар.
Мишка перелез через штабель труб, побежал по плитам.
– Ты чего опаздываешь? – улыбнулся Саламатин, закуривая. – Идите, ребята, идите…
Мишка подбежал к нему, громко выдохнул:
– Фууу… запыхался… доброе утро… Вадим Егорыч…
– Доброе утро. Что, будильник подвел?
– Да нет, поезд пропустил свой… фууу… сильно опоздал?
– Нет. Ничего.
– Доброе утро! – Мишка повернулся к рабочим.
– Здорово.
– Доброе утро…
– Чего опаздываешь?
– Перезанимался вчера небось, заочник?
– Егорыч, ну мы пошли, чего тут толкаться…
– Идите. Я догоню щас… – махнул рукой Саламатин. – Застегни куртку, не лето все-таки.
Часто дышащий Мишка стал застегивать молнию.
Саламатин отодвинул рукав ватника, посмотрел на часы:
– Четверть девятого. Все не начнем никак.
– А что делать будем?
– Листья сгребать. С газонов у проходной.
– На свежем воздухе… хорошо…
– Конечно… так… Прохорова нет… ну ладно. Ждать больше не будем… пошли, Миш.
Они зашагали к проходной, вслед за бригадой.
Саламатин зевнул, выпустил дым:
– А ты что так оделся чисто? Прямо как на парад.
Мишка пожал плечами:
– Ну а что. Ничего особенного.
– Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка.
– Обыкновенная.
Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы:
– Да… вот что значит – новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег…
Подошли к проходной.
Одетый в черную форму вахтер запирал ворота.
– Семеныч, выпусти нас! – весело крикнул Саламатин.
– Идите через вертушку. Я уж запирать за вами устал. Щас только твои проползли.
– Егорыч! – раздалось сзади. – Помоги!
Мишка и бригадир обернулись.
Ткаченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы.
– А вы что, пупы надорвали? – шагнул к ним бригадир.
Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц.
Саламатин протянул руку к граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился:
– Да шучу, Егорыч. Чего тут нести.
– Все хорошие? Ломаных нет?
– Нет, нет…
– Ну, иди вперед.
Бригадир пропустил Ткаченко.
По очереди прошли через поскрипывающую вертушку.
На улице ждала бригада.
– Во, Сашок самые новенькие выбрал…
– Семейный, сразу сообразил.
Ткаченко снял грабли с плеч:
– Разбирайте…
Мишка стал раздавать рукавицы.
Творогов постучал граблями по асфальту:
– Нормально… Такими и целину пахать можно…
– Откуда начинать, Егорыч?
Саламатин огляделся, махнул рукой на левый газон:
– Вот наш.
– А правый?
– А тут насосники будут убирать.
– Ясно…
Усеянный опавшей листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки слегка шевелились. Разобравши грабли и надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Саламатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже:
– Гвоздика нет.
– Что? Какого? – повернулся к нему бригадир.
– Да тут вот… крепить где грабли…
– Ну и ничего страшного… дай-ка. – Бригадир взял у него грабли, потрогал. – Насажены нормально. И без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче, и не отвалятся… пошли…
Они двинулись за бригадой.
Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо:
– Да… первый субботник…
– Как – первый?
– Да так. Первый субботник мой.
– Серьезно? – удивленно посмотрел на него Саламатин.
– Ага. Ну, не первый, конечно… в школе были субботники…
– Ну, так это другое дело. В школе ты учеником был, а тут – пролетарий. Значит, действительно – первый! Здорово!
Саламатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим:
– Слышь, ребят! У Мишки сегодня первый субботник! Каково?
– Поздравляем.
– Бутылка с тебя, Миш!
– Нормально…
– Ты тогда сегодня должен по-ударному работать, за всех.
– Чудеса… первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был…
Саламатин положил руку Мишке на плечо:
– Да… вообще-то это событие. Надо было б как-нибудь через профком поздравить тебя…
– Да что вы, Вадим Егорыч…
– Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, и так… первый субботник… Эй, ребят! – крикнул он рабочим. – Начинайте отсюда! Прям в кучи сгребайте к кромке, и порядок…
Рабочие разошлись по газону, стали сгребать листья.
Саламатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из-под ватника шарф:
– А я вот помню свой первый субботник…
– Правда?
– Помню. Только война началась. Как раз сорок первый год. Июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. В фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была – двенадцать часов! Не то что сейчас. И работали по-другому совсем. С сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали, вот… и как работали… разве сравнишь с теперешними работничками…
Он вздохнул и побрел к бригаде.
Мишка заспешил следом.
Бригадир встал рядом с Зигуновым, нагнулся и поднял ржавую консервную банку:
– Вот. Это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем… а потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда, вся природа загажена…
Он кинул банку на кучу листвы.
Мишка принялся грести от кромки газона.
Бригада работала молча.
Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, тряхнул головой:
– Ой… что-то… щас вот…
Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы.
Сотсков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче.
Ткаченко наставил на Сотскова тонкий палец:
– Артиллерия… пли…
И лаконично пукнул.
Салазкин и Мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно.
Творогов наклонился сильнее, лицо его напряглось:
– Оп-ля… оп-ля… оп-ля…
Он слабо пукнул три раза.
Сохненко поднял обутую в резиновый сапог ногу:
– Ну-ка… по изменникам Родины…
Но пукнул слабо.
Саламатин удивленно качнул головой:
– Еп твою… ни хуя себе… это что ж такое? Что, все сразу? В честь чего это?
Зигунов пожал плечами:
– Как – в честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра. Теперь за тобой очередь, Егорыч…
Улыбаясь, рабочие смотрели на него:
– Давай, ветеран, по-ударному…
– И ты, Миш, не отставай.
– Давай, чего стоишь. Не отрывайся от коллектива.
– Честь бригадирскую не роняй, орденоносец…
– Давай, давай, Егорыч… все ведь на тебя равняются…
Саламатин почесал висок, засмеялся:
– Ну, раз такое дело…
Он слегка нагнулся, закряхтел. Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но – слабо, еле слышно.
– Ну, Михаил, слабовато…
– Ничего, у него юбилей сегодня… простительно…
Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль, руки вцепились в колени. Полные губы бригадира сжались, под бронзовой кожей на скулах заходили желваки, седые брови сурово сдвинулись.
Он еле слышно застонал, наклонил голову.
Затаив дыхание, бригада смотрела на него.
Раздался громкий хлопок и сочный раскатистый треск.
Рабочие молча зааплодировали.
Саламатин снял кепку и поклонился.
В Доме офицеров
Костенко вздохнул, убежденно потряс седой, крепко посаженной головой:
– Нет, Саша. Время тут ни при чем. Время – песок. Не в нем дело…
– А в чем же, Петь? – Низкорослый Бородин подошел к левому стенду. – Что ж ты думаешь, о нас вечно помнить будут?
– Ну, вечно не вечно… это не нам судить. – Костенко захромал вдоль стендов, висевшие на его мешковатом кителе медали тихо позвякивали. – В конце концов мы же не за себя воевали. Не свои шкуры спасали.
– А вот это ты зря. При чем тут шкуры? Каждый жить хочет.
– Правильно. Но ты же там, под Сталинградом, за спиной-то за своей ведь не только свою жизнь чувствовал.
– Конечно. – Бородин разглядывал фотографии военных лет. – Но и свою тоже.
Костенко сощурился, посмотрел на него и улыбнулся:
– А я вот, знаешь, – нет! Не чувствовал!
– Не ври.
– Вот как на духу! Сначала под Смоленском было немного, когда впервые немца увидел, танки, огонь. А потом, под Сталинградом – нет! За себя не боялся. Сперва семью помнил, а после в груди что-то отпустило и будто свободней стало. И сразу страх ушел. Семья на второй план ушла.
– А на первом что было?
– На первом… – Костенко потер переносицу. – Знаешь, это трудно объяснить…
– Что – трудно?
– Я когда добровольцем пошел, нас тогда с Киевского отправляли. Ну, толчея, понятное дело. Народ провожает. Маша с отцом была. Мать-то в Астрахани тогда оказалась. Вот. Простились. Они поплакали. И вот поезд, понимаешь, трогается, я на подножку влез, там уж гроздьями висят такие, как я, бритоголовые. Мальчишки такие же. Влез, оглянулся, и вот, знаешь… вот что-то здесь… – он приложил левую руку к кителю, накрыв два ордена Красной Звезды, – что-то всплыло…
– Жалко стало?
– Да нет. Не то. Я до этих нежностей телячьих не очень был. У нас в семье мужики суровые были, деловые. А вот там, на вокзале… оглянулся и вижу – бегут. И все – бабы, бабы, бабы. Бегут и смотрят. На нас. И будто ждут ответа какого-то. Бегут и смотрят. И молча все, молча…
Он помолчал, потом повернулся к Бородину:
– Так вот, Саша, я всю войну этих баб помнил. Чувствовал. И под Сталинградом, и под Киевом, и под Варшавой. И бывало, как чуть сробею, – так сразу они. Как живые. Тут как тут. И бегут и смотрят. Я, может, поэтому только и выжил, что вот они так всю войну смотрели на меня. Ответа требовали…
Бородин закивал:
– Ясно. А у меня как, бывало, бомбежка глухая или через Днепр переправлялись когда, деревенька наша мерещилась. И знаешь, не то чтоб праздник какой или что, а вот словно утром. Утро такое летнее, тишина, и дымы кверху от изб тянутся. И небо синее-синее такое. И липа цветет…
– А ты разве не в Оренбурге вырос?
– В Оренбург мы в тридцать восьмом переехали. Мальцом-то я на Рязанщине рос.
– Понятно… А я в деревне редко бывал…
– Ну, ты у нас городской человек. – Бородин похлопал его по руке и показал на стенд. – Вон она, артиллерия, бог войны.
– Да… мощные гаубицы.
– А главное – стволы-то коротенькие, а бьет будь здоров.
– А вон шмайсер штурмовой у немца.
– У штурмовых вроде калибр поболе был?
– Да… вон, воронка какая…
– Бомба, наверно.
– Наверно… Снаряд такую не вспашет…
Постояли возле стенда, посвященного битве за Москву.
Костенко захромал к двери, махнул рукой:
– Пошли, я тебе Ленинскую комнату покажу.
Бородин бодро зашагал следом:
– Ты, я вижу, тут прям как дома.
– А что ж. Куда фронтовику податься. В военкомате с молодежью беседую да тут…
Они вышли в коридор.
Костенко хромал впереди, его седая, коротко подстриженная голова плавно покачивалась, медали тихо позвякивали:
– Щас-то еще рановато… сорок минут до сбора… видишь, нет никого… но ты молодец… пораньше пришел… щас все ребята соберутся… Кононов… Хлустов, Иващенко… помнишь Иващенко Петю?
– Это из третьей роты, что ль?
– Да. Младший лейтенант. Рыженький такой.
– Его под Харьковом ранило, кажется, да?
– Да, да. Он нас догонял потом…
– Петь, а Коля Золотарев жив?
– Нет. Помер лет десять назад.
– Жаль…
– Жаль, конечно. Веселый парень был. И умер рано.
– Веселый. Это я помню.
Прошли коридор, Костенко распахнул обитую коричневым дверь:
– Входи…
Бородин вошел, огляделся.
Посередине светлой просторной комнаты стояли несколько новеньких столов, вдоль стен теснились шкафы с книгами, в правом углу возвышался белый бюст Ленина, с корзиной цветов у подножия, а рядом с ним в узком стеклянном ящике покоилось полинявшее, местами пробитое знамя.
Бородин подошел к ящику, наклонился:
– Петь… погоди-ка… так это что… нашего полка?
– Нашего, нашего, Саша, – тряхнул головой Костенко, – то самое.
– Быть не может…
– Может, Саша. Все может.
– Но как же удалось? Они ж все небось в дивизии должны быть на хранении? Это же невозможно…
Костенко подошел к нему, положил руку на плечо:
– А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь тянул с Серегой Жогленко? Вас тогда добрых десять пулеметов поливали, и видно было как на ладони, я тогда все губы пообкусал, глядя на вас. Тоже казалось – невозможно! А вот смогли ведь? Смогли! Потому как хотели! Хотели! И смогли.
– Ну, так это другое дело, Петя…
– Нет, Саша, дело у нас везде одно! Только захотеть надо. Очень захотеть. Я вот захотел. И вот – знамя перед тобою. Наше знамя.
– Да. Мощный ты человек, Петь.
– Фронтовой я человек, если точнее! – засмеялся Костенко.
Бородин разглядывал знамя через стекло:
– Господи, неуж оно самое?
– Оно, оно.
– Его все этот сержант носил, высокий такой. Вот бы с кем встретиться.
– Нет. Этого я и не видел после.
– А Семенова видел?
– Нет.
– А Саню Круглова?
– Тоже нет что-то. Евстифеева видел, Круглова нет.
– А Люську-переводчицу не встречал?
– Нет. Она, говорят, на юге где-то живет. В Новороссийске, кажется…
Бородин покачал головой:
– Знамя! Надо же… вот не ожидал… пробитое… вон пробито как… хватило ему осколков…
– Всем хватило. И людям и материи. У меня четыре вынули, а один так и застрял в лопатке. Боятся вынимать. Позвоночник близко.
– А у меня из ноги еще в сорок шестом выковыряли. Два года носил гада. Колючий такой, прям как еж. Щас как к дождю – болит нога.
– Зато у меня нечему болеть, Саш. – Костенко, улыбаясь, топнул протезом.
– Ну, ты бегаешь, я скажу! Почище молодого. С ногами не догнать.
– Так я и до войны дома не сидел. Комсомолил вовсю. Мне недавно протез предлагали какой-то импортный. С шарнирами, с ботинками. А я вот из принципа носить не буду! Пусть железка торчит, пусть все видят, чего стесняться. Может, кое-кто и задумается и вспомнит, что надо вечно помнить.
– Правильно.
– А главное – привык к ней. Как нога стала. И не скользит совсем. Вот пироги какие… Саш, а отчего ты китель не надел?
Бородин засмеялся:
– Так он же старый весь. Молью поеденный.
– Не сберег?
– Да после войны кто ж китель бережет? В шкаф запихнули, а после на антресоли.
– А у меня Дуня сберегла. Нафталином сыпала, чуть не перчила. Вот, видишь? Вроде б ничего, а?
Костенко слегка приподнял руки и посмотрел себе на грудь.
– Как новенький, Петь. И ты молодцом.
– Стараемся, стараемся, Саш.
Из-под шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина, выскочила крохотная серая мышь, обогнула ножки стола и заспешила к полуоткрытой двери.
Костенко шагнул ей навстречу, поднял протез:
– Сука…
Мышь шарахнулась было назад, но потертый металлический наконечник с хрустом раздавил ее.
– Расплодились, гады… пакость какая…
Костенко оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урне. Медали звенели от каждого прыжка, воротник кителя, топорщась, наползал на толстую шею.
– Ведь предлагал весной полы перебрать. Не послушались…
Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну, счистил о край окровавленные ошметки.
Бородин посмотрел на оставшееся пятно:
– Маленькая какая мышь-то…
– Маленькая?! – грозно ухмыльнулся Костенко, топая протезом по полу. – Тут, ебен мать, такие маленькие попадаются – охуеешь, смотревши! Эта исключение какое-то. Мелюзга подпольная. А то – во, бля, шушеры какие!
В упор глядя в глаза Бородина, он развел руки на ширину своей груди.
Бородин посмотрел и серьезно кивнул головой.
Санькина любовь
Всеволоду Некрасову
Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль:
– Сань, а Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный, а ты, Сань, говорит, кончил сам недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится. Так и передал…
Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул:
– Да я бы все равно пошел завтра. И без его отказа. Он им прошлый раз про дизель такого натрепал – никто не понял ничего. Заново объяснять пришлось. Пусть уж лучше со своими корешами у магазина толчется…
Валерка усмехнулся, отталкиваясь ногой от земли.
Санька встал с лавочки:
– Передай ему, что он лодырь и дурак. Хоть и семейный.
Валерка засмеялся и покатил по дороге.
Санька спрыгнул с крыльца.
Лежащая на траве Найда вскочила и, повиливая длинным черным хвостом, подбежала к нему.
– Пошла! Пошла отсюда!
Он шлепнул себя по коленке.
Поскуливая, собака отскочила.
Санька пробрался через палисадник, повернул щеколду двери сарая, отворил.
Фонарик лежал на полке между рубанком и банкой с гвоздями. Санька взял его, сунул в карман брюк. Наклонившись, нашарил справа в углу початую бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой, вытащил пробку, глотнул.
Водка обожгла рот.
Он сплюнул, заткнул бутылку, сунул в карман и оглянулся. Солнце давно село за утонувшую в ракитах хату Потаевых, оба стада прогнали. Еле заметный туман сползал в балку, размывая темные силуэты бань и погребков. На той стороне паслась стреноженная лошадь Егора.
Санька взял лопату, перелез через прясла и неторопливо пошел по огородам. Картофельная ботва, чуть тронутая росой, шуршала о его брюки. Впереди выпорхнул витютень и стремительно полетел прочь. Санька перехватил лопату у черенка и понес, волоча ручку по ботве.
Вскоре огороды сменились широким полем люпина.
Сзади, со стороны деревни, послышалась танцевальная музыка. Санька обернулся. Отсюда, с холмистого поля, было видно, как в приземистом клубе зажглись окна.
Он сплюнул и быстро пошел, подхватив лопату под мышку.
Высокое, подпаленное алым с запада, небо было чисто, звезды слабо поблескивали над Санькиной головой. Впереди темнел лес. Пахло выгоревшим на солнце люпином, который нещадно хрустел и пылил под Санькиными ботинками.
Санька остановился, достал бутылку, отхлебнул:
– Горькота-то…
Вдалеке по дороге из леса поехал трактор с зажженными фарами.
Санька спрятал бутылку, вытащил пачку папирос, закурил. Поле уже кончалось, и начиналось мелколесье.
Трактор спустился в лог. Звук его стал слабым и вскоре пропал. Покуривая, Санька вошел в мелколесье. Оно сплошь поросло кустарником, некошеная трава доходила до пояса.
– Я-то ведь и не виноватый, – пробормотал он, продираясь сквозь траву, – что ж мне теперь…
Задев за ствол молодой березки, лопата выскользнула из его рук. Он нагнулся, поднял ее и положил на плечо. Справа показалась дорога. Санька вышел на нее, оглянулся.
Деревья смутно вырисовывались в темноте, в избах горели окна. В клубе играла музыка.
– Сами на эту работу ее подначили, гады…
Он быстро зашагал по дороге.
Впереди, посреди поля высилась роща разросшихся кладбищенских берез.
– Гады…
Санькин голос дрогнул.
Дорога была забита мягкой пылью, ботинки месили ее.
– И опять же… ну почему не в библиотеке? Почему?!
Он с силой тюкнул лопатой по дороге и поволок ее за собой.
Красной мигающей точкой пополз по небу самолет.
Дорога сворачивала вправо, но Санька сошел с нее и по заросшей травой тропинке зашагал к кладбищу. Гнилой забор, местами упавший, огораживал толстые, тесно стоящие березы. Бурьян и трава росли вокруг.
Санька подошел к двум покосившимся столбам, означающим ворота, оглянулся. В поле не было ни души. Только слабо играла музыка в скрывшейся за мелколесьем деревне.
Он вошел на кладбище, косясь по сторонам, двинулся меж могилами. Здесь пахло древесной прелью и ромашкой. Березы слабо шуршали над головой.
Обойдя четыре огороженные могилы, Санька переступил через березовый комель и остановился, сложив руки на ручке лопаты:
– Вот…
Перед ним возвышался продолговатый холмик, обложенный искусственными венками и цветами.
Он достал фонарик и посветил.
Сверху в мешанине бумажных цветов лежала простая металлическая дощечка.
На ней было торопливо выгравировано:
СОТНИКОВА
Наталья Алексеевна
18.1.1964 – 9.6.1982
Санька включил фонарик, достал бутылку, отхлебнул.
Что-то зашуршало возле обросшей травой изгороди. Посветив туда фонариком, он поднял кусок земли, кинул. Шуршание прекратилось.
Он опустился на колени, потрогал дощечку, шмыгнул носом:
– Вот и я, Наташ… здравствуй…
Какая-то птица пролетела над кладбищем, рассекая ночной воздух быстрыми крыльями.
– Я, Наташ… я это…
Санька помолчал и вдруг заплакал, ткнувшись носом в холодную дощечку.
– Ната… шенька… Ната… шень… кааа…
Фонарик вывалился из его рук.
– Ната… шааа… Ната… шенька…
Бумажные цветы слабо шуршали в темноте от прикосновения его дрожащих пальцев.
Он долго плакал, бормоча что-то под нос.
Потом, успокоившись, вытер рукавом лицо, высморкался в кулак. Достав бутылку, отхлебнул, поставил ее рядом с могилой и выпрямился:
– Вот… значит…
Постояв немного, Санька стал быстро снимать венки с могилы и класть их неподалеку.
– Щас… Наташенька… щас… милая…
Кончив с венками, он смахнул вялые цветы. Под ними на земляном холмике лежала горсть засохшей кутьи, кусочки хлеба и несколько конфет.
Санька взял лопату и принялся сваливать холмик на сторону.
– Щас… щас… Наташ…
Земля была сухой и легкой.
Свалив холмик, Санька поплевал на ладони и принялся быстро копать.
Молодой месяц еле-еле освещал кладбище, густая листва сонно шевелилась над Санькой. Он умело копал, отбрасывая землю влево, лопата мелькала в его руках.
Минут через пятнадцать он уже стоял по пояс в яме, расширяя ее края до прежних.
– Дождь хоть не был за месяц… хорошо…
Санька выпрямился, тяжело дыша. Постояв, снял с себя пропотевшую рубаху, кинул на поблескивающую бутылку:
– Тах-то ловчей…
Поплевав на ладони, снова принялся за работу.
Сухая, слабо утрамбованная земля податливо впускала в себя лопату, вылетала из ямы и почти без шороха ссыпалась по склонам образовавшегося рядом холма.
Яма углублялась, холм рос с каждой минутой.
Вскоре его край дополз до ямы, и Саньке пришлось вылезать и отбрасывать землю. Голая мускулистая спина его блестела от пота, волосы слиплись на лбу. Отбросав землю, он достал папиросы, сел и закурил, свесив ноги в яму.
Прохладный ветерок шелестел листвой берез, качал кусты и высокую выгоревшую траву. Со стороны деревни по-прежнему доносилась музыка.
– Танцуют, бля… – зло пробормотал Санька и сильно затянулся, отчего папироса затрещала и осветила его лицо. – Как танцевали, так и танцуют… хули им…
Невидимый дым попал ему в глаз, заставив сморщиться и закряхтеть:
– Ептэ… ой… Наташенька…
Он посмотрел в черную яму, вздохнул.
– У меня ведь душа давно болела… вот и вышло…
Руки его зашарили на голой груди:
– Гады… и не написали… не написали даже… суки…
– Отшвырнув папиросу, он спрыгнул в яму и стал рыть дальше. Внизу земля оставалась такой же теплой и рыхлой. Сладковато пахло корнями и перегноем.
Через полчаса, когда Санька ушел в яму по плечи, землю стало выбрасывать трудней. Лопата мелькала реже, Санька часто останавливался, отдыхал. Холм выброшенной земли снова надвинулся.
Вскоре лопата глухо стукнула по крышке гроба.
– Вот…
Санька стал лихорадочно выбрасывать землю, часть которой вновь осыпалась вниз.
– Вот… господи… вот… Наташенька…
Дрожащий голос его глухо звучал в яме.
Откопав на ощупь гроб, который прогибался и потрескивал под его ногами, он с трудом выбрался наверх, взял фонарик и сполз в яму.
– Вот… вот…
Он зажег фонарик.
Обитый черно-красным гроб наполовину выглядывал из земли.
Положив фонарик в угол, Санька быстро выбросил мешавшую землю. Потом подергал крышку. Она была приколочена. Размахнувшись, он вогнал острую лопату в нее.
– Вот… они ж забили тебя… гады… щас, щас…
Налег на ручку лопаты. Крышка громко затрещала, но не поддалась.
Выдернув лопату, Санька принялся сдирать с крышки черный коленкор.
– Наташенька… любушка моя… законопатили… суки рваные…
Содрав непрочную материю, он посветил фонариком, потом, наклонив гроб, сунул лопату в щель, налег.
Стенки ямы мешали, ручка лопаты задевала о них, осыпая землю.
Санька наклонил гроб сильнее. Крышка затрещала и отошла слегка. Отшвырнув лопату, он уцепился за крышку, потянул. С треском она стала отходить от гроба. Из щели хлынула спертая вонь.
Санька просунул ногу в расширяющийся проем, уперся, дернул и оторвал крышку. Удушливый запах гниющего тела заполнил яму, заставив Саньку на мгновение оторопеть. Он выкинул крышку наверх, выровнял накренившийся гроб и склонился над ним.
В гробу лежал труп молодой девушки, по грудь закрытый простыней. Голова с белым венчиком на лбу была слегка повернута набок, руки лежали на груди.
Санька посветил фонариком.
Несколько юрких мокриц, блошек и жучков, облепивших руки, лицо и синий жакет трупа, бросились прочь от света, полезли в складки одежды, за плечи и за голову.
Санька склонился ниже, жадно всматриваясь в лицо мертвеца.
– Наташа, Наташенька…
Крупный выпуклый лоб, широкие скулы и сильно заострившийся нос были обтянуты коричневато-зеленой кожей. Почерневшие губы застыли в полуулыбке. В темно-синих глазницах вяло шевелились черви.
– Наташа… Наташенька… господи… загнила-то… загнила-то как…
Фонарик задрожал в Санькиной руке.
– За месяц… за месяц… Наташенька… любушка…
Он снова заплакал.
– Я ведь… я ведь… это… я… ведь… Наташ… господи… угораздило тебя… а я вот… я вот… люблю тебя…
Санька зарыдал, трясясь и роняя слезы на синий заплесневелый жакет.
– И это… и это… Наташ… я ведь завсегда тебя любил… завсегда… а Петька гад… я ведь отговаривал… работа эта… чертова… гады… сра…ные… я ферму эту хуеву… спалю… спа…лю… бля… к ебе…ни… ма…тери…
Луч фонарика плясал по стенкам ямы.
– А я ведь… тогда и не знал… сволочи… и не написали… а приехал… и… и… не поверил… а теперя… а теперя… а… те…перя… я вот это… это… это! Наташенька!
Он зарыдал с новой силой, потные плечи его тряслись.
– Это они все… они все… га…ды… бля… суууки… а этого… а этого… бригадира я, бля, убью… бля… сука хуев…
Сверху посыпалась земля.
– Они ведь это… это ведь… а я тебя люблю. А с Зинкой у меня и не было ничего… ничего… а тебя я люблю… люблю… ми…лая… милая… милая!
Санька рыдал, вцепившись в край гроба. Брошенная под ноги лопата больно резала колено. Запах гниющей плоти, смешанный с запахом потного Санькиного тела, заполнил могилу.
Нарыдавшись, Санька вытер лицо руками, взял фонарик, посветил в лицо трупа.
– Наташ… я ведь и вправду не мог. Они мне письма не прислали. А я там был. Там. А тут приехал, и говорят: Наташку током убило. Я прям и не поверил. И не верю я. Наташ. А, Наташ? Наташ! Наташка!
Он потряс гроб.
– Наташ. Ну Наташенька. Ну это я – Сашка. Слышишь? А?! Слышишь?!
Он замолчал, вглядываясь в ее лицо.
В яме стояла глухая тишина.
– Наташ. Ну ведь не видит никто. Наташк! На-ташк! Слышь?! Это я, Санька!
Из почерневшей ноздри мертвеца выползла маленькая многоножка и, быстро пробежав по губам, сорвалась за отворот жакета.
Санька вздохнул, поколупал ногтем обтянутую доску:
– Наташ. Я это. Просто я вот не понимаю ничего. Как так получилось?! На танцы ходили, помнишь?! А тут – вообще… хуйня какая-то. Чего-то не понимаю… а там опять танцы. И хоть бы хуй всем… танцуют… А, Наташ? Наташ? Наташ!
Труп не откликался.
Санька осторожно снял белую материю. Под ней была синяя юбка и Наташины ноги, обутые в черные лакированные туфли.
Санька выпрямился, положил фонарик на край ямы и, подпрыгнув, выбрался сам.
Наверху было свежо и прохладно. Ветер стих, березы стояли неподвижно. Небо потемнело, звезды горели ярче. Музыка больше не слышалась.
Санька приподнял рубашку, взял бутылку, откупорил и глотнул дважды. Потом еще раз. Водки осталось совсем немного.
Он подошел к краю ямы, поднял фонарик и посветил вниз.
Наташа неподвижно лежала в гробу, вытянув стройные ноги. Отсюда казалось, что она улыбается во весь рот и внимательно смотрит на Саньку.
Он почесал грудь, оглянулся по сторонам. Постояв немного, взял бутылку и сполз в яму.
Несколько земляных комьев упали на грудь Наташи. Санька снял их, пристроил бутылку в углу и склонился над трупом:
– Наташ… ты это… я тут… это…
Он облизал пересохшие губы и зашептал:
– Наташенька… я ведь тебя люблю… люблю… я щас…
Он стал снимать с нее жакет. С него посыпались редкие насекомые.
– Сволочи, бля… – пробормотал Санька.
Разорвав жакет в руках, он содрал его с окостеневшего трупа.
Потом разорвал и снял юбку.
Внизу была заплесневелая ночная рубашка.
Санька разодрал ее и выпрямился, осветив бледное тело.
От шеи до низа живота по нему тянулся длинный разрез, перехваченный поперек частыми нитками. В разрезе копошились черви. Грудь казалась не по-женски плоской. В пупке свилась мокрица. Темный пах выделялся на фоне бледно-синего тела.
Санька взялся за покрытую пятнами ногу, потянул.
Она не поддавалась.
Он потянул сильнее, упершись в гроб и ткнувшись спиной в стенку ямы. Что-то затрещало в животе трупа, и нога отошла.
Санька зашел справа и потянул за другую.
Она поддалась свободно.
Санька выпрямился.
Наташа лежала перед ним, растопырив ноги.
Он опустился на колени и стал трогать ее пах.
– Вот… милая моя… вот…
Пах был холодным и жестким. Санька стал водить по нему пальцем. Неожиданно палец провалился куда-то. Санька вытащил его, посветил. Палец был в мутно-зеленой слизи. Два крохотных червячка прилипли к нему и яростно шевелились.
Санька вытер палец о штаны, схватил бутылку и вылил водку на пах:
– Вот… чтоб это…
Потом быстро накрыл верхнюю часть трупа белой материей, приспустил штаны и лег на труп.
– Милая… Наташенька… вот так… вот… Он стал двигаться.
Член тяжело скользил в чем-то холодном и липком.
– Вот… Наташенька… вот… вот… – шептал Санька, сжимая плечи трупа. – Так… вот… вот… вот…
Через пару минут он закряхтел, заерзал и замер в изнеможении:
– Ой, бля…
Полежав немного на накрытом трупе, Санька медленно встал, посветил на свой член. Коричневато-зеленая слизь на нем перемешивалась с мутно-белой спермой.
Санька вытер его простыней, натянул штаны.
Выкинув наверх лопату, с трудом выбрался сам. Наверху он отдышался и покурил, бродя по кладбищу. Потом бросил в яму крышку гроба, взял лопату и стал сбрасывать землю.
В деревню он вернулся в четвертом часу. Когда стал перелезать через прясла, спавшая во дворе Найда залаяла, побежала в огород.
– Свои, – проговорил Санька, и собака, радостно заскулив, бросилась к нему. – Свои, свои, псюша… – Он потрепал ее, прошел к сараю и поставил лопату на место.
Собака юлила вокруг, шурша травой, задевая за его ноги теплым телом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































