Текст книги "Ночь после выпуска (сборник)"
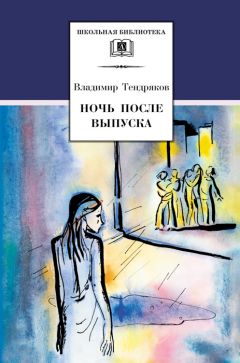
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, – сказал отец.
Дюшка поднялся, подошел к Богатову:
– Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я дам.
– Хороший у вас сын, Федор Андреевич.
– Минька лучше меня, – убежденно возразил Дюшка.
Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:
– Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца – и лезь в будку. А то ходишь, шаришь, себя ищешь…
Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым – сразу, не сходя с места.
Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:
– Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.
Но мать пришла раньше.
Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.
Он выскользнул из-под одеяла:
– Мама!
Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.
– Мама! Как?..
У матери бледное и томное лицо – обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.
– Как, мама?
– Все хорошо, сынок. Опасности нет.
– А была опасность?
– Была.
– Очень большая?
– Бывает и больше… Где отец?
– Он уехал, мам. Еще вечером.
– Куда это?
– Не знаю.
Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:
– Опять у него какую-то запань прорвало.
– Не говорил, мам. Не прорвало.
Мать загляделась на большой кран.
– Тебе нравится, когда тебя хвалят? – спросила она.
– Да, мам.
– Мне тоже, Дюшка… Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня… и погладил по голове.
– Ты же не маленькая, мам.
– Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.
Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:
– Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой наваляется.
О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.
По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.
Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.
– Вот! Держи! – Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.
Мать заглянула под бумагу – и порозовела.
– Откуда?
А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.
– Откуда?..
– Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере…
– Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.
– А я… – Отец подмигнул Дюшке. – Я с клумбы… Милиции нет, я раз, раз – и дай бог ноги!
До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.
– Мам, что там?
Она осторожно освободила от мятой газеты букет – нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял – нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.
24
Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал… Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому – что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку… Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово…
Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:
– Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово… А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!
Саньку теперь, должно, уберут из поселка. Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жана Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.
Дюшка гнал от себя Кольку:
– Уходи, макака, по шее получишь!
Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрей нет никого… Один против Саньки!»
Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.
– Минька, – сказал ему Дюшка при первом же посещении, – мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.
Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.
– Давай, старик, что называется, выясним от ношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоем кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.
– А мне, Левка, совесть и совсем покою не дает – ни за что ни про что тогда тебе заехал.
– Все ясно, старик… Я тут над твоими кошкиными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись… Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живет, наверно, еще не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность – с ума сойдешь. Вот бы разобраться, найти общий закон.
– Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.
– Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.
– Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!
– Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.
– Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл… – И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке. – Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!
– Ну и что?
– Как это что, Левка? Может, она второй раз… Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина…
– Ерунда, – серьезно возразил Левка.
– Ты и про кошкины секунды говорил – ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.
– Я же тебе тогда объяснял – бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила – мгновение!
– Сто лет – мгновение? Ну уж!
– Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение, и миллион!
– Все равно вдруг да… атомы, долго ли им. Разве не может такого?
Левка замялся, кисленько замямлил:
– Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.
– Ага! Все-таки может! – восторжествовал Дюшка.
– Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.
– Ну, это совсем не то.
– То. Вероятность примерно такая же… Кто эта девчонка, если не секрет?
Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови – не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушней, но не получилось – сорвался предательски голос:
– Римка… Братенева.
– А-а. – Голос у Левки не дрогнул. – Нет, Дюшка. Римка – женой Пушкина… Нет. Девчонка как девчонка.
Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» – обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой – красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.
25
А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.
Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.
Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего, Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?
Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце… По нескольку раз каждый день.
* * *
Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.
Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.
Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.
Она спросила:
– Вода очень холодная?
– Не очень.
– А почему ты дрожишь?
– Не от холода.
– Отчего?
Сам для себя неожиданно он сказал:
– Оттого, что тебя вижу близко.
Она нисколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.
И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:
– Римка… я… я… никуда от тебя не могу спрятаться… Я… я… тебя… люблю, Римка.
Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:
– Я знаю, что ты… Что Левка… Я это знаю, Римка… Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня… знаю…
И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.
– Если хочешь знать, я даже ряд, Римка… по тому что не кто-нибудь, а Левка… Умней его – ни кого… Рад, что он…
Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.
А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно – и так тебе и эдак! – выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.
Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:
– Он меня – нет…
– Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?
Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:
– Он только книжки свои любит.
Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена – прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опушенному румянцу.
Слеза не по нему. Слеза пролита по другому – счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову – «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?
Над головой дыбилось оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.
Ночь после выпуска

1
Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.
В спортзале, этажом ниже, слышно было – двигали столы, шли последние приготовления к банкету.
И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя – именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.
Директор школы, Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог…» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной, – Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны…» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам. Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» – характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью, – Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними – все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе их.
Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она должна поблагодарить свою школу – за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.
И она вышла к столу президиума – невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.
– Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!
Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.
– Люблю ли я школу? – Голос звенящий, взволнованный. – Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору… И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается – сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.
– По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все – прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю… Школа заставляла меня знать все, кроме одного – что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и… и не смела сильно любить… Теперь вот оглянулась, и оказалось – ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и… школы. И тысячи дорог – и все одинаковы, все безразличны… Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!
Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.
– У меня все, – объявила она и мелкими, дергающимися шажочками двинулась к своему месту.
2
Года два назад был спущен запрет – в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.
Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер – порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».
Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал… Вещий Олег потребовал…» – всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета – бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в гороно.
Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.
Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Произносились тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица – празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.
И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья – охолаживающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов – выражал свою солидарность – и убегал.
Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.
Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.
Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:
– Наточка! Вера! Да Господи!
И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.
– Господи! Какие вы у меня большие!
Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.
– Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!
«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности, урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.
– Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая…
Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали – от радости.
– Нина Семеновна, давайте выпьем на брудер шафт! Чтоб на «ты», – предложила Натка Быстрова.
И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.
– Нина, ты… ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!
– Наточка, а какая ты стала – глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей… А Юлечка… Где Юлечка? Почему ее нет?
– Юлька! Эй! Сюда!
– Да, да, Юлечка… Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были…
Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича, с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.
– В физике произошли подряд две революции – теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?
– Ошибаешься, дружочек: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент – астрономию. Астрофизики что ни год делают сногсшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии…
Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает – преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.
Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами – лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:
– Наша альма-матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет… Нет! Не выкинет из памяти школу!
Против негодующего Васи – ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно – рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.
– Перед своим высоким начальством я скажу…
– Бывшим начальством, – с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.
– Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым… Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили – думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил…» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой…
Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему – снисходительно улыбаются. И переглядываются.
Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович – над безмятежно-чистым лбом несолидный коровий зализ, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:
– Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.
– Я не курю, Онучин.
– Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется, – до сегодняшнего дня.
И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше – сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.
Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.
* * *
Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали – ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.
Дошло дело до фокусов – значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.
Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:
– Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?
– Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?
– И Генка, и Натка, и Вера Жерих… Где твои гусли, бард?
– Гусли здесь, а ты приготовил «пушечное ядро»?
– Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.
– У меня лично возражений нет, фратер.
Учителя один за другим потянулись к выходу.
3
Большинство учителей разошлись по домам, задержались только шесть человек.
Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимый, жалкий, стертый след минувшей весны.
Снизу все еще доносились звуки танцев.
Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место – маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.
Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостья – в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны – время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол – натянуто-прямая, со вскинутой седой головой… снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант – оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости – домашняя женщина, любящая уют, – и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво-мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.
– Ну так что скажете о выступлении Студёнцевой? – спросила Ольга Олеговна.
Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:
– А собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.
– За наши труды нас очередной раз умыли, – сухо вставила Зоя Владимировна.
Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:
– Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?
– Если считать, что черная неблагодарность – ничего особого, – съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу. – И самое обидное – одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!
От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:
– Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я… Я не встречала таких детей… Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее… Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!
– А мне кажется, произошло нечто особенное, – чуть возвысила голос Ольга Олеговна.
Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.
– Юлия Студёнцева – наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не по вод для тревоги?
Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо – Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.
4
Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке – «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.
Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка – городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината – бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.
Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов – «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение – поощрять частную застройку. Выделили место – в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома – то тяп-ляп, на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселилось в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия – пристанище перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаяние милицию.
Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух – он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни – Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка – слава города, защитник слабых и обиженных.
Игорь Проухов – лучший друг Генки. И наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немыслимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»
Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось – гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.
И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье – это наказание, а горе – благо, ложь правдива, а черное – это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!
Натка Быстрова… Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед – посторонись!
Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка – этого никто не разберет. Сам Генка тоже.
Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» – в устах Сократа Онучина это высшая похвала.









































