Читать книгу "Бесчувственники (сборник)"
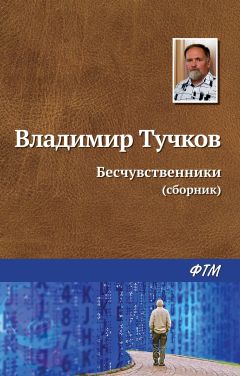
Автор книги: Владимир Тучков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Владимир Тучков
Бесчувственники (сборник)
…и сын его Иван
Интернат для слепых детей возвышается на окраине города, подобный громадному каменному слепому. Потому что окна, зимой сочившиеся ядовитым морозом и заунывно свистевшие осенним ветром, уже давно заложены кирпичной кладкой. Детям, слепым от рождения, воспитателям слепы всегда, нянечкам никогда не видевшим проблеска света – всем им это удобно и приятно. Ни пораниться осколком стекла, ни выброситься с верхнего этажа. Никому не надо того, о существовании чего никто не подозревает.
Лишь дважды в месяц зрячая девушка – чужая воспитательница, инородная – бередит душу. В поле, в лесу, взявшись за руки, ощупывая деревья, повторяя хором: «дерево», «куст», «мокрый ручеек», «ящерица», «большой холодный камень, похожий на большой холодный камень, пред которым стоял в раздумье витязь на распутье»…
И тут уж – Ирочка, Ирочка, Ирочка! Хотим витязя! – никуда не деться. Через две недели в Третьяковку, в зал Васнецова, где зачарованные слепые дети слушают завораживающие Ирочкины рассказы. Про трех богатырей, которые на конях, в железных шлемах, с ратным оружием, в дозоре. Про безутешную сестрицу Аленушку, про омут глубокий, черный, про маленького братика, на дне лежащего. Про Ивана царевича в красивой шапке, что скачет на сером волке. Про всякие другие русские сказки, которые нельзя увидеть. И даже нельзя подойти и потрогать – какие краски, какой холст, какие фигуры. Лишь сочиняя в бедных, обворованных несчастьем душах, всякие странные образы – не зрительные, а осязательные. Колючая борода Ильи Муромца, теплая шелковистая конская грива, соленые Аленушкины слезки…
И незаметно, словно повинуясь тайному магниту, все дальше – в зал Сурикова, Саврасова, Ге, Брюллова. Где все более непонятно и робко. И наконец к Репину, к роковой картине «Царь Иван Грозный и сын его Иван»…
…Ирочка, Ирочка, за что он его убил?! Он же его сын. Ирочка, как он плачет? Какие у него глаза? А в руках что? А чем убил? А сын его плачет? А еще кто-нибудь есть? А кровь куда пролилась? – Все это с таким неподдельным ужасом, с такой скороговоркой и со столькими вопросами – лишь бы не думать про то, как отец убил сына…
И всю обратную дорогу в автобусе то нюни, то предобморочное молчание, то всхлипы… Как же так, Ирочка?
И эта тайна – уже потом, после автобуса, после сна (у всех одного и того же) – все глубже втягивала в свою воронку, черную воронку, всегда черную.
И тогда все выбрали царя Ивана Грозного. И пошептавшись кучками, не объявляя вслух, выбрали сына его Ивана. Который еще не знал, что будет сыном Иваном. И нашли подходящее место, где ковер. И нарядили царя Ивана Грозного в нянечкин халат, а на голову надели зимнюю шапку. И потихоньку утащили в котельной кочергу, которая посох царя Ивана Грозного…
Собрались ночью. Позвали заспанного сына Ивана. И гневный царь ударил посохом сына своего Ивана. Ударил и раз, и два, и три…
Наступила тишина, как в картинной галерее. Дети по очереди подходили и трогали согбенную, упавшую на колени фигуру царя Ивана Грозного, ощупывали в ужасе раскрытые его глаза. Его руки, прижимающие к себе голову распростертого на ковре сына Ивана. И закрытые глаза сына Ивана. И неподвижную шею, на которой не билась ни одна жилка. И трогали липкую кровь, которая струилась по голове сына, которая намочила руки царя, которая растекалась по ковру солоноватой, если лизнуть, лужицей.
Дети завыли от разрывавших их маленькие незрелые души нестерпимых чувств. Детей охватил ужас соприкосновения с истиной. Дети уже почти видели картину.
Тенета для любви
Ее душа не могла любить. Никого. Никого даже на день. Даже на час. Ни разу в ней не вспыхивало той загадочной икры, неизвестно откуда берущейся, от которой занимается пожар сладостного безумья. Не в смысле секса. А платонического чувства, которое в большинстве случаев себе же и во вред. Если это, конечно, любовь, а не самообман себялюбивого рассудка. А любовь – это когда душа на ухо нашептывает.
Хотя какая тут к черту душа?! Какая возвышенность?! В лучшем случае гормональное. В худшем – нарушение адекватного восприятия действительности. То есть опять же мозговое. А мозговое – это то же гормональное.
Когда завравшееся сознание пририсовывает к серенькой сутулой фигурке цветными японскими фломастерами всякие радужные перья, всякие несуществующие достоинства. И даже запах изо рта как бы не существует. Его нет и быть не может, потому что гормоны…
К пятидесяти с этим толкованием природы легко соглашаются. Точнее – смиряются. Потому что все возможные способы гормонального обмана уже исчерпаны. Нету у природы в запасе больше ничего. И эти биохимические слова, выдуманные в часы трагичного рассматривания зеркала, как бальзам на душу. Один идеализм – про любовь – изжит. Другой – про загробную жизнь – пока еще не нужен.
Но Елене-то было вдвое меньше. Даже больше чем вдвое. Двадцать. А сердце ни разу в жизни не затрепыхалось в груди при виде одного единственного, вобравшего в себя все достоинства мира. Не было такого единственного, все были примерно на одно лицо – серенькое, без радужных перьев.
Жить и не любить – это ей было непереносимо. Словно врачебный приговор скорой кончины. Хоть безответно, но полюбить. Хоть с муками или даже унижениями, но ощутить в себе нормальность, которая выделяет человека из мира животных. Полюбить все равно какого!
И вдруг Елена делает открытие. Не ахти какое, с точки зрения пожившего человека. Алкоголь. Свойства его прекрасно изучены. Последствия хорошо известны, поскольку проиллюстрированы множеством непутевых судеб.
Елена поняла, что ей способен помочь лишь алкоголь. Вернее, вначале испытала на опыте, а потом уже поняла.
Ну и что, что такая любовь рукотворна? Ну и что? Разве она не настоящая?
Механизм прост (опять же с пятидесятилетней точки зрения): вино, как и любовь, великий обманщик. Гормоны активизируются, область скепсиса блокируется, по жилам бежит горячая кровь…
Но ей-то не все ли равно?!
В ее двадцать лет.
Стоит выпить, и все вокруг становится розовым, искрящимся. Краски ярче, люди милее, небо выше.
Парни становятся вкрадчивыми. Нет, не точно. Парни становятся интересными. И всегда в компании оказывается такой, который особенный. Который рожден для нее. А она, Елена, рождена для него. Это ясно без слова «люблю», которое надо беречь. Чтобы не спугнуть. Чтобы не упорхнуло в раскрытое окно, навстречу наливному закату…
Однако утром все вновь возвращается к своим прежним границам. И вновь надо искать новую любовь, которой ее обворожат вино и другой парень.
Но вчера – это же была любовь? Конечно, любовь.
И со временем Елена поняла, что нельзя отпускать ее от себя и утром. Такую хрупкую, летучую, нежную – сжала посильней кулачок, а на ладони лишь одни перышки, в крови измазанные. Поэтому стала пить и по утрам. С нежностью вспоминая о своем единственном, прекрасном, желанном. Вспоминать вдвоем с вином…
А что аборт? Ну, аборт. Но ведь рано же еще. Ведь как же без любви замуж? Как, если она исчезла и грядет новая? Как?
Конечно, вначале сладкие вина, долгие взгляды, праздные прогулки за опавшими листьями или под роняющими на голову снег высокими соснами.
Так и не выбрав к тридцати ту единственную любовь, которую окольцевать, а потом глумиться над ней вдвоем. Без вина. Потому что все такими ревнивцами оказывались: жить вдвоем, без вина.
А как без вина, если без него от женихов козлом воняет, волосы из носа растут и ум – словно снятое молоко.
Ну а потом, после тридцати, горькая водка, быстрые руки, длинные ноги.
Однако тоже любовь. Только пить надо больше, поскольку лишь водка способна отдраить с единственных, для нее одной рожденных всякую ржавчину, отбить всякий запах. Чтобы лицо возлюбленного туманом было подернуто. Когда розовым, когда голубым.
И это тоже любовь?
Да, и это любовь. С полным набором свойственных ей иллюзий. С той же самой биохимией.
И о замужестве уже вроде бы вопроса не стояло. Уже к пятидесяти приближалось. Точнее к сорока, но такая любовь – это год за три. Такое безоглядное расходование себя. Такая жизнь с постоянно колотящимся в груди сердцем: когда посмотрит не так, и когда посмотрит именно так, как в первый раз, когда посмотрит на другую, когда исчезнет, а потом вернется, когда не поймет, что для него старалась…
А в сорок всё кончилось. Любовь кончилась. Потому что уже на самом деле пятьдесят было. Гормоны кончились. Жизнь кончилась.
Жизнь кончилась, потому что кончилась любовь.
Любовь кончилась, потому что кончились гормоны.
Гормоны кончились, потому что кончилась водка.
Водка кончилась, потому что к власти пришел Горбачев.
К власти пришел Горбачев, потому что кончился социализм.
Социализм кончился, потому что люди устали любить по-старому.
Однако,
если бы люди были способны любить беспрерывно, как это удалось Елене, любить беспрерывно без вина, к сорока годам они представляли бы собой не менее печальное зрелище. Любовь и вино сжигают человека изнутри одинаково безжалостно.
Так дальше жить нельзя
Нет на свете никого красивее, чем люди без чувства страха, никогда не ощущающие приближающейся опасности. Природа уготовила им эффектную броскую внешность, которая отпущена лишь на годы детства и юности. Яркую, запоминающуюся. Чтобы помнили. Потому что хранить память о стариках глупо и нелепо. Ведь среди стариков нет ни одного, кто был бы полностью лишен чувства страха. Который в роковую минуту крепко сжимает сердце и отводит человека на безопасное расстояние от неминуемой смерти, вполне откровенной для других и неторопливой.
Андрей ловчил, занимался пустым самовнушением уже довольно давно. «Разобьешься!» – говорил он себе не менее ста раз, стоя на краю крыши двенадцатиэтажного дома. Но знание, не подкрепленное эмоцией, бесполезно. Ему по-прежнему было абсолютно безразлично: шагнуть ли в непонятную бездну или остаться здесь. Здесь и там – это было для него совершенно одинаково. Разницы он не ощущал.
И лишь распластанный на асфальте, обезображенный страшным ударом труп товарища, которого он легонько толкнул в спину, дал нужную эмоциональную закрепленность.
Тот же результат был получен, когда спихнул с платформы под последнюю электричку припозднившегося алкаша. Перерезанный пополам, с кишками, вывалившимися из живота, с отсутствием лица, на месте которого зияла черная дыра, уходящая в бесконечность. «Нет, я таким не должен быть ни при каких обстоятельствах», – размышлял убийца поневоле. Это прекрасно сработало, и Андрея уже не тянуло в метро сделать два бездумных шага вперед, навстречу приближающемуся справа притягательному голубому грохоту.
Любопытно, что все эти «эксперименты» с собственной психикой постепенно укрепляли в сознании Андрея ощущение раздвоенности. Он все чаще и чаще думал о себе в третьем лице – Он. «Он будет безобразен при падении с этой скалы», – заполнял он в своей душе пустоту, в которой должен был гнездиться нормальный физиологический страх, жалостью к абстрактному человеку, которого звали Он.
Но в мире существовало еще очень много того, что сулило непонятную смерть. Вода. И Андрей, не дождавшись естественного несчастного случая на диком пляже в Алупке, утянул на дно двенадцатилетнего пацана. А потом долго и с ужасом смотрел на его разбухшее тельце.
Существовали ножи, сулившие смерть. Боевое и охотничье оружие, вид смерти от того и другого, как выяснилось, значительно разнился. Были высоковольтные провода, бочки с кислотой, огромное количество ядов, удушение… И многое, многое другое.
Однако обойти непререкаемый закон жизни не удалось и хитромудрому Андрею. Смерть его оказалась, как это всегда случается с «бесстрашниками», нелепой и экзотичной, оставшейся на долгие годы в памяти как минимум двух поколений жителей микрорайона «Садовники».
Секс в безвоздушном пространстве
Долго держать руку в пламени костра мешал лишь отвратительный запах паленого мяса. Мяса собственной руки. Руки, которая по милости матушки-природы, а скорее всего по небрежению ушибленных жизнью родителей, мало чем отличалась от клешни робота, бесстрастно и бесчувственно закручивающей гайки по часовой стрелке.
Однако более удачное и наглядное сравнение Джон подобрал с годами, уже миновав пору не только юношеской гиперсексуальности, но и всякого интереса к сексу. Джон уподобил прирожденное отсутствие чувствительных рецепторов на коже жизни в космическом скафандре. Когда все члены движутся, на что-то натыкаются, но импульсы от этих натыканий возникают лишь в суставах.
Кстати, о членах. Его фаллос также был полностью лишен сенсорной чувствительности. Менее настойчивый человек лет в 17 – 18 на этой почве вставил бы себе револьверное дуло промеж зубов и бесчувственным большим пальцем нажал на курок.
О молодость, молодость! – вспоминает уже изрядно поседевший Джон, сидя на веранде собственного дома, залитой вечерним солнцем. Глупая молодость, когда все мироздание сжимается до размеров небольшого отверстия, обрамленного большими и малыми губами.
Однако он в свое время нашел выход и из своего, казалось бы, отчаянного в отношении секса положения. Организм Джона внутри его тела работал безупречно. Женщины его возбуждали в самом непосредственном смысле этого слова. То есть головной мозг, залюбовавшись какой-нибудь сексапильной особой, посылал в нужном направлении совершенно конкретный приказ, в результате чего горячая кровь туго заполняла пещеристые тела. И возникала эрекция.
Однако ее необходимо было разрешить. А как это сделать, «находясь в скафандре», то есть при помощи трения буквально отмороженного органа? И опять на помощь приходила центральная нервная система, которая восполняла отсутствие сенсорных сигналов острыми визуальными, слуховыми, обонятельными и даже вкусовыми ощущениями. Джон всегда занимался сексом при свете с обильно надушенными, истерично вопящими (покусывание ни малейшего эффекта не давало) и умащенными кремами, составленными на основе тропических растений.
Вульгарный человек назвал бы такое освобождение от разрывавшего организм семени поллюцией. И был бы не очень далек от истины. Может быть, он даже высказал бы это Джону в открытую во время совместной вечерней выпивки. Может быть, кабы рядом с креслом Джона не стоял бы его неизменный скорострельный карабин, с которым еще его дед с большим успехом охотился на койотов. Не из меркантильных соображений, а из азарта убивать все движущееся, не находящееся под защитой Декларации независимости США, сочиненной Томасом Джефферсоном.
Плавное течение времени
Как это ни парадоксально звучит, но феноменальная память делала Сергея подобным животному. Поскольку для животных не существует времени. Они постоянно живут в сегодня. Аномальный мозг Сергея хватал все подряд и жадно впитывал. Каждый свой шаг, каждый чих любого пешехода, каждое слово слетевшее с уст любого идиота. И при этом сознание держало всю эту несистематизированную белиберду не в дальних закутках, откуда можно было бы при надобности извлечь, например, диаметр вала в курсовом проекте по деталям машин, который он защитил лет десять назад, номер лотерейного билета, выигравшего три рубля, погоду 17 августа 1982 года, когда он пил пиво с приятелями в «Яме» на Пушкинской, запах жены в первый день их знакомства… Да мало ли что может вдруг понадобиться человеку в минуты праздных раздумий о прожитых годах.
Так нет же! Полоумное, как его называл сам Сергей, сознание всю эту чушь собачью держало на поверхности – прямо перед глазами, перед носом. В ушах в минуты одиночества постоянно звучали голоса многих людей, в том числе, и уже давно умерших. На языке крутился вкус то того, то иного давно съеденного обеда.
Дело доходило до конфузов. Человеку, стрельнувшему у него сигарету он, будучи абсолютно уверенным в своей правоте, мог раздраженно заявить: «Я ж тебе только что уже давал!» Хоть давал он ему недели две назад. Был он человеком отнюдь не жадным, но точно то же самое происходило и с подарками жене, детям, теще. Придя с работы домой в день рождения кого-нибудь из домашних, вымыв руки и усевшись за стол, Сергей спрашивал: «Ну что, Нина, померила? Впору пришлось?» Хоть платье когда-то подаренное Нине на день рождения уже давно изорвалось и истлело. При этом когда и в его день рождения ему что-то протягивали со словами поздравления, то он точно с таким же недоумением говорил: «Зачем же второй-то? Ты ж мне только что зажигалку подарила».
Но не это было самое страшное в судьбе Сергея. Домашние, зная о такой его странности, терпели и не роптали. Ну что страшного в том, что он, поставив на плиту чайник, прекрасно помнил, что он его «уже выключил». Ходили за ним, смотрели, выключали и приглашали попить чая.
Хуже было вне пределов дома. Сослуживцы довольно скоро разобрались в ситуации. Например, достаточно было один раз одолжить у ничего не забывающего коллеги пятьдесят рублей и один раз вернуть ему пятьдесят рублей. После этого можно было сколько угодно раз занимать у него по полтиннику без отдачи. Потому что он прекрасно помнил что, скажем, Сидоров, одолжил у него деньги и отдал. Причем, поскольку для Сергея не существовало течения времени (все прошлое было со страшной силой спрессовано в «только что, недавно»), то что именно было раньше – заем или отдача, он не знал и знать не мог. И серия безотдачных заемов воспринималась им как один заем, который вполне мог стоять перед отдачей.
Прекрасно пользовалось Сергеем и начальство. Несмотря на то, что работником он был прекрасным, но уже много лет зарплату ему не прибавляли. Мол, да ты что, Сережа, ведь в прошлом же месяце. И Сергей соглашался, да, действительно, в прошлом месяце. Нинка на радостях торт купила. Были и иные сценарии. Например, «вчера была комиссия, которая постановила, чтобы ты помимо своего довел еще и вот этот узел». И подсовывали ему узел строптивой Елены Дмитриевны, для которой все на свете затмил начавшийся дачный сезон. Комиссия, действительно, была. Но не вчера, а лет пять назад. И она на самом деле принимала такое постановление. И Сергей, будучи козлом отпущения, пахал за малые деньги за себя и за десяток тех парней и девчат.
Ничего хорошего не сулила Сергею и улица, и транспорт, и командировки… Да и все, что придумано для себя людьми, ориентирующимися во времени. Все это никак не подходило несчастному Сергею, было ему враждебно, норовило побольнее ударить, а потом поглумиться над его мучениями.
Постоянное психическое перенапряжение включило естественный защитный механизм: Сергей начал выпивать. Не так, как пьет большинство замужних женщин – от случая к случаю, а регулярно. Постепенно начали возрастать и дозы. Это снимало нервную нагрузку, но не решало проблемы. Более того, возникла еще одна проблема – неизбежная, семейная.
Обороты пития наращивались, но легче не становилось. И однажды Сергей познал состояние, известное большинству неумеренно пьющих людей, – алкогольная потеря памяти. Проснувшись утром с головной болью и ставшей уже привычной подступающей тошнотой, он никак не мог вспомнить, каким образом добрался с работы, где пили спирт, домой.
И вдруг промелькнула искра надежды: а вдруг!.. Но никакого вдруг не наблюдалось. Перед Сергеем вновь кружилась каруселью вся его прожитая жизнь…
Однако не вся. За исключением того отрезка времени, когда он находился в невменяемом состоянии.
Еще ничего как следует не понимая, через день (или черед неделю, или в этот же день – сие известно быть не может) Сергей решил вновь испытать новое для себя ощущение, дразнившее его какими-то смутными предчувствиями. Пил много и старательно. И вновь утром ничего не помнил.
И тут до него дошло, что провал в памяти он может использовать как некую зарубку. То есть часы беспамятства делили время на «до» и «после» приступа амнезии. Он отчетливо увидел, что дал пощечину Петрову после «зарубки». Причем после первой, а не второй, то есть в промежутке между ними. Сергей, несмотря на скверное физическое состояние, пришел в неописуемую радость: у него появился свой особый календарь, по которому он теперь сможет сверять свою жизнь!
Однако скоро выяснилось, что его зарубки в памяти строго привязаны к тому месту, где он напивался допьяна. Свою квартиру он по-прежнему воспринимал как одно бесконечное «вчера». И тогда он, чтобы не травмировать домашних, дождался их отъезда на дачу и поставил глубокую зарубку в разделе памяти, посвященной семье.
Мест, где систематически бывал Сергей, было не столь уж и много. Поэтому он тайком от дежурных по станции, да и от пассажиров, чтобы не оскорблять их гражданских чувств, один раз напился в метро «Пражская» (где он садился), один раз на «Чеховской» (где пересаживался), один раз на «Войковской» (где выходил) и один раз в вагоне (один раз, поскольку все вагоны на всех линиях одинаковы).
Так жизнь стала входить в норму. Все было разложено по полочкам – это «до», а это «после». Сергей почувствовал такое облечение, что его больше не тянуло пить. Однако пить было необходимо хотя бы раз в месяц во всех «стратегических» точках: дом, работа, транспорт и т. д. Потому что за месяц опять происходило такое наслоение событий, которое снова начинало мешать ориентироваться во времени, т. е. разделять «вчера» и «сегодня».
Поэтому Сергей по-прежнему пил регулярно и крепко.
Однако примерно через пару лет алкоголь, выполнявший вспомогательную функцию косвенной ориентации во времени, решил проблему самым кардинальным образом. Вначале он отсек от памяти Сергея ее избыток, благодаря чему он стал обычным человеком. А затем начал разрушать и то немногое, что отпущено природой обычному человеку. И Сергей стал страдать забывчивостью.
И в конце концов он стал обычным алкоголиком, для которого течение времени имеет значение лишь тогда, когда организму необходимо срочно опохмелиться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























