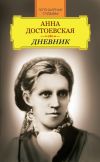Текст книги "Имя автора – Достоевский"
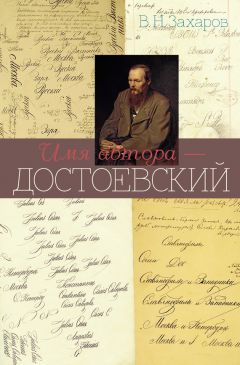
Автор книги: Владимир Захаров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Особенно выразительно последнее письмо героя – письмо без адреса и даты, которое он просто не мог не написать. Это письмо Макара Девушкина завершает роман апофеозом творчества. Переписчик становится писателем, Макар Девушкин превращается в литератора.
Макар Девушкин в полной мере внял
Неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Герой сознает себя в письмах Вареньке, изреченное слово помогает сознать себя и понять других:
Узнав вас, я стал во-первых и самого себя лучше знать, и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой, и узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но всё-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек (Д18, 1; 64–65).
Роман являет откровение Слова, которое творит мир, творит человека.
Эта тема заявлена уже эпиграфом романа – словами В. Ф. Одоевского из рассказа «Живой мертвец». Зачем Достоевскому, вслед за Одоевским, понадобилось лукавое отрицание литературы, признающее ее духовную силу, способность словом изменить человека и жизнь? Между тем в игривом запрете литературы выражена эта до сих пор непрочитанная идея романа. Эпиграф откликается позже в оценках Макаром Девушкиным пушкинского «Станционного смотрителя» и гоголевской «Шинели»: в первом случае героя умиляет открытая писателем «подноготная» жизни, во втором – оскорбляет и приводит в негодование. Эпиграф отзовется эхом и в последнем письме Макара Девушкина.
Мы часто слышали и слышим: человек – вселенная, духовный мир человека подобен космосу. Духовный мир героя романа может быть уподоблен расширяющейся вселенной. Он не ограничен ни в своем интеллектуальном развитии, ни в своей духовности, ни в своей человечности. Потенциал личности Макара Девушкина безграничен. И это преображение героя происходит вопреки его прошлому, его воспитанию, происхождению – одним словом, среде, вопреки социальной униженности и культурной обделенности. Макар Девушкин не только и не столько начинает чувствовать и мыслить, как лучшие из лучших, сколько понимает то, что дано и открывается только ему одному.
Поздние герои Достоевского затмили героя его первого романа. Между тем мало кто из героев Достоевского может сравниться с Макаром Девушкиным по интенсивности духовного развития. В какой-то мере эта модель развития представлена в подпольном парадоксалисте («Записки из подполья»), в Аркадии Долгоруком («Подросток»), в закладчике «Кроткой», но по сравнению с «Бедными людьми» в редуцированном виде. Наиболее полно этот тип сюжета воплощен в «Сне смешного человека» – в преображении «смешного человека» в бесстрашного пророка, возвестившего миру истину. Правда, с той лишь существенной разницей, что в рассказе преображение героя дано как сновидческий процесс, а в романе – жизненный, бытийный. Многие поздние герои-идеологи превосходят Макара Девушкина по культурному уровню, но мало кто по энергии духовного возрождения.
Макар Девушкин был действительно открытием Достоевского, потрясающим привычные вкусы читателя. Вопреки тому, что Макар Девушкин может раздражать (как, например, нелитературная речевая манера героя раздражала первых читателей «Бедных людей»), вопреки тому, что он становился удобной и уязвимой мишенью остроумных насмешек в эпиграмматическом творчестве Тургенева, вопреки позднему разочарованию Белинского и Некрасова в Достоевском-«гении» в целом и в «Бедных людях» в частности, рядом с Макаром Девушкиным мало кого можно поставить в русской литературе по духовному потенциалу личности, по глубине и, можно сказать, по глобальности мировосприятия героя, по стремительности его духовного взлета. «Маленький человек» оказался «большим». Уникальна динамика развертывания духовного величия «маленького человека» (да и само понятие «маленький человек» меньше всего подходит любым героям Достоевского – у них нет «предела», «потолка»). В конце концов Макар Девушкин оказался достойным героем эпистолярного романа, который помимо прочего должен бы быть примером «воспитания чувств». Макар Девушкин был первым откровением великой идеи Достоевского – идеи «восстановления» человека, духовного воскрешения забитых и бедных людей, униженных и оскорбленных.
Более того, несмотря на явный «хрестоматийный глянец» и кажущуюся историчность содержания романа, в нашей литературе рядом с Макаром Девушкиным поставить некого. Иван Африканович из «Привычного дела» В. Белова и старухи из повестей В. Распутина были всё-таки развитием адаптированной Тургеневым, хотя и открытой в «Бедных людях» концепции человека, причем в ее руссоистской, а точнее – в просветительской трактовке. По сути дела, восприняты уроки тургеневского «Хоря и Калиныча» – уроки «Бедных людей» еще не пройдены современной прозой.
Загадка «Двойника»
Полгода Достоевский слыл автором гениального романа, который мало кто читал, но о котором многие слышали. И эта слава была авторитетнее печатного слова. Именно в это время Достоевский пережил самые сладостные минуты литературного триумфа, о чем безыскусно свидетельствуют его наивные письма брату и поздние воспоминания. И именно в таком счастливом творческом состоянии духа Достоевский стал работать над новым произведением – фантастической повестью «Двойник», которая была опубликована через три недели после выхода романа, – и сенсация превратилась в скандал.
«Двойник» был задуман как гениальное произведение. Достоевский не сомневался, что его «Двойник» «в 10 раз выше “Бедных людей”». Более того:
«Наши говорят, что после Мертвых душ на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно Голядкин удался мне донельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше Мертвых душ, я это знаю» (Д18, 15.1; 76–77).
В ярких лучах славы писатель явно переоценил читателя. Ему казалось, что все понимают его, – и новое произведение Достоевский писал, рассчитывая на конгениальное понимание, а столкнулся с непониманием критиков.
Белинский так защищал читателя от «неопытного» автора:
«…каждый читатель совершенно вправе не понять и не догадаться, что письма Вахрамеева и г. Голядкина-младшего г. Голядкин-старший сочиняет сам к себе, в своем расстроенном воображении, – даже, что наружное сходство с ним младшего Голядкина совсем не так велико и поразительно, как показалось оно ему в его расстроенном воображении, и вообще о самом помешательстве Голядкина не всякий читатель догадается скоро» (Б., 8; 142).
Белинский ошибся: переписка Голядкина-старшего с Вахрамеевым и Голядкиным-младшим, Вахрамеева с Голядкиным-старшим реальна. Еще Н. К. Михайловский, прибегая к тексту повести, оспорил мнение В. Г. Белинского насчет «наружного сходства» двух Голядкиных (Михайловский 1957, 219–222, 238–242); в начале повести Голядкин еще не сумасшедший, безумие овладевает им только в конце двенадцатой главы. Доверие к суждению Белинского подрывает и фактическая ошибка: в «Двойнике» есть письма Вахрамеева, но нет писем Голядкина-младшего, о которых говорит критик. А между тем именно в этих рассуждениях Белинского лежат истоки традиционной концепции фантастического в повести Достоевского. Белинский ошибся в суждении о «Двойнике», но обозначил и раскрыл конфликт гениального автора и «обыкновенного» читателя.
Фантастика в сороковые годы воспринималась как атрибут прошедшей романтической эпохи, как неуместная архаика. Тогда же устами Белинского был вынесен критический вердикт:
«Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов» (Б9, 8; 214).
Традиционная концепция фантастического в повести Достоевского по-своему логична и хорошо продумана. У нее один недостаток – она никем не доказана. Она – гипотеза. Считается, что двойник – порождение болезненного сознания Голядкина, фантастическое в «Двойнике» – бред и галлюцинации сумасшедшего. Никто, кроме меня, ее под сомнение не ставил, хотя предпосылки для пересмотра традиционной концепции повести есть.
Так, попытку ее пересмотра предпринял Ф. И. Евнин:
«Смысл двойничества Голядкина не во внутреннем раздвоении, а во внешнем замещении, вытеснении его из занимаемого места в жизни» (Евнин 1965, 12).
Появление в рамках традиционных представлений о фантастике в повести концепции Ф. И. Евнина симптоматично.
Считается, что двойник – плод болезненного воображения Голядкина. В тексте повести коллизия «Голядкин – двойник» решена совершенно иначе. Вопрос, не призрак ли двойник, вначале просто мучает Голядкина. Трижды пытается он усомниться в реальности существования двойника в VI главе и один раз в VIII главе. И Достоевский, чьим замыслом, согласно традиционной концепции, должна быть психопатологическая разработка темы двойника, поступает в этой ситуации по меньшей мере странно. Он каждый раз убеждает Голядкина и читателя в реальности существования двойника. И это не чувство «реальности бреда» больного: сомнения Голядкина разрешаются не в рамках индивидуального сознания героя, а в сфере авторского сознания – в слове автора, приобретающем в повествовании значение объективной действительности.
Как и традиционную концепцию фантастического, никто не доказал, что в слове автора отражено сознание Голядкина, а вот обратное – принципиальное отличие слова автора и слова Голядкина доказано в обстоятельном лингвистическом анализе М. Ф. Ломагиной: «речь повествователя – полная противоположность речи героя» (Ломагина 1971, 8).
Структура текста «Двойника» выглядит не столь эксцентрично, как может это показаться, если принять традиционную концепцию фантастического в повести (мир увиден глазами безумца, приключения Голядкина автором рассказаны языком героя, слово автора растворено в слове героя). Так, во второй редакции «Двойника» есть 1) слово автора, ведущего повествование (58,7 %), 2) диалоги героев (их свыше двадцати) (23,4 %), 3) монологическое слово Голядкина – внутренняя рефлексия его, выделенная в слове автора всегда кавычками (14,7 %), 4) письма Голядкина-старшего к Вахрамееву и Голядкину-младшему, Вахрамеева к Голядкину-старшему, письмо от «Клары Олсуфьевны» (3,2 %).
Часто можно услышать мнение, будто бред и явь в повести не разграничены. Такая точка зрения возникла из предположения, что сцены с двойником разворачиваются в сознании Голядкина. В «Двойнике» много мест, где сознание Голядкина представлено «в чистом виде», но это монологическое слово Голядкина, и приводится оно Достоевским в кавычках. В повести нет ни одного эпизода, где бы сцена с двойником была внедрена в сознание героя. Сцены, в которых появляется и действует двойник, разворачиваются только в слове автора. Кроме того, и в «Двойнике» Достоевский четко обозначал границы «бреда» и «яви». В этом нетрудно убедиться, если прочитать описание ночного «полусна, полубдения» Голядкина в IX и X главах повести. Там, где Достоевский изображал сон и бдение, делал он это четко и ясно: все переходы из одного состояния в другое отмечены ремарками в слове автора.
Не путает границы между сознанием героя и художественным миром повести пародирование речи Голядкина в слове автора: включенное в систему собственно авторской речи, пародированное слово Голядкина не становится информативным словом рассказа, а лишь подчеркивает несостоятельность этической позиции героя «Двойника». Граница между словом автора и словом героя в этих случаях всегда налицо. Более того, иронично-сочувственная стилизация слова Голядкина в пародии еще четче выявляет отличие слова автора и слова героя, их стилевую разнородность.
Достоевский пародировал «слог» Голядкина не только в «Двойнике», но и в письме к брату от 8 октября 1845 г., объясняя М. М. Достоевскому, почему задерживается окончание повести:
«Яков Петрович Голядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, не в одном глазу, а что пожалуй если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой как все, он только так себе, а то такой как и все. Что ему! – Подлец<,> страшный подлец! Раньше половины Ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с Е<го> Превосходительством и пожалуй, (отчего же нет) готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне-негодное положение» (Д18, 15.1; 72).
Эта особенность стиля «Двойника» – пародирование слова героя (кстати говоря, немногочисленное в слове автора) не дает оснований для утверждения, будто слово автора выражает самосознание героя.
Вот сомнения Голядкина в реальности двойника и их разрешение в слове автора:
«“Что ж это, сон или нет, – думал господин Голядкин: – настоящее или продолжение вчерашнего. Да как же? по какому же праву все это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?” Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь… Нет, не сон да и только; он, он сам сидел пред собою, как будто перед ним поставили зеркало. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и потому самому, к довершению несчастия, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером» (Д18, 1; 117).
Или:
«Вдруг господин Голядкин умолк, осекся, и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился на право. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор» (Там же, 121).
Аналогично разрешаются сомнения и самообольщения героя в остальных случаях. Голядкин всегда убеждается в реальности происходящего с ним, и убеждают его в этом события, явленные в слове автора.
В повести постоянно возникают ситуации, которые были бы немыслимы, если бы двойник не был для Достоевского реальным действующим лицом. Так, в VIII главе слуга Голядкина Петрушка перепутал своего барина с его двойником. Вечер накануне этого происшествия – единственный момент сближения двух Голядкиных. После трех-четырех стаканов пунша гость приглашен ночевать. Ему составлена и кровать из двух рядов стульев. Сам Голядкин расположился в своей постели. Проснувшись утром, Голядкин обнаружил, что двойник исчез:
«Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. “Где же, где же?” – проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, “что барина, дескать, дома нет”.
– Дурак ты, да ведь я твой барин, Петрушка, – проговорил господин Голядкин прерывистым голосом, и во все глаза смотря на своего служителя.
Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, – посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец, Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел, что он не хотел дожидаться, и что обещал своевременно увидеться, поговорить и объясниться решительно» (Там же, 127–128).
Перед нами точно схваченная и тонко переданная коллизия. По соображению Петрушки гостю отводится лучшее место в доме. Вот Петрушка и посчитал, что тот, кто спал на стульях, – барин, а господина Голядкина принял за его двойника. Комическая ошибка Петрушки исполнена глубокого смысла, да и Голядкину не раз еще воздастся за его «гостеприимство».
Если бы Достоевский предпринял психопатологическую разработку темы двойника, в повести были бы излишни и художественно неоправданны столкновения бытовых интересов двух Голядкиных у ворот дома и у дверей квартиры Голядкина в V главе, нелеп был бы один вопрос Петрушки Голядкину в VII главе, ни к чему было бы накрывать стол на две персоны, не произошла бы комическая ошибка Петрушки, когда тот перепутал своего барина с его двойником, в смысловом значении обесценилась бы кража и присвоение двойником – сам у себя украл! – деловой бумаги Голядкина-старшего, стала бы бессмысленной сцена в кофейной, где Голядкин съедает один расстегайчик, а расплачивается за одиннадцать – за себя и за двойника, случайно оказавшегося там же, художественно неоправданным был бы эпизод с передачей лично Голядкиным-старшим письма Голядкину-младшему через писаря Писаренко.
В сюжете повести реализуется не психопатологическая установка, а установка на реальное существование двойника.
«Двойник» написан для внимательного читателя. Вероятно, в этом одна из причин неудачи повести, рассчитанной на читателя, ничего не упускающего из виду, помнящего без лишних напоминаний то, что было сказано по тому или иному поводу раньше. В «Двойнике» автор как бы неотступно следует за своим героем, взгляд писателя не отвлекается на развитие побочных сюжетных линий, обычных для многопланового повествования, и именно поэтому события как бы «настигают» титулярного советника. Достоевский постоянно ставит Голядкина перед свершившимся фактом – неожиданным, внезапным, негаданным.
В этом одна из особенностей поэтики Достоевского – начинать с середины, лишь по ходу действия возвращаясь к тому, с чего, собственно, всё и началось, что нужно объяснить читателю.
Ситуация, в которой в начале повести оказался Голядкин, в основных чертах обрисована в диалоге Голядкина с доктором Крестьяном Ивановичем Рутеншпицем во второй главе. Далее эта ситуация уточняется по отдельным замечаниям, часто – намекам, рассыпанным по всему тексту повести.
Из этих наслоений и слагается своеобразная «предыстория» «Двойника», в которой и предстоит сейчас разобраться. Необходимо произвести реконструкцию исходной событийной ситуации повести, ибо зачастую она настолько искажается, что в конце концов имеет больше отношение к концепции исследователя, чем к тексту Достоевского.
Сюжетное время в «Двойнике» – четыре дня, но в фабуле повести можно выделить три временных пласта. Это четкие хронологические ориентиры – три вехи его судьбы: «полгода назад», «третьего дня» и четыре дня из жизни Голядкина. Разрыв между событиями «третьего дня» и сюжетным временем – два дня. Подробно хронологию сюжета описал В. Я. Кирпотин (Кирпотин 1960, 390–391); те же вехи «предыстории» героя выделил Г. Ф. Ануфриев (Ануфриев 1973, 40–41)
Сюжет «Двойника» развивается в точно указанных топографических ориентирах: Шестилавочная улица (квартира Голядкина) – Измайловский мост (апартаменты Берендеева) – департамент, где служил Голядкин-старший и куда поступил «новый» чиновник Голядкин-младший, – номера Каролины Ивановны, где еще полгода назад жил Голядкин-старший, где живет губернский советник Вахрамеев, где поселился Голядкин-младший вместо недавно выехавшего пехотного офицера.
«Полгода назад» Голядкин выехал из номеров Каролины Ивановны, уединился. Обособление Голядкина – первый шаг его к защите своего «я», реакция героя на стадность чиновничьего существования. Именно к этому времени титулярный советник закончил период «свободного» развития в пределах «социального своего положения» и начался неизбежный процесс обращения господина Голядкина в «ветошку». В сознание Гол ядкина проникает идея (что за идея, скажем позже), и Голядкин преступает пределы «социального своего положения» – начинает претендовать: на чин коллежского асессора, на руку Клары Олсуфьевны, дочери отставного статского советника Берендеева, бывшего своего «благодетеля». Чем это закончилось – и догадываться не надо: чин коллежского асессора получает не он, а Владимир Семенович, юный племянник начальника отделения Андрея Филипповича, он же удачливый соперник Голядкина на любовном поприще. Если в последнем пункте Голядкин действительно не конкурент, то по служебной линии он был основным претендентом на чин коллежского асессора. Тут неудаче Голядкина предшествовала интрига Андрея Филипповича, распустившего слух, имевший, впрочем, под собой кое-какие основания, – будто он, господин Голядкин, отказался жениться на «кухмистерше» Каролине Ивановне по обязательству, данному в свое время вместо уплаты долгов. Расчет оказался вернейшим: карьера Голядкина близка к краху, нравственной репутации его в доме Берендеевых нанесен непоправимый ущерб. Эффект от интриги настолько впечатляющ, что именно она вкупе с другими обнаружившимися в эти дни прегрешениями Голядкина имеет роковой исход в последний день повести, когда он узнает от Антона Антоновича Сеточкина, что его карьера окончена. Тот перечисляет четыре вины Голядкина: «хитрить» собирался вместе с двойником, скандал, второй по счету за одну неделю, устроил на балу у Берендеевых во время дня рождения Клары Олсуфьевны, отказался жениться на Каролине Ивановне по «подписке», интриговал против Голядкина-младшего.
От служебной неудачи и угрозы поражения в борьбе за руку Клары Олсуфьевны Голядкин оправиться уже не может: начинается полоса кризисного развития самосознания героя. Голядкин бунтует. «Третьего дня» он устраивает скандал в доме Берендеевых. Подробности происшествия живо передает сам Голядкин в разговоре с Крестьяном Ивановичем, с которым герой «знаком с весьма недавнего времени, именно, посетил его всего один раз на прошлой неделе, в следствие кой-каких надобностей» (Там же, 90).
События «третьего дня» для Голядкина чреваты последствиями. После этой скандальной выходки Голядкин не приглашен на званый обед по случаю дня рождения Клары Олсуфьевны. Если неудача по службе еще не катастрофа для него (он бунтует, устраивает демарш в надежде на сочувствие и понимание Берендеевых в «частной жизни»), то известие о том, что он после всего этого не приглашен на день рождения, буквально вырывает почву из-под ног титулярного советника. В таком состоянии предстает перед нами Голядкин в первой главе повести.
Достоевский назвал Голядкина «единственным, истинным героем весьма правдивой повести нашей» (Там же, 104), и хотя она плотно населена действующими лицами (только лиц со своим словом в «Двойнике» свыше двадцати – а это значит, что каждый из них – социальный тип со своей манерой изъясняться, каждый из них занимает особое положение в отношениях с героем повести), выбор героя примечателен в свете последующих художественных и идеологических поисков Достоевского.
С господином Голядкиным связаны многие важнейшие открытия писателя.
О Голядкине Достоевский сказал в 1859 г.:
«…величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником» (Д18, 15.1; 259).
Позже, в 1875 г., он назвал его:
«…мой главнейший подпольный тип» (РГАЛИ.212.1.11. С. 171).
Внешне старший Голядкин незатейлив в своих устремлениях. Всего-то ему нужно, чтобы другие признали его право быть самим собой в частной жизни, к повышению чином и награждению достойным – в официальных делах.
О том, что сам Голядкин не без греха, не имеет особых заслуг и личных достоинств, ему напоминают и этим корят ближние и начальство.
Как и все «подпольные» герои Достоевского, господин Голядкин не так прост, как рекомендует себя он сам:
«Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив…» (Д18, 1; 121).
Таким Голядкин хотел бы быть, но не мог – был другим. Каким? – тут многое в Голядкине, в его поступках требует объяснения.
Так, в начале «Двойника», пока не ясна идея Голядкина, некоторые поступки героя повести могут показаться по меньшей мере странными, если не поступками сумасшедшего. Чего стоит хотя бы поведение Голядкина в карете или поведение его на балу! Или Голядкин в отношениях к Кларе Олсуфьевне Берендеевой – ведь тут одни странности: Голядкин претендует на ее руку и постоянно попадает в щепетильные обстоятельства, из которых он выходит странным образом – не оскорбляясь и не обижаясь на доставшиеся «щелчки судьбы». «Амбициозный» Голя дкин лишен в этих случаях самого главного – самолюбия. Или не менее интересный момент: Голядкин нигде не изображается в повести влюбленным. В «Двойнике» нет описаний любовных страданий титулярного советника. Даже в знаменательный момент чтения письма от «Клары Олсуфьевны» реакция Голядкина на письмо меньше всего напоминает чувства влюбленного. Чего стоят, например, такие рассуждения «влюбленного» Голядкина против «безнравственного воспитания» «молоденьких девиц»: «…так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность?» (Там же, 181). Это отрывок, но в таком духе выдержана вся обличительная тирада господина Голядкина.
Что же это такое – амбиция без самолюбия, сватовство без любви?
«Странности» объяснимы, если принять во внимание «идею-чувство» Голядкина, из которой и вытекает попытка сватовства и реакция Голядкина на свои неудачи. Идея Голядкина прямо не названа, но Достоевский дважды подсказывает ее «проницательному» читателю. Внимательного читателя должна озадачить одна издевательская реплика двойника, повторенная им дважды – в сцене в кофейной и в сцене изгнания Голядкина из дома генерала («его превосходительства»), куда титулярный советник пришел искать защиты после своего служебного фиаско. Дважды Голядкин-младший издевательски кричит Голядкину-старшему: «Прощайте, ваше превосходительство!» А двойник знал после их начального сближения, чем можно дразнить господина Голядкина, как больнее ему досадить! И действительно, эти завершающие предательские удары двойника чувствительнее всего для Голядкина: они метят в идею его.
Реплика озадачивает. Текстом повести ее объяснить нельзя: в «Двойнике» нет ни одной сцены, разъясняющей смысл ее. А между тем – это узловой момент философской концепции «Двойника»! Не желая высказаться прямо, скорее всего не только по цензурным, но и по эстетическим соображениям (из чувства художественного такта, например), Достоевский отсылает читателя этой репликой к одному эпизоду романа «Бедные люди» – к сцене вызова Макара Девушкина в кабинет его превосходительства. В «Бедных людях» генерал облагодетельствовал Макара Девушкина и, не давая ему припасть к своей генеральской ручке, жмет руку своему «меньшому брату»:
«…взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же как сам, генералу» (Там же, 73).
В первом романе Достоевского идея равенства людей (с генералом на равной «социальной ноге») возникает подспудно, лишь в авторском самосознании. Макар Девушкин не обольщается ею даже в момент пожатия генералом своей руки – заметьте, всё-таки «недостойной», но из этой сцены вырастает трагический социальный эксперимент героя «Двойника».
У Голядкина есть «подпольная» идея. Герой уверовал в идею абсолютной ценности человеческой личности, в идею равенства людей, или, если воспользоваться выражением Н. А. Добролюбова, он помыслил «о соблазнительном равенстве друг с другом» (Добролюбов 1963, 7; 252)[8]8
Эти слова критика цензура изъяла при первой публикации статьи «Забитые люди» в журнале «Современник» (Там же, 575, ср. 570). Думать «о соблазнительном равенстве друг с другом» было явным вольнодумством даже в l861 г., не говоря уже о цензурных условиях в николаевскую эпоху. Приходилось же Достоевскому жаловаться в письме брату на то, как проходил цензуру «Господин Прохарчин»: «Прохарчин страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово чиновник, и Бог знает из за чего; уж и так всё было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Всё живое исчезло. Остался только скелет того что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести» (Д18, 15.1; 83). Из сказанного ясно, почему Достоевский, подвергая произведения «самоцензуре», придавал такое значение намекам, почему ему приходилось иногда подсказывать, а не говорить прямо.
[Закрыть]. Более того, он пытается утвердить себя подобным образом в обществе, и попытка сватовства – это своего рода социальный эксперимент героя повести, дерзнувшего преступить пределы «социального своего положения». Еще до начала сюжетного развития этот эксперимент повести обещает закончиться катастрофически. Уже есть предзнаменование: после скандальной выходки «третьего дня» Голядкин не приглашен на званый обед по случаю дня рождения Клары Олсуфьевны. Начинается полоса кризисного развития самосознания героя. Голядкин смятен, но продолжает надеяться, что это только недоразумение, и ставит перед собой цель – попасть на день рождения Клары Олсуфьевны. Заявиться неприглашенному неудобно и Голядкину, и, желая приободрить себя, он подает свой визит «респектабельно»: одевается во все «новехонькое», вызывает карету на весь день.
В карете, в столь необычном для титулярного советника средстве передвижения по Невскому проспекту, Голядкин вознамерился заявиться к Берендеевым, сделав вид, что ничего не произошло, ничего между ними и не было. При успехе этого предприятия визит задал бы новый тон в их отношениях – «семейственный», или, как говорил Голядкин, «сан-фасон» («без церемоний»).
Карета ставит Голядкина в необычное положение – карета свидетельствует о его покупательной способности. Голядкин опьянен новым ощущением и в кризисном состоянии («не приглашен!») бессознательно позволяет себе многое. Не удержавшись, он развивает лихорадочную деятельность в лавках Гостиного двора: имея всего 750 рублей, сторговывает товара на тысячи – и уходит, обещая за отложенным товаром заехать позже и «задаточек в свое время»[9]9
Примерно та же ситуация развита Я. П. Бутковым в повести «Невский проспект…» (I848) – ср.: Чистова 1971, 109–110. Правда, этот эпизод творческих связей Буткова и Достоевского в статье не отмечен.
[Закрыть]. И так длилось до тех пор, пока не надоело и «Бог знает по какому случаю, стали его терзать, ни с того ни с сего, угрызения совести» (Д18, 1; 97).
Надежда и ощущение тщетности своих забот – вот доминанты полярных настроений Голядкина до тех пор, пока слуга Олсуфия Ивановича не заявляет ему:
«Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!» (Там же, 100).
Смятение Голядкина перед фактами, опрокидывающими его идею, Достоевский передает психологически тонко и с большим художественным тактом – через все более и более усиливающееся отчуждение сознания Голядкина от проявлений внешней деятельности его. Сознание подчас не контролирует поступки героя, которые все чаще совершаются Голядкиным «машинально», поступки его определяет не воля, а некая «пружина» внутри титулярного советника. Именно на такой интерпретации психической деятельности героя повести создана сцена проникновения Голядкина на бал с черного входа, его приключений там и окончательного изгнания его из дома Берендеевых.
По меткому наблюдению В. Майкова, Достоевский «бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинизацию человеческих чувств, мыслей и дел» (Майков 1891, 327).