Текст книги "Еврейский легион (сборник)"
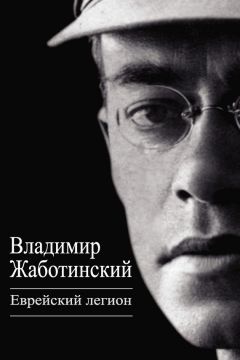
Автор книги: Владимир (Зеев) Жаботинский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Евреи в Европе
Чужие. Очерки одного «счастливого» гетто
Выпуская эти письма о римском гетто, считаю нужным прибавить лишь несколько слов.
Я полагаю, что нет страны, где евреям жилось бы лучше, нежели в италии. Здесь евреи достигли всего, о чем могут мечтать те из нашего племени, которые видят идеал нашего счастья не в создании самостоятельного нашего государства, а в полном равноправии на чужой земле. Итальянские евреи пользуются самым полным, самым идеальным равноправием.
Я попытался изучить это равноправие и счастливое гетто. Я думаю, что сделал это совершенно беспристрастно, не стараясь исказить правду ради предвзятых поводов; если бы я нашел, что тамошние евреи действительно счастливы в своей свободе, я бы заявил об этом совершенно открыто, ибо полагаю, что и без 40 тысяч итальянских евреев можно устроить еврейское государство в Палестине.
Но, вглядываясь беспристрастно, я убедился, что тамошние евреи все-таки глубоко и мучительно сознают себя чужими среди чужого коренного населения. Поэтому я посвящаю свои очерки римского «счастливого» гетто «недругам сиона», зовущим нас к ассимиляции, и говорю им:
– Вот ваш идеал. Полюбуйтесь!
Собственно говоря, гетто уже не существует: оно снесено. До 1870 года это был целый городок у самого берега Тибра: грязный, зловонный, весь перепутанный узенькими извилистыми переулками, где толстому человеку трудно было пройти. Вступивши в Рим, итальянцы занялись его чисткой, потому что весь он был в грязи и пахуч, и прежде всего снесли гетто, хуже которого действительно не было места во всем городе. Теперь там, где был еврейский городок, осталась огромная невымощенная площадь, совершенно пустая. Только в одном углу ее достраивают новую синагогу, а в другом всегда, особенно под вечер, кишит и галдит еврейская беднота вокруг лотков с арбузами и жаровен с каштанами.
Однако и теперь еще можно составить себе понятие о том, что такое было старое, настоящее гетто. Для этого достаточно пройти по улицам, соединяющим пустую площадь и центр города. Эти улицы несколько шире старых: одному толстому человеку здесь легко пройти, но двум все-таки трудно. Стены домов высокие, старые, точно насквозь чем-то пропотевшие. В стенах густо прорезаны лавочки, похожие на пещеры, и двери с узенькими лестницами, уходящими куда-то вверх. В замке св. Ангела я видел келью, где была заточена отцеубийца Беатриче Ченчи, и другую, где сидел волшебник Калиостро, и маленький каменный мешок, в который бросили еретика Джордано Бруно: в этой страшной тюрьме тоже узенькие и крутые лестницы. Но лесенки гетто уже, круче и темнее тех.
Солнце здесь не гостит: внуки гетто сами ходят к нему в гости на площадь. Но у их отцов не было этой площади, а была только густая путаница темных тропинок среди темных просырелых стен, и поэтому у нынешних детей на лице написано, что они выродки многих поколений, лишенных солнца. У этих людей, особенно у ребятишек, землистые, худосочные лица в веснушках; они часто до иллюзии похожи на тех зеленоватых еврейчиков из Литвы, которые приезжают в Одессу сдавать экзамен за шесть классов, и на их отцов. На их отцов особенно, потому что и здесь они промышляют тою же национальной индустрией – ходят по улицам и кричат хриплыми голосами:
– Robbi vecchi! Старые вещи!
Они же разносят маслину, они же продают на улице гребенки и запонки, дешевые платочки, галстуки и воротнички; они же ночью собирают по улицам тряпки и окурки сигар, и, в довершение сходства, римляне дали им прозвище «mordegá», и в гетто мне объяснили, что это есть не что иное, как оскверненное имя Мордехай. Совсем как в России:
– Эй, как тебя, Мордко! Поди-ка сюда, покажи свои товары! Я был несколько раз у них в синагоге (scuola) – не в новой, которая еще достраивается, а в старой, или, вернее, в старых, потому что их пять. Я видел две. Первую они называют minhag kastiliani, вторую minhag italki. Они делятся на две секты, вернее, на два толка (minhag) – итальянский и испанский. Разница, кажется, та, что «итальянцы» короче молятся. В верхней «школе» я слышал субботнее богослужение, с органом и невидимым хором, как в костелах. Женщины сидели между мужчинами: я подумал было, что это уступка духу времени, но потом узнал, что в старой «школе» хоры, отведенные для дам, слишком тесны, зато в новой синагоге овец отделят от козлищ.
Нижнюю школу, испанскую, мне показали днем. Она так же мала, как «итальянская», но гораздо красивее – потому, вероятно, что древнее: верхнюю недавно перестроили после пожара, а нижняя сохранена без перемен, кажется, с самого ХVI века.
Сакристан (шамаш), худосочный человечек с бородкой, и красивая полная молодая женщина с ребенком на руках и с толстыми кольцами на пальцах водили меня от колонны к колонне и объясняли достопримечательности.
– Как ваше имя? – спросил я у женщины.
– Арманда.
– Вы еврейка?
– Да, – сказала она и тотчас же, по обычаю римлянок, прибавила сентенцию: – Кто в какой вере родился, той и должен следовать.
– Э! – вставил сакристан, – а то как же? Иегуди родился и иегуди живи.
– А вы сионист? – спросил я.
Он наморщил лоб и стал припоминать.
– Ах, да, вспомнил… Это в Триесте, кажется, есть такой кружок: они хотят завоевать Джерузалемме?
Женщина сказала решительно:
– Я никуда не поеду. Нигде нет города лучше Рима! – И прибавила сентенцию: – Я в Риме родилась и в Риме хочу умереть…
Выйдя из гетто, я задумался об этой женщине, которая родилась в Риме и в Риме хочет умереть.
Они здесь в Италии все таковы.
Я шел однажды с приятелем по улице, было около полудня, и несколько старьевщиков, усевшись на ступенях церкви, завтракали какою-то дрянью.
– Знаешь, – сказал я приятелю, – видно все-таки по лицу, что это не итальянцы.
Мой спутник, природный итальянец и католик, посмотрел на меня вопросительно: он не понял.
– То есть как не итальянцы? – переспросил он. – А кто же они такие, по-твоему?
– Евреи.
– Так что же из того? Есть итальянцы-лютеране и методисты, и мало ли еще каких исповеданий, но они все итальянцы.
– Но разве евреи одного с вами племени?
Тогда он понял и ответил:
– В таком случае ты хотел, верно, сказать, что они не латинской крови. Это верно: не латины, но итальянцы.
Я встретил этот взгляд у всех, с кем мне здесь приходилось говорить о евреях, – и у самих евреев, и у коренных итальянцев. Они совершенно вычеркнули национальный момент из понятия «израэлит».
Только пятьдесят лет тому назад все это было иначе, по крайней мере, в Риме. Гетто на ночь запирали на цепь, и евреи не смели выходить оттуда до утра. Однажды – правда, уже давно, – когда в городе началась чума, гетто заперли на целый месяц и никого не выпускали, чтобы чума в этом очаге заразы могла насытиться и сама собою прекратиться. На масляной евреев заставляли бежать вперегонки по Корсо, с голыми ногами и с мешком на голове. Еще в первой четверти века жил здесь маркиз дель-Грилло, который в травле евреев был виртуозом: легенда рассказывает, что когда папа запретил маркизу мучить бедных mordegб, тот выпросил себе позволение хоть пошвырять во врагов Христовых «фруктами»; папа разрешил, и маркиз выбрал – сосновые шишки.
Теперь все это переменилось. Теперь здесь возможен военный министр, генерал Отголенги – еврей; бывший министр финансов Воллемборг – еврей; Сонино, предводитель консерваторов, который уже раз был президентом кабинета министров и, кажется, еще будет – еврей; Луиджи Луццатти, нынешний министр-казначей, влиятельный советчик короля, один из главных виновников нынешнего сближения между Францией и Италией – еврей; кавалер Мальвано, главный директор министерства иностранных дел и настоящий глава иностранной политики Италии при всех сменах министерств – еврей; среди судей, профессоров, сановников всякого рода, сенаторов и депутатов сплошь и рядом евреи; даже великий магистр итальянского масонства, синьор Натан – еврей.
Перемена огромная, что и говорить.
Итальянские евреи, впрочем, не задаром получили все это. Среди рук, построивших единую Италию, было очень много еврейских рук. Много евреев билось и полегло за независимость Италии. Но эта перемена в положении, хотя и нелегко заработанная, все-таки слишком громадна, чтобы не оказывать влияния на мировоззрение современного итальянского еврея. Он ассимилировался, до того ассимилировался, что даже и споры об ассимиляции здесь уже неуместны, среди этих людей с фамилиями вроде Della Seta, Piperno, Volterra, и только редко-редко Леви или Коэн.
Начните с простонародья: оно говорит на диалекте того города, где живет, без всякого акцента, хотя с особенной интонацией; оно, кроме религии, ни в чем как будто не видит разницы между собой и коренным населением; оно даже божится по-ихнему: per la Madonna [Клянусь Мадонной!]!
И дойдите до верхушек интеллигенции, которая пишет книги и разглагольствует в парламенте: это националисты, сознательные и завзятые националисты, но итальянские. Депутат Барцилаи, родом из Триеста, – пламенный «ирредентист»: он хочет присоединить к Италии Триент и Триест; он восклицает: «мои бедные братья, порабощенные австрийцами, ждут и надеются, что наша великая общая родина Италия вспомнит, наконец, о нас, о своих детях!»… Журналист Примо Леви пишет под псевдонимом «L’Italico» и говорит о сионизме так: кому угодно, пускай хлопочет о возрождении Израиля, но я лично потому только и рад своему еврейскому происхождению, что наша раса особенно склонна к патриотическим чувствам, так что в качестве еврея я особенно сильно чувствую себя итальянцем!
Силлогизм довольно замысловатый и даже… талмудический: видно, что этот итальянец – все-таки еврей…
Собственно говоря, все это очень понятно. Антисемитизма в Италии нет, Judennot’a [безвыходного положения евреев] нет, еврей признан гражданином не только на бумаге, но и de facto, на каждом шагу; дорога свободна, и если есть голова на плечах, то можно добраться куда угодно.
Правда, в стену старой синагоги вделан черный камень с библейской надписью:
«Если забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет десница моя…»
Но камень был вделан давно, и с тех пор утекло столько воды; Иерусалим далеко, а чечевичная похлебка тут, перед носом. Нельзя винить людей, если они после долгого мучительного голода ради вкусной чечевичной похлебки поддались diminution capitis [умаление личности], отреклись от своей гордости.
Я их не виню. В конце концов, только среди тех, кому горько живется, и можно вербовать сторонников для какого бы то ни было движения. Никогда еще не бывало, чтобы войско идеи состояло из тех, кому живется хорошо.
Их нельзя винить, но, глядя на них, нельзя не подумать, что все это делает больше чести итальянцам, чем евреям; и нельзя не ощутить тяжелого чувства, видя этих людей, умных, талантливых, влиятельных – и все-таки живущих не своим, но чужим, отраженным самосознанием.
Так, верно, тяжело смотреть на ручного сокола, перед которым распахнули все окна, а он, дрессированный, сидит у себя на полочке и демонстративно воротит головку от окна, от родного неба и леса, точно хочет сказать наблюдающему хозяину:
– Не беспокойся. Я на полочке вырос и на полочке хочу умереть…
Один знакомый адвокат-еврей предложил познакомить меня со здешним сионистом – почти единственным.
– А как вы думаете, – спросил я, – возможно в Риме крупное сионистское движение?…
– Гм… Как знать. Во всяком случает, это не особенно легко. Но для сионизма это имело бы, по-моему, известное моральное значение, если бы римская община примкнула к движению Исхода: ведь она древнейшая в Европе…
Я про себя подумал, что именно по этой причине и трудно ждать от римской общины присоединения к базельской программе.
Еврейская община в Риме ведет свое начало из самой глубины древности. Все государства Центральной Европы моложе ее. Первые данные о ней относятся к 160 году до P. X.
Первые еврейские поселенцы Рима были свободные иммигранты, осевшие в Вечном городе с торговыми и промышленными целями. Впоследствии римские полководцы, возвращаясь из Сирии и Палестины, стали приводить с собою пленных иудеев, которых отдавали римлянам в рабство. Но свободные римские евреи, следуя своему закону, систематически выкупали своих соплеменников из рабства. Таким образом еврейская колония Вечного города пополнялась вольноотпущенными. Внуки этих вольноотпущенников уже считались римскими гражданами, носили оружие и пользовались почти всеми правами коренных cives romani, в то же время не встречая никаких препятствий к сохранению своей веры. Еще за полвека до Р. Х. еврейская община пользовалась в Риме влиянием, против которого и тогда уже многие коренные римляне восставали.
Некто Валерий Флакк, управляя одной из малоазиатских провинций, обобрал, между прочим, иудейские храмы. Евреи пожаловались на него в Рим, и Цицерон взял на себя защиту Флакка. В этой речи pro Flacco – гл. 28 – есть такое место:
– Ты, Лелий, нарочно устроил так, чтобы этот суд происходил вблизи квартала, где живут иудеи, ибо ты хорошо знаешь, как они многочисленны, как тесно сплочены между собою и каким влиянием пользуются в народных собраниях.
Нынешние старьевщики гетто – прямые потомки этих обвинителей Флакка. Цезари то гарантировали их неприкосновенность, то воздвигали на них гонения; папы загнали их в гетто, гноили, грабили и истязали, только изредка и не надолго давая им вздохнуть, но они плотно держались друг за друга и продержались две тысячи лет.
Странная и почти невероятная, но несомненная истина: самые чистокровные римляне в настоящее время – это римские евреи. Коренные римляне-латины смешивались и с греками, и с готами, не говоря уже об этрусках и сицилийцах. В каждом из нынешних romani de Roma осталось очень мало крови тех, которые считаются его предками. Римским евреям их религия не позволяла смешиваться с иноплеменниками. Иноземные наваждения, много раз изменявшие состав коренного населения Вечного города, все прошли мимо этой небольшой общины, не посягнув на чистоту ее крови. Только в начале XVI века нахлынули изгнанные испанские евреи. Они смешались с коренными: я уже писал, что разделение на испанскую и итальянскую общины сохранилось до сего дня, но, без сомнения, браки между «испанцами» и коренными римскими евреями происходили всегда свободно. Это – единственная новая струя, введенная в кровь евреев Вечного города. Таким образом, и в их «римской» крови есть неримская примесь, но бесконечно меньшая, чем в крови римлян-латинов, которые скрещивались с иностранцами бесчисленное множество раз и до XVI века, и после. В жилах этих римлян-латинов есть, может быть, и капля еврейской крови. Известно, что в папские времена евреи-выкресты, получая все гражданские права, часто принимали фамилию крестного отца и входили в его семью. И так как выкресты всегда предпочитают крестных отцов из больших шишек и важных птиц, они вступали иногда в дома князей Колонна, князей Орсини, князей Торлониа.
Но еврейская масса, сохранив свою веру, сохранила и чистоту расы, насколько это было возможно. И теперь у этой массы на плечах два тысячелетия, прожитых в этом городе, так сказать, безвыездно. Два тысячелетия – слишком огромный промежуток, чтобы теперь здешние евреи могли с легким сердцем признать:
– Рим для нас только временное убежище. Наша родина не здесь.
«Временное убежище» и два тысячелетия – это большой парадокс для того, чтобы с ним можно было без борьбы примириться – хотя бы даже под этим парадоксом крылась святая правда…
Мой адвокат привел меня в галантерейную лавку и познакомил с хозяином, синьором Изакко С. Это и был здешний сионист – единственный, но пламенный. Он присутствовал на последнем конгрессе в Базеле.
– Делегатом?
– Нет, для себя. Делегатом? От кого? Разве здесь можно собрать сто шекеледателей? Я, кажется, единственный человек в Риме, который платит шекель.
– Почему же?
– Почему? Да поймите, что мы, здешние евреи, избегаем слова «еврей». С тех пор, как мы из гетто разбрелись по всему городу, мы даже почти незнакомы друг с другом. Нам, прежде всего, необходимо сплотиться. Я говорю им так: «У тебя есть дочь, и ты, конечно, предпочел бы выдать ее за еврея. Но где же ты найдешь этого жениха, если мы, евреи, почти не встречаемся друг с другом?» Мне, может быть, удастся достигнуть некоторого сближения в среде общины, и это уж будет много.
Я высказал изумление. Неужели та солидарность, которую констатировал еще убийца Катилины и которая 2000 лет верно прослужила цементом римской еврейской общины, могла вдруг за тридцать лет, протекшие со дня эмансипации, исчезнуть и смениться полной отчужденностью?
– Вот пример, – ответил мой собеседник. – У нас есть в Риме асессор (член управы) Марко Алатри, один из самых популярных муниципальных деятелей в городе. Он – еврей; его отец, Самуэле Алатри, был всегда заступником бедняков гетто перед папами. Марко Алатри тоже добрый человек; если к нему обратится с какой-нибудь просьбою христианин, он сейчас, несмотря на свою старость, обойдет всех сильных мира сего и все устроит и уладит. Но когда к нему обращается еврей, он говорит: «Пойдите, ради Бога, к кому-нибудь другому. Я бы рад вам помочь, но ведь люди скажут: видите, каковы эти евреи? Они всегда друг другу протежируют!»
– Но скажите, – спросил я, – эта преувеличенная боязнь солидарности предполагает в неевреях уже готовое недоброжелательство, подозрительность, которой вы как будто боитесь дать пищу. Где же это недоброжелательство? Я никогда не замечал здесь ни намека на антисемитизм.
– Антисемитизма в Италии нет, – согласился синьор Изакко, но есть все-таки что-то неуловимое и… невыносимое. Есть то, что ваш собеседник – самый образованный и свободомыслящий господин, до сих пор разговаривавший с вами очень мило и задушевно – услышав, что вы еврей, непременно почувствует что-то вроде маленького разочарования, некоторое неприятное впечатление, которое сейчас же исчезнет, но уже навсегда оставит на вас в его глазах особенную, чуть заметную отметину. Есть то, что мне вчера в одной интеллигентной семье не захотели сдать в наем две комнаты, для меня с женою, когда узнали, что меня зовут Изакко такой-то. Отказали очень вежливо, под другим предлогом, но я понял…
Признаюсь, я слышал это в первый раз. Все, что я до сих пор знал о здешней жизни, оставило во мне, напротив, впечатление полного отсутствия антисемитской струнки в итальянском характере. Даже слушая синьора Изакко, я не мог не подумать, что он преувеличивает, что у него в этом отношении болезненно раздраженная чувствительность. Но в то же время мне казалось неоспоримым, что уже одно существование этой преувеличенной чувствительности в здешних евреях, от асессора Алатри до моего галантерейщика, доказывает присутствие в атмосфере чего-то, может быть, очень легкого, почти незаметного, но недружелюбного.
Словно угадывая мои мысли, синьор Изакко сказал:
– Это, понимаете, не антисемитизм. Это простой легкий оттенок пренебрежения. Но я уверяю вас, что он невыносим для человека с нервами и самолюбием. Большинство из нас предпочитает закрывать глаза и уверять самих себя, что все идет как следует. Но я лично предпочту, при первой возможности, копать землю в Палестине, в Уганде, где угодно, только бы не жить в этом воздухе пренебрежения.
Тут он замолчал, а я стал невольно копаться в своих собственных здешних воспоминаниях, выбирая из них то, что подходило к его словам. Я вспомнил, что меня на первых порах удивляло, почему здесь почти никогда не произносится слово «еврей», хотя евреи сплошь и рядом занимают здесь важные посты и играют видные роли. Я приписывал это ассимиляции. Но не было ли это скорее желанием евреев нарочно замолчать, запрятать особенность своего происхождения, чтобы не колоть ею глаза итальянцам; не было ли это своего рода системою «ниже тоненькой былиночки надо голову клонить»; не было ли это молчание евреев признаком вовсе не того, что они искренне забыли о своем особенном происхождении, а, напротив, того, что они день и ночь помнят о своем еврействе, и боятся, и беспокоятся, и не могут отогнать мысли и опасения как-нибудь, не дай Бог, слишком намозолить глаза итальянцам и напомнить им о себе?
И я вспомнил о депутате Сальваторе Барцилаи, который так усердно «старается» на поприще ирредентизма и так охотно говорит о «своих» братьях – об итальянцах Триеста, порабощенных Австрией. И в то же время я вспомнил, что Сальваторе – Спаситель – было бы очень странное имя для еврея, если бы под ним не скрывался библейский Иошуа; и что все Иошуа в Италии называют себя Сальваторе, и все Мордехаи – Анжело, и все Хаимы – Вито, и все Шабтаи – Сеттимио, и все Авраамы – Альфредо.
Я вспомнил все это и не мог не сказать себе, что в этой игре в прятки со стороны людей, которые пользуются всеми правами политической свободы, есть много внутреннего рабства, много трусости, много ренегатства и мало сознания собственного достоинства. И что истинный и разумный друг еврейского народа скорее пожелает ему голодной, но гордой смерти, чем такого непочетного существования рыбы, которую выкинули на сушу и которая старается показать господам хозяевам, что ей очень весело на суше…
Я прожил почти три года в Риме, исходил его по всем закоулкам, познакомился с самыми разнообразными классами населения, знал все городские сплетни, прозвища, остроты и двусмысленности. Но за эти три года мне не случилось узнать римских евреев, потому что они, как таковые, прятались и избегали вслух произносить имя своей народности. Я за эти три года буквально ни разу не встретил слова ebreo ни в печати, ни в разговоре, хотя теперь знаю, что и статьи, которые я читал, были часто написаны евреями, и среди господ, с которыми я беседовал, были евреи. Эти господа усердно старались игнорировать свое происхождение, и ни один из них, зная, что я из России, где живут пять или шесть миллионов их соплеменников, не отважился, хотя бы мимоходом, спросить у меня об их судьбе или быте; и мне оттого не могло придти в голову, что эти люди – евреи, и даже их курчавые волосы и кругло прорезанные глаза как-то проходили мимо моего внимания.
Узнав этот город, привыкнув к тому, что здесь все настежь, все выносится на улицу, обо всем говорится открыто и без жеманной стыдливости, мог ли я после этого вообразить, что тут же рядом есть восемь или десять тысяч людей, которые непременно хотят что-то такое спрятать, замолчать, утопить в забвении, как неприятную или позорную тайну?
По отношению ко мне здешние евреи вполне достигли того, что составляет, очевидно, их идеал: я их не заметил. И для того, чтобы заметить их, мне пришлось специально пойти за ними, разыскать их, расспросить, чуть ли не втереться в особое доверие.
Один студент сказал мне:
– Нам неудобно подчеркивать свое происхождение, хотя бы даже для того, чтобы выразить сочувствие нашим единоверцам, когда их постигнет несчастие.
– Как так?
– Потому что, если мы будем слишком громко заявлять о себе, это легко может вызвать раздражение против нас самих со стороны окружающего населения.
Я внимательно посмотрел на него при этом, ибо мне показалось, что такую эгоистическую, невеликодушную фразу человек молодой и интеллигентный должен произнести с горечью и стыдом. Ничуть не бывало: он говорил очень просто и вразумительно, тем тоном, которым приятно излагать самые естественные и логичные соображения. И он был совершенно прав в том отношении, что говорил вещи, действительно, всем его здешним соплеменникам ясные и понятные, ибо я успел хорошо убедиться, что вся их масса думает и повторяет то же самое. Не он один, но все они сознают и в минуты откровенности говорят:
– Если мы будем громко заявлять о себе, мы рискуем вызвать раздражение.
И они предпочитают не «рисковать».
Но ведь для того, чтобы в здешних евреях до сих пор жила эта боязнь, эта потребность замолчать себя самих, не колоть глаз, для этого нужна почва: что-то такое должно иметься, или, по крайней мере, спать в настроении коренного населения, раз евреи так избегают малейшего шума, который мог бы разбудить. Что же это за таинственное «что-то»?
Я разговорился со знакомым итальянцем о римских евреях и о том, как относится к ним население. Он пожал плечами, говоря об антисемитизме.
– Мы прямо не понимаем этого термина, – сказал он, – для нас это слово лишено смысла. Мы, итальянцы, не антисемиты и не можем стать антисемитами.
Тогда я рассказал ему тот случай, о котором писал выше: как синьору Изакко в интеллигентной семье не пожелали отдать комнату в наем, когда узнали, что его зовут Изакко.
– Это не больше, как странное исключение, – ответил мой собеседник, – и, во всяком случае, даже такие исключения станут немыслимыми, как только здешние евреи додумаются до одной простой вещи.
– Именно?
– Расселиться порознь. Большинство их еще живет вокруг старого гетто, и эта сплоченность невольно напоминает населению о том, что они евреи. Рим велик, а их, как вы говорите, здесь восемь тысяч, если бы они разбрелись по всем кварталам, римляне положительно забыли бы об их существовании. Вот что надо им посоветовать!
Я не стал спорить о том, насколько это средство действительно, потому что меня не то занимало. Мне была интересна его внутренняя, бессознательная точка зрения. Сам римлянин, и хорошо зная римлян, он сказал, очень просто и доброжелательно, что евреям будет житься здесь совсем как дома, едва только римляне окончательно забудут об их еврействе. Это не антисемитизм, но это есть признание того, что, как-никак, а память о еврейском происхождении составляет некоторую помеху к полному братству, то есть, – делая строго логический вывод, – что для римлянина еврей все-таки не брат и становится братом только тогда, когда перестанет в его глазах быть евреем.
Я передал этот разговор нескольким евреям, и они сказали, что это – типичный взгляд итальянца. Я заговаривал об этом с другими итальянцами, и они все тоже повторяли, что для них антисемитизм есть нечто непостижимо странное, и что евреи в Италии могут чувствовать себя неевреями. И все это звучало так логично и доброжелательно, что у меня не осталось сомнений: да, типичный взгляд итальянца именно таков.
Наконец, одному из них я предложил вопрос о том, насколько было основательно опасение того студента:
– Если бы евреи громко заявили о себе как таковых, вызвало ли бы это в вашем населении неудовлетворение?
Он ответил:
– Гм… Приятного впечатления это не произвело бы. Сейчас же возник бы вопрос: чего им еще не достает?
Больше я не стал спрашивать. Я нашел в настроении одной стороны именно то, что вполне соответствовало опасениям другой стороны. Это совпадение ручалось за верность моих наблюдений.
И мне тогда пришло в голову еще одно обстоятельство. Три года тому назад мне случилось встретиться с секретарем здешнего албанского комитета, г-ном Бенничи. Этот албанский комитет не имел, вероятно, ничего общего с кровавыми событиями в Македонии. Дело просто в том, что в Италии живет испокон веку несколько тысяч албанских выходцев. Есть целые албанские деревни в Сицилии и, кажется, в Абруццах. Все эти албанцы вполне ассимилировались: они католики, учатся в гимназиях и лицеях, выступают адвокатами. Франческо Криспи был итальянский албанец. Я, помню, спросил у г-на Бенничи:
– В чем ваша цель?
– Мы стремимся пробудить в итальянских албанцах национальное самосознание, чтобы они почувствовали себя братьями балканских албанцев, заинтересовались ими и их литературой, занялись разработкой албанского языка, просвещением Албании и, когда настанет время, помогли албанскому народу завоевать автономию.
– Автономию или присоединение к Италии?
– Только автономию. Мы не желаем, чтобы Албанией управляли чужие люди, кто бы они ни были.
Я не следил потом за деятельностью этих комитетов и не знаю, насколько они оказались серьезны и полезны, но это не важно. Важно то, что эти комитеты старались как можно больше шуметь о себе, печатали о себе в газетах, выпускали брошюры. Итальянские албанцы, очевидно, не опасались вызвать раздражение, заявив о себе как таковых. И итальянцы, со своей стороны, не обнаружили никакого неприятного чувства, и я знаю, что албанские комитеты пользовались здесь сочувствием и симпатией. А те же самые действия со стороны евреев произвели бы «неприятное впечатление»…
Сравнение само напрашивается, и вывод ясен.
Вот этот вывод.
В Италии нет антисемитизма, потому что характер итальянского народа не благоприятствует расовой ненависти, а религиозный фанатизм отжил и, вероятно, не воскреснет; и также потому, что в Италии сорок тысяч евреев на 30 миллионов населения, т. е. совершенно незаметный процент, который не может вызвать опасения конкуренции. С другой стороны, евреи неопровержимо доказали свою любовь к Италии, приняв большое участие во всех войнах за независимость, и в патриотизме их, впрочем, здесь никому не приходит в голову сомневаться, тем более, что они сами с утра до вечера божатся и клянутся в нем.
И все-таки, если нет антисемизма, есть «что-то», какое-то неистребимое маленькое зернышко – не вражды, не ненависти, но розни, холодка, отчуждения, – и это зернышко, словно горошина в тюфяке, при всей своей крохотности не дает удобно и спокойно улечься. Здешние евреи это знают и стараются лежать смирно, чтобы горошина не очень чувствовалась, и хорошо понимают, что стоит им только зашевелиться, и горошина вырастет в нечто крупное. Поэтому здешние евреи, освобожденные, допускаемые во все почетные и выгодные двери, много и честно поработавшие для свободы своей страны и, вдобавок, немногочисленные, – все-таки должны помнить и остерегаться.
Им нельзя громко любить свое племя и громко выражать свое братское сочувствие далеким соплеменникам, ибо им нужно гарантировать себе братство коренного населения, а для этого необходимо, чтобы коренное население забыло об их еврействе.
Поэтому здешние евреи не ходят по земле своей родины гордо и звучно, как свободные граждане, которым нечего скрывать и нечего стыдиться, но они стараются скользить боком, без шума, с оглядкою, как ходят те люди, у которых заплатаны башмаки.
Тот, у кого заплата на башмаке, сознает, конечно, что бедность не порок, но все-таки старается спрятать заплату и краснеет, когда ее заметят, и страдает муками самолюбия.
Так томятся и эти люди, у которых заплата на душе.
Имя «Израиль» значит «богоборец», и действительно люди этого племени всегда и всюду боролись со старыми богами и шли в первых рядах всякой благородной новизны. Но здесь, в Италии, им теперь надо быть смирными, чтобы не вызывать неприятного чувства, и потому здесь наблюдается факт, которому вы почти не поверите: подавляющее большинство евреев, особенно студентов, принадлежит к реакционным партиям.









































