Текст книги "Ворожей (сборник)"
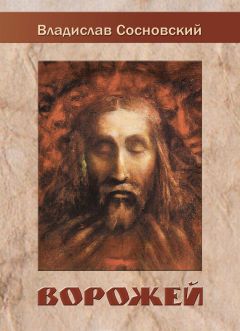
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ну вот, – тихо просиял Гегель. – Любо мне это. А то есть, которые не понимают. Я им все по-человечески объясняю, из Евангелия. Бывает – слушают, бывает – хлеба дадут, а бывает… – Философ запнулся и помрачнел. – Бывает – лицо набьют. Люди разные. Но я не в обиде. Бог им простит. Потому что хочешь – не хочешь, а зерно я зароню. Почва, правда, говорится в Книге, разная попадается. Ну да мне почву не выбирать. Голос сам указывает.
– Значит, ты истину знаешь? – спросил Хирург, с интересом разглядывая странствующего проповедника, словно впервые.
– Знаю, – испуганно, но твердо заявил Гегель. – Отчего же? Евангелия при мне. А истина одна. Возлюби Господа всем сердцем твоим и познаешь любовь к миру. Потому что все сотворено Богом единым.
Хирург еще больше полюбил Гегеля.
– Кто же тебя научил всему?
– А никто. Дал один старичок книгу. Читай, говорит, сынок. А то зубы выпадут, как у меня, а ума не прибавится. Я и стал. И такие мне ворота открылись! Веришь – иной раз плакать хочется, как голос услышу.
– Верю, – сказал Хирург и спросил Гегеля: – Зачем же ты тогда вино пьешь, раз истину знаешь и по Божьему напутствию жизнь свою ладишь?
Проповедник вздохнул.
– Грешен. Слаб и грешен. Вино пью от голода и боли. Иной раз за слова мои хлеба не дают, а вином угощают. С вином теплее. Боль тише. Много боли принимаю, на людей глядя. Как живут они неправильно, неисправно. Есть, которые имеют многое, а все им больше надо. Лгут, ругаются, злятся, беду творят. А та беда да на другую как в стопочку складывается. Глядишь, где-то земля лопнула, народ на народ пошел. Кровь льют. Почва терпит, терпит – да и вспыхнет пожаром. Так недолго и всем миром всполохнуть. И как люди того не понимают – диву даешься. А все от незнания законов. Вот я и накручиваю моталку от человека к человеку, из леса в лес, из города в город. Иначе пропадем всем народом. Будет вой и зубовный скрежет. Доходит до тебя эта иллюстрация? Любить нужно – не любят. Едят – пузо трещит. Убить – убьют. А уж поизмываться, на шее чьей-то поскакать – хлебом не корми. Обманут, обворуют…
– Ну, это уж ты больно мрачно, пожалуй.
– Что ж, мрачно… так и есть. Нет, не думай, я людям верю, иначе б ногами не ходил везде и голос не слушал. Только силен дьявол. Силен. Особенно теми владеет, которые в темноте. Вот они и черпают грехов, что икры из миски.
Помолчали, ожидая, пока уляжется сказанное.
– Давай хлебнем, – предложил путешествующий Василий.
– Вы что, сговорились? – осерчал Хирург. – Молвишь одно – норовишь другое. Это как?
– Слаб, – повторился Гегель. – Слаб и грешен. Как вина нет, я об нем не горюю. А как есть – в сердце мне словно туманом кто дышит.
– А голос?
– Голос? Не пей, говорит, Вася. Проповедуешь и допускаешь. Что же получается? Знаю, виноват. Только нет-нет, а не совладаю.
– Не годится, – сказал Хирург. – Надобно совладать.
…К вечеру, отмахав еще добрый десяток километров, Хирург с Борисом достигли искомой стоянки.
Здесь обосновались пятеро косарей, у которых все уже было слажено; кухня и три заботливо окантованных дерном палатки, погреб и даже туалет. Сразу чувствовалось, что мужики тут умелые, и руки у них растут из нужного места.
Хирурга встретили радостно. Каждый из пятерых крепко обнял его то ли по-таёжному, то ли по какому другому дружескому обычаю. С Борисом же поздоровались вежливо, но прохладно, мол, что за птица еще посмотреть надо.
Вскипятили чайник. Каждому была выдана алюминиевая кружка, на дне которой горкой лежала щедро насыпанная заварка. Затем налили в кружки кипяток, и эту крутую смесь еще некоторое время подогревали до кипения на костре. Лишь после такой процедуры косари считали таежный чай готовым к употреблению и пили полученную горечь без сахара мелкими глотками с особым кайфом. Теперь можно было начинать разговор.
– Вот что, ребята, – сказал Хирург бородатым мужикам. – Вы знаете: четверо нас прилетело. Но один парень, ни с того, ни с сего, удалился по неизвестной надобности в тайгу. Следы привели к вам. Что скажите?
– Правильно, – отозвался один пожилой Магаданский бродяга, переодевшийся, по случаю работы в тайге, в новенькое ХБ и пограничную с накомарником шляпу. – Мимо нас он никак не прошел бы. Конечно, был тута. Как же. Переночевал. А сегодня утром двинулся далее. Васька – имя?
– Василий, – подтвердил Хирург.
– Значит, он. Только знаешь, Васька этот маленько тово…
– Чего? – попросил разъяснить Хирург.
– А того, что у него шишка на голове. И главное, растет она не наружу, как бывает у людей, а вовнутрь.
Борис рассмеялся.
– Видишь, – сказал он Хирургу. – Посторонний человек, и тот сразу обнаружил, что у пастыря нашего с крышей не все в порядке.
– Ты, Боря, пей чай и помалкивай, когда старшие беседуют, – порекомендовал Хирург. – Тут твои комментарии не требуются.
– Ладно, – обиделся Борис. – В принципе, мне на твоего Гегеля наплевать. Он для меня никто. Пустое место.
– Ну, дальше, – поинтересовался Хирург у старого бича. – Как это ты шишку выявил?
– Да как… Очень просто. Васька твой, едреныть, нарисовался вчера под вечер. Ну мы-то его видели в твоем отряде перед отлетом. Спрашиваем: ты, мол, зачем тут забрел, едреныть? Заблудился, что ли? Нет, отвечает. Я здесь каждую дорогу наизусть знаю. Что же тогда, едреныть? Почему? Чего, мол, тебе тайгой колесить, когда твои мужики, небось, сейчас кровавые мозоли набивают? И тут, едреныть, как он понес ахинею, у нас у всех ухи засохли. Мол, какой-то голос ему, дураку, вещал: иди по реке через людей и проповедуй Бога. Мы с ребятами переглянулись, думаем: худо дело. Белочка, то есть горячка, человека цапнула. Я его спрашиваю: ты, едреныть, когда, мил-человек, пил последний раз. Последний раз, отвечает, принял стаканчик вместе со всеми. Как положено. Перед отлетом. Но, мол, вы не думайте, я не какой-нибудь алкогольный пропойца. Я, говорит, веру имею и должен эту веру, едреныть, людям донесть, потому что я, мол, существующий православный христианин россейский. Носитель истины и света. А вы (это мы, значится) вы, говорит, темное стадо и живете во мраке, едреныть. Потому я сейчас буду вас просветлять на примере Бога нашего. Мы обратно с мужиками переглянулись, думаем, едрена корень, кого только на Колыму не заносит. И главное, уставшие, как собаки, а тут эта холера еще выползла из леса. А Васька ваш все свое гнет. Вот ты, мне говорит, едреныть, в Бога веруешь? Тут я совсем озверел. Пошел ты, говорю, знаешь – куда. Чего ты в душу лезешь? Веруешь – не веруешь… Какое твое дело? И что мне до твоего Иисуса? Я сам себе Иисус: всю жизнь крест тащу, какой тебе, придурку, и не снился. Ну и, конечное дело, понесло меня по кочкам… бога твоего, кричу, в гробу видал в белых тапочках. Что-нибудь, едреныть, он мне хорошее по жизни сделал? Хоть я все детство свое деревенское в церкви провел. Смотрю, у Васьки вашего морду всю перекосило, он и говорит мне: стало быть, ты есть природный фарисей и отступник. Ах ты, думаю, гад… Это я – фарисей?! Ну щас я тебе скулу сворочу, едреныть. И только было собрался треснуть его по роже, гляжу, он слезами залился, как дитя малое. Я, конечное дело, сразу и обмяк. Тут только до меня и докатило: шишка у человека в голове. Здесь ничего не поделаешь, едреныть. Не доглядел ты его, Хирург. А я, видишь, обнаружил болезнь. Правда сказать, исключительно через эту нашу паскудную беседу. Смекаешь, какой бывает в человеке тайный нарост?
– Ну и дальше? – хмуро спросил Хирург.
– Дальше? Что ж, мы народ россейский, таежный, едреныть. Видим, мужик в беде. Не горюй, говорим. Утри сопли – не баба. Перед нами реветь не нужно. Мы этого не переносим. Обидеть не хотели, тем более Бога твоего. Только у нас свое, а у тебя, стало быть, свое. Подвигайся, говорим, Вася, к столу, поешь, поночуй, а завтра двинешься, куда тебя голос завет, раз уж у тебя такая путина судьбы. Вот он, значится, взял портфельчик свой дурацкий, едреныть, поклонился, перекрестился. Спаси Бог, говорит, за приют. Ну, что. Мы ему харчей накидали в заплечный мешок. Ступай, мол, едреныть, ежели ты планетарный ходячий. Только по дороге, я говорю ему, ключ поищи. Какой ключ, спрашивает. Атакой, объясняю, что к людям, когда входишь – ключ надо иметь. Потому что, мол, ты сразу темным стадом нас окрестил, едреныть. Сам пойми, кому это дело понравится. Понятно, все остальные твои слова в дурь превратились. Ясно, мы такое обращение не уважаем. Он постоял, подумал, едреныть, потом говорит: простите, наверное, вы правы. Я теперь у Бога буду прощения просить. Ну и все. Побрел дальше своей дорогой. Больше мы Василия твоего блаженного не видели. Малый-то он, видишь, неплохой, едреныть, но шишка дурная у него в голове имеется.
– А у кого она не имеется? – вдруг высказался Борис. – Человек к вам с Богом пришел, а ты ему чуть рожу не расквасил. Выходит, что вы все темное стадо и есть. Нет бы, посидеть с ним, поужинать, а там уж за чаем и выяснить, что к чему.
Бывалый в пограничной шляпе от Борисовых слов аж поперхнулся.
– Ты кого привел? – спросил он Хирурга, откашлявшись.
Целитель растерялся. Он и сам не ожидал в разговоре такого зигзага.
– Извини, Хирург, – покаялся лесной работник. – При всем нашем к тебе почитании мы твоему сопляку, едреныть, должны немножко мозги поставить на место. Правильно я говорю, мужики? – обратился он к своей бригаде.
Те молча, отложив чаевничать, начали подниматься.
Одним прыжком Борис вскочил на ноги и пружинисто встал в боевую стойку.
– Вот что, ребята, – сказал он. – Я могу положить всех вас вокруг костра за три минуты и отвечаю за свои слова. Но мне неудобно перед Хирургом. Я не хочу, чтобы он болел и переживал за нашу разборку, а потому – лучше кончим это дело миром.
– Верно, – опомнился Хирург. – Неужели драться будем, Саша? – спросил он таежного соседа. – Как-никак – столько мы с тобой… Все лето впереди, мало ли. Ваша беда – наша беда. А рассоримся – что хорошего. Ты это знаешь, не первый год вместе. На друга моего не обижайтесь: молодой, горячий.
– Добро, едреныть, – трудно согласился Саша, усаживаясь на прежнее место. Расселись и остальные воины.
– Благодари Хирурга, – высказал Борису еще один сенокосный работник, коренастый, кряжистый, по-кабаньи сильный человек. – Нам начхать на твою куньфу или еще чего. Будь у тебя хоть десять черных поясов, хоть обмотайся ими с ног до головы. Все равно зарыли бы тебя где-нибудь в тайге и ни одна курва не узнала бы, куда ты делся. Утоп в болоте, заблудился, мишка задрал. Кругом – вечность, а у тебя голова дурная.
Борис смолчал. Могло, конечно, быть и так, как разъяснил ему крепыш. За время, проведенное на Колыме, он уже знал крутой нрав северян, знал, что в случае чего они церемониться не станут.
– Значит, – сказал Хирург после затянувшейся напряженно повисшей над таежниками паузы, – с Василием у вас общего лада не получилось?
– Черт его знает, – отозвался один косарь в нахлобученной по самые глаза шапке, которую, похоже, он не снимал никогда, даже во время ночлега. – Может, он действительно с добром шел. Но нет у него той жилы – к людям войти. Понимаешь – нет. И вся песня. Ну а ежели нет – не наша вина. Пойми, пожалуйста, эту ерунду.
– Вы и баню поставить успели? – неожиданно спросил Хирург таежного соседа Сашу, так как заметил, что во время разговора с любителем шапок тот постоянно вздергивался и почесывал то спину, то грудь, то интимные места.
– Баня с прошлого года сохранилась, – сообщил Саша. – А что, помыться желаешь?
– Дай ему ножницы и бритву, – указал Хирург на чесавшегося. – Пускай все с себя состригает и сбривает. Остальным – срочно топить баню. Иначе вы все вшами покроетесь с ног до макушки. А ты, – обратился он к страдавшему от паразитов, – скидай все барахло и то, каким еще пользовался, в ведро – кипятить. Вместе с шапкой. Язв на теле нет?
– Вроде, нет, – испуганно ответил вшивый сенокосчик.
В этот момент Саша принес ножницы и бритву.
– Ну и вот, – сказал Хирург больному. – Действуй. Ступай к речке и удаляй с себя все волосы, какие есть. Понятно? Удаляй до полного голого состояния. Затем – в баню. Хлещись веником до седьмого пота. Уразумел? Не дай бог, заразишь мне тут кого-то. Шкуру спущу, – припугнул Хирург.
Но этого уже и не требовалось. Страдавший вшами на бегу судорожно сдергивал с себя одежду. Остальные принялись колоть дрова, носить из ручья воду, растапливать в баньке печь. К вечеру, распаренные, краснолицые, посвежевшие, омытые ледяной ключевой водой, мужики собрались в теплушке на веселый ужин. Усталость от былых трудов слетела с бичей вместе с многомесячной грязью, как старая мертвая кожа. Все теперь сидели разомлевшие, словно родные братья, в состоянии полного покоя и блаженства. Бывший носитель вшей был особенно радостен и не переставал восхищаться стратегическими действиями Хирурга в отношении нательных гадов.
– Сам бы я навряд от них, сволочей, избавился, – напевно басил он. Всю зиму страдал. Один раз, – ну уже невмоготу было, – сунулся в поликлинику, а там – тетка, врачиха, в золоте вся и зубы рыжие. Как заорет на меня! Катись, кричит, отсюдова! От тебя псиной воняет. Да еще вшей притащил. Я, конечное дело, сказал ей пару ласковых, потому что перед этим «Лесной воды» стаканчик выпил. А тут – мусорок откуда ни возьмись. Кинули меня в каталажку. Сутки просидел, вот и все лечение.
Выбритая голова этого, наконец излечившегося, по имени Афанасий, была теперь круглой и чистой, как полная луна. Он торчал у печки, помешивая кашу из концентратов, так как в наказание за тайный провоз в тайгу зловредных насекомых был назначен бригадиром Сашей регулярным поваром на весь сезон. Но Афанасий ничуть не огорчился, ибо посчитал приговор справедливым и даже лояльным. Главное – он избавился от страданий и, слава Богу, еще не успел поделиться вшами с кем-нибудь из родной бригады.
После ужина и горячего чаю всех мгновенно сморило, и вскоре лесной народ оглушал тайгу звериным храпом.
С рассветом Хирург с Борисом стали собираться в обратный путь. Было ясно, что следовать за Гегелем – дело пустое во всех отношениях. В любом случае, догнать его не представлялось возможным, потому что странствующий Василий шел верно, быстро и, похоже, нигде задерживаться особо не собирался. Это во-первых. А во-вторых, и в собственном таежном хозяйстве дел было по горло. В-третьих же, Хирург понял и удостоверился, что Гегель перемещается в пространстве не просто из любви к процессу движения самому по себе, но несет в своей чудачьей православной голове определенную благую христианскую идею, посредством которой намеревается очистить и спасти человечество. И в этом, видимо, находит оправдание своего появления на свет Божий. Ну а раз так, решил Хирург, то и пусть. Не каждый день встретишь среди мучеников жизни таких одержимых бродяг со светлой и чистой идеей души.
Соседи теперь уже прощались одинаково тепло и с Хирургом, и с Борисом, приняв его, несмотря на краткую ссору, за своего. И это тоже обогрело старого целителя, еще раз убедив его в том, что в корне своем добр, широк и незлопамятен русский мужик.
Пострадавший от вшей Афанасий, в кипяченой, еще сырой шапке, подарил в знак дружбы Борису зажигалку, сказав: «Пользовайся, земляк. Не чужие теперь. В одной бане колошматились. Вещь, – указал на подарок, – японская, долгая. Я тебе скажу: она и сырой костер запалит, в случае чего».
Борис улыбнулся, расстегнул дождевик, фуфайку, снял с пояса потаенный охотничий нож и протянул Афоне.
– Бери. С этой штукой смело на медведя можно идти. Сам делал. Сталь – высший класс. Борис нажал на кнопку и широкое вороненое лезвие мгновенно высверкнуло в его руке.
– Ухты!.. – восхитился Афанасий, но принять дорогой подарок колебался.
– Бери, бери! – настоял Борис. – Нож дарить, говорят, нельзя. Значит, я тебе так даю. Как деловой предмет. Чисто по-дружески. Дальше этим инструментом спокойно можешь голову брить.
– Что же ты себе думаешь, – сказал Афоня, – обнажая в довольной улыбке белые, ровные зубы, – я теперь до гроба лысый ходить буду? Мне еще жениться охота. На лысых бабы не особо клюют. Сам понимаешь.
– Да ты глянь на себя! – пошутил Борис. – Ты же орел! Второй Котовский. Я за тебя, приедем, любую магаданскую красавицу сосватаю.
– Ладно – врать, – совсем обрадовался «Котовский». – Туда еще дожить надо…
Пятеро таежных косарей еще долго стояли на берегу, провожая путников, шедших по краю крутого обрыва навстречу вихревой, быстротечной реке Лайковой.
Шли молча узкой тропкой. Хирург, как и раньше, впереди. Борис сзади.
Погода прояснилась. Легкие облака беспечно, словно на чьем-то дыхании, плыли в неведомую даль, то меняя очертания, то и вовсе рассеиваясь под теплыми лучами выглянувшего солнца.
«Шаман», видимый с любой стороны, сиял снежной вершиной, и Хирургу казалось, что вот это и есть Вечность. Безмолвная тайна мира, которую не выразить никакими словами, не передать чувствами, ничем не измерить и не оценить до конца. Прекрасная, неохватная Вечность, равная, может быть, той самой, куда отправляемся мы, отбыв свой срок страданий, печалей, радостей, всего того, что на земном языке называется жизнью, которая, возможно, и сосредоточена лишь в одной яркой вспышке этого неповторимого таежного утра, слитого воедино и с первым поцелуем, и снежинками на ресницах любимой, и рождением ребенка, и радостью спасения человеческой жизни.
И, глядя на умытую, сверкающую тайгу, на облитые золотым светом сопки, Хирург неожиданно пришел к заключению, будто нет у человека долгого вчера, именуемого прошлым, потому что прошлое – пролетевший сон, так или иначе отсеявший всю горечь бытия, но оставивший драгоценные крохи, какие уносятся душою в последний день за пределы мира.
Нет и завтра. Потому что завтра – иллюзия, недостижимый горизонт, столь же манящий, сколь и призрачный. К тому же – никто не знает, что с ним будет завтра.
Есть только сегодня! Вспышка размером в целую жизнь. Величина огромная, как космос, и в то же время необыкновенно малая, схожая с крупинкой пыльцы на крыле бабочки.
И что же?..
«За время этого ослепительного, но краткого сияния так много можно успеть содеять добра и так преступно мало мы успеваем сотворить его, – подумал Хирург. – Неужели Тот, Высший, непостижимый Разум был заинтересован в том, чтобы я сумел сделать гораздо меньше, чем мог?»
«Неужели тебе так было угодно, Господи?» – мысленно спросил Хирург, глядя в голубой прогал между облаков.
«Ты нужен был там, где ты был нужен», – прозвучал ответ внутри целителя.
И Хирург понял: все правильно. Значит, так назначено судьбой, а роптать и жаловаться – грех и слабость. Он пожалел об этом и достал пачку папирос.
Они остановились покурить как раз в том месте, где под обрывом натащило и сбило в одну ощеренную груду с заточенными водою остриями старые, голые бревна.
– Не дай Бог попасть в такой залом, – сказал Хирург. – Года два назад бурей навалило.
– Да уж, – согласился Борис. – Будешь, как селедка на вилке.
– Вот что, – сказал Хирург, щурясь от яркого солнца. – Не принимай мои прошлые, поучающие слова как некую мораль или хоть какое-то подобие морали. Упаси меня Бог от нравоучений. Мне всегда кажется, что я как врач должен что-то преобразовать в людях. Но не уничтожить, пойми. Не разрушить. Ничего нельзя разрушать, потому что тогда распадается целое. Это, кстати, беда цивилизации. Она постоянно что-то разрушает, и от этого человек становится неврастеником. Целое нужно беречь. Тогда все попадает на свои места. Я не хочу чему-то говорить «нет». Не хочу раздваиваться и чему-то говорить «да», а чему-то – «нет». Бог дал нам этот мир, чтобы мы принимали в нем все. И хорошее, и плохое. Видишь, с позиции обывателя или стража порядка мы – бродяги, мусор, шелуха, нарушители. Тем не менее, мы люди. Никто из нас не выбирал свою судьбу, хотя многие сделали ее собственными руками. И все равно, никто не вправе порицать нас, тем более говорить нам «нет». Я не создавал гнев, жадность, алчность и не могу это уничтожить. Могу лишь предостеречь с высоты своего опыта. И, наверное, поступаю неправильно, потому что каждый должен иметь свой личный путь. Потому что, – рассуждал уже как бы сам в себе Хирург, – небес можно достичь, когда пройдешь все круги Ада. Так что не обижайся, Боря. Иногда меня заносит, старика. Все полно смысла: наше бродяжничество, страдания, твои устремления к шикарной жизни… Без этого нет просветления. Так устроен мир.
Река впереди, перед завалом, была шире, глубже, но именно здесь, в этом месте, где сгрудились бревна, она резко сужалась, распадаясь на две ветки, одна из которых почти полностью перекрывалась остроконечным, словно поваленным, забором.
Течение тут казалось быстрее, яростнее. Вода зло кипела и бешено набрасывалась на упрямую преграду, но порушить ее, видно, была не в силах.
– Куда дальше, бригадир? – спросил Борис.
Хирург огляделся. Вокруг все также безмятежно сияла тайга, будто ей не было никакого дела до всего, что творится в мире.
– Дальше, Боря, дойдем вон до того мыса, – показал Хирург на изгиб берега в полукилометре от них, – а уж там станем перебираться на другую сторону. Там, перед переправой, посидим, подумаем каждый о своём. И – вперед.
– Это еще зачем?
– Что – зачем?
– Ну это… сидеть, думать.
– Традиция такая, Боря. Знаешь, среди сопок есть одна с очень крутым, тяжелым перевалом. Так вот сопка эта называется: «Подумай». Все шоферы, перед тем как въезжать на нее, останавливаются, закуривают и размышляют обо всей своей прожитой жизни, поскольку никому не известно – будет она, жизнь, за перевалом или нет. А нам предстоит перейти опасный брод. Что-то вроде той сопки. Сколько лет хожу через него, но никогда не знаю: доберусь ли до другого берега. Течение бешеное, и глубина почти до промежности. Вот и бредешь, как по минному полю. Сорвешься – понесет прямо на залом. Словом, получится из любого из нас, как ты сказал – селедка на вилке. Можно, конечно, обойти брод, да уж слишком далеко. И не к лицу нам.
– Это верно, – согласился Борис. – Гегель прошел, а мы что – хуже?
– Я тоже думаю – не хуже, – сознался Хирург. – Среди этой местности есть еще одна горка с очень веселым наименованием. Называется сопка: «Дунькин пуп».
Борис улыбнулся.
– И вправду, забавно. Через почему же такое наречение вышло?
– А через потому, что когда-то, впрочем, еще сравнительно недавно, по тайге бродило изрядное множество мойщиков золота. Да и с приисков нижние трудящиеся утаскивали драгметалл гораздо свободнее, чем теперь.
– Как понять – «нижние»? – поинтересовался Борис.
– Нижние – значит, рядовой, чернорабочий народ. Сегодня, в основном, тащат верхние. До которых не доберешься – мафия, политики, инкапитал, банки, в общем, известная свора. Так вот, эти нижние да вольно шатающиеся мойщики на перевале одной сопки, в которой проживала некая вдовая бабенка Дуня, меняли золото на спирт. И вот каким интересным образом. Была она, Дуняша эта, как говорили, баба сочная, аппетитная, а кроме того, имела большой, глубокий пуп. Сколько помещалось в это телесное углубление золотого песка, столько же и отмерялось пришельцу спирта. Вот с тех веселых пор сопку и прозвали «Дунькин пуп». Такая, во всяком случае, существует исторически притягательная легенда.
Пятьсот метров до брода путники одолели будто за одну минуту: ноги налились противным холодком страха, который проглотил время и обнажил черту неизвестности.
Ширина реки была здесь не больше двухсот метров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Хирургу с Борисом сесть на траву и, глядя на пенящиеся буруны, немного поразмыслить о жизни, которая могла быть продолжена лишь на противоположном берегу, а на этом она казалась зыбкой и хрупкой, как ветка ивняка.
– К тебе, Хирург, прикасалась когда-нибудь смерть? – вдруг как-то по-детски спросил Борис.
Хирург помолчал, подумав, что у него не хватило бы пальцев на руках и ногах, а может быть, и волос на голове, дабы сосчитать, сколько раз он реально ощущал ее ледяное дыхание, и коротко ответил:
– Бывало.
– У меня тоже, – понимающе признался Борис. – Один раз в Волгограде я попал под парус, перевернулась яхта. Никак не мог вынырнуть. Всплываю, а сверху парусина. Еще раз ныряю – и опять эта проклятая тряпка. И так раза четыре. Началась агония. Какие-то красные круги перед глазами. И словно молния, мысль: «Это конец». И вдруг неожиданно вынырнул. Чуть не захлебнулся воздухом. Лег на спину и начал дышать. Ты не представляешь, бригадир, какое это было счастье: просто лежать на воде, смотреть в небо и дышать. Дышать и знать, что ты жив, что смерть только лизнула тебя, будто сказала: живи, но всегда помни, я есть, я рядом. Потом, правда, еще раз один фраер финкой махнул… сломал ему руку. На том и кончилось.
– В общем, так, Боря, – сказал Хирург, поднимаясь. – Бери палку: она здорово помогает, когда равновесие теряешь. Пойдешь в трех-четырех метрах строго за мной. Ноги держи на ширине плеч. Если меня сорвет, даже не пытайся помочь: погибнем оба. Береги себя. Я же, в крайнем случае, выгребу вон на тот островок. А там уж переплыву на другой берег. Ты же иди прямо, держась на большую сосну. Если сорвешься – что есть мочи греби на тот же остров. У тебя сил хватит. Лишь бы не утащило под бревна, под те копья, где мы недавно были. Все ясно? – спросил Хирург, заправляя полы плаща в штаны.
– Ясно, – ответил Борис, постепенно осознавая, что переправа – дело не шуточное.
Хирург подошел к кромке воды, посмотрел в небо. «Благослови, Господи, – прошептал он. – Спаси и сохрани. Ради сына». Перекрестился, вошел в реку и сразу почувствовал, как ледяные струи железным обручем сжали резину сапог.
По сути, достаточно было пройти половину брода, и опасность осталась бы позади. Но именно шумные, бурлящие сто метров могли стать роковыми. Хирург понимал это, тем более что вся его жизнь прошла под каким-то зловещим ореолом смерти. Потому он двигался осторожно, выверяя каждый шаг, ибо даже столь малое пространство нового шага либо приближало, либо могло внезапно оборвать встречу с сыном. Кроме того, за ним шел Борис, которого смерть грозила поцеловать второй раз, но уже навсегда. И этого Хирург боялся не меньше, чем нелепой потери своего будущего. Он медленно пробовал носком сапога каждый булыжник, – прочно ли он улегся между другими, можно ли на него надеяться, и лишь потом опускал на камень всю ступню, обязательно страхуя себя упором палки в дно ниже по течению.
Вода уже поднялась гораздо выше коленей, и теперь требовалось особое внимание, которое до острой боли напрягало все клетки, все тело, превратившееся в один электрически гудящий ком. Хирург сосредоточил всю свою энергию на ногах, представив себе, что они – две чугунные тумбы, способные неспешно, но несокрушимо передвигаться, будь перед ним хоть Ниагарский водопад. И действительно, в какой-то момент он почувствовал эту свою несокрушимость. Шаги стали увереннее и тверже, несмотря на усилившийся поток воды. Хирург успокоено уверовал: они с Борисом пройдут. Пройдут непременно. Борис шел сзади и, глядя на Хирурга, делал все так же как он. После двадцати, тридцати оставшихся позади метров он тоже успокоился, и переправа перестала представлять для него некую смертельную опасность, о которой так серьезно предупреждал его накануне старший попутчик. Борису казалось, что телом он владеет в совершенстве и никакая потеря равновесия ему нисколько не грозит. Быстрое течение и зыбкое дно реки лишь возбуждали в нем физическое противоборство, походившее на игру или соревнование со стихией. Подумаешь, какие-то двести метров брода! Он мог бы пройти их, если бы не едва передвигавшийся впереди Хирург, минут за пятнадцать-двадцать. Не больше. Но приходилось волочиться сзади. Это раздражало Бориса.
– Командир! – резко позвал он Хирурга, стараясь перекричать шум Данковой. – Нельзя ли быстрее?!
Хирург, сосредоточенный на каждом шаге, вздрогнул от неожиданности окрика, обернулся и потерял равновесие. В следующую секунду он ощутил, как властная, могучая сила реки сорвала его с места, подбросила на волне и стремительно понесла вниз, в узкий рукав Данковой с тем завалом бревен, ощерено маячивших вдали острыми копьями.
Изо всех сил Хирург стал грести к острову, разделявшему реку на две части, но мешал плащ, мгновенно вырванный водою из брюк и неумолимо тащивший к роковому месту. Расстегиваться и сбрасывать накидку не было времени. Мешали и сапоги, которые теперь стали тяжелее железа. К тому же ледяная вода сводила мышца до судорог. Но у Хирурга не оставалось выбора: краткое время жизни стало очевидным. Напрягая все силы, он отчаянно греб и греб руками в направлении острова. Иногда ноги Хирурга цеплялись за дно, однако в этом не было спасения. Его тут же срывало снова на глубину и беспощадно сносило в узкий коридор смерти.
Оценивая расстояние до острова, скорость Лайковой и свои силы, Хирург понимал, что он не успеет не только доплыть до берега, но даже попасть в маленькое пространство реки между завалом и островом.
И все-таки, он греб из последних сил.
Хирург полностью положился на Бога, потому что Бог в работавшем еще сознании Дмитрия Валова не должен был оставить его в беде, не мог бросить Хирурга в лапы смерти. Так и не повидавшего сына. Ведь он, Дмитрий, жил чисто, не творил зла, нес свой тяжкий крест, сколько мог, и совершал в жизни только добро даже там, где, казалось, совершить его уже было нельзя.
Сейчас, в последние мгновения перед вспышкой, которая должна была отсечь от Хирурга его бессмертную душу, он различал перед собой в смешавшейся кипени воды, в кратких всплесках острова, в голубых проблесках неба лишь одно – облик сына, не однажды являвшийся к нему среди горьких лагерных снов. Сына, которого никогда не видел, а только представлял себе по своему же юному образу. Иначе, казалось Хирургу, и не могло быть: одна кровь, одна плоть, и потому Хирург работал покалеченными руками за пределами сил и возможностей. Лишь на миг он вспомнил о Борисе, подумал, как он там один. Но эта сверкнувшая мысль мгновенно растаяла, потому что думать о чем-либо или ком-либо было уже некогда. Это была неистовая, смертельная схватка с каким-то невидимым чудищем, неумолимо тащившим Хирурга на когтистые острия мертвых деревьев. Хирург чувствовал, что проигрывает, что ему не вырваться, и что кончина близка, как никогда прежде. Но и никогда прежде ему не хотелось так жить, как сейчас, когда в душе все последнее время щемяще ютились и надежда, и вера в будущее.
Хирург в последний раз взглянул, где он, и уже с каким-то смиренным спокойствием согласился на проигрыш. Сил больше не было.









































