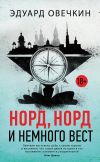Читать книгу "Сахалин"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Он волнуется, он дрожит при одной мысли, все лицо его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми.
Чтоб избегнуть возможности порки, Паклин добровольно вызвался относить тягчайшую из работ, от которой, как от чумы, бегут каторжане: предложил пойти сторожем на залив Терпения.
Бог знает, для чего существуют эти сторожевые посты в глухой тайге, на берегу холодного, бурного залива. Тайгу или море сторожат?
Жизнь на таком сторожевом посту – это одиночное заключение.
Даже беглые не заходят туда. Иногда только забредут айны, вымирающие дикари, аборигены Сахалина, зимой одетые в соболя, летом – в платье, сшитое из рыбьей кожи.
От этой «каторги» отказываются все каторжане: лучше уж пусть порют в тюрьме.
Три года выжил Паклин в этом добровольном одиночном заключении среди тайги, пока не сместили смотрителя тюрьмы. Тогда он вернулся в пост к людям, так и оставшись непоротым.
О преступлении Паклина я уже говорил (см. часть первую «Паклин»).
Теперь познакомимся с его произведениями.
– Лежу на утесе около маяка, в шестидесяти шагах от кладбища, и смотрю на гладь широкого моря. Все тихо, и грустно в груди, и душа моя томной думой полна…
Придут и здесь меня оставят, —
Враги мои, друзья мои! —
Крест надо мною не поставят,
Зароют здесь от вас вдали.
Никто ко мне уж не придет
Поплакать из родни с тоской,
На памятнике не прочтет, —
Ни сколько жил, ни кто такой…
И на курган забытый мой
Лишь соловей вспорхнет весной,
Лишь он нарушит мой покой,
Он, – восхищен весны красой,
Он будет петь, но не разрушит
Тех снов, могилы чем полны,
И песнь его уж не нарушит
Моей могильной тишины…
И там и здесь звучит та же сентиментальность, заменяющая чувство у жестоких натур.
– Такой я в те поры негодяй был! – говорил Паклин, рассказывая о прошлом.
О себе, тогдашнем себе, он отзывается не иначе, как о «негодяе».
Три года, проведенные в одиночестве, среди природы, сильно изменили Паклина. В эти три года он вел записки об айнах, которые иногда заходили к нему. Паклин приглядывался к их жизни, наблюдал, и чем больше наблюдал, тем человечнее и человечнее относился к бедным, судьбой обиженным дикарям.
«Прежде, – пишет он в своих наивных записках, – я смотрел на этих айнов, как все: не люди. Подстрелить, взять у него соболей, да и все. Но как больше присмотрелся, вижу, что это вздор и невежество. Айны такие же люди, очень хорошо между собою живут. Честные и добрые, только очень бедные. И у них есть Бог, только неправильный, а о правильном им ведь никто не объяснял. А душа у них такая же и так же молиться хочет».
Теперь от прежнего гордого, заносчивого, нелюбимого даже каторгой за презрительный нрав и за гордость Паклина не осталось и следа.
– Теперь я тише воды, ниже травы. Обидят – стерплю! – улыбаясь, говорил Паклин, и на его отталкивающем лице играет милая, добрая улыбка, – другой раз и не стерпел бы, да вспомнишь про жену и про детей, – ну и покоришься.
В Корсаковске – как я уже говорил – Паклин получил в сожительницы молодую, хорошенькую девушку, «скопческую богородицу», сосланную на Сахалин. Она народила ему детей. Паклин превратился в нежного, любящего мужа и отца, отличного работящего хозяина.
Зажив «людской жизнью», по его выражению, Паклин стал вникать в людские горести и нужды, и в его стихах, которые он писал и пишет постоянно, зазвучали иные ноты. Реже стало попадаться «я», и в стихах зазвучали, так сказать, «гражданские мотивы».
Есть кусочек земли
Между синих морей,
Обитаем зверьми
И приют дикарей.
Над ним светит луна,
Солнце греет тепло,
И морская волна
Лижет берег его.
Не было, как сейчас,
Из Руси никого,
Называют у нас
Сахалином его.
Были видны одни
Лишь вершины хребтов,
А теперь поглядишь,
Сколько сел и портов!
И теперь каждый год,
Лишь настанет весна,
«Ярославль»-пароход
Уже тянет сюда
Осужденных навек,
Негодящий народ.
Сотен семь человек
Привезет пароход.
Проворчит капитан,
Не уронит слезу:
«Ждите, осенью вам
Я сестер привезу».
Обливаясь слезьми,
Остается народ.
Уж на берег свезли,
И ушел пароход.
А на пристани к нам
Уж конвой приступил.
Толстобрюхий Адам[60]60
Тюремная кличка кого-то из служащих.
[Закрыть]
Окружной прикатил.
А за ним пешкурой
И смотритель идет.
Говорит окружной:
– Принимайте народ!
– Где же писарь? Скорей
Перекличку! – Сейчас!
– Ерофеев Андрей,
Черемушников Влас,
Разуваев Ерем!
Раздеваев Федот,
Растегаев Пахом!
По порядку идет.
Вот подходит один,
Говорит: Эге, брат!
Ты, как видно, иван,
У тебя волчий взгляд!
Ты бродяга? – Кто я?
– Говори, негодяй!
– Кто-де я?[61]61
Обычная манера бродяг не отвечать на вопрос о звании.
[Закрыть] – Вишь, свинья!
Эй, палач, разгибай!
Запорю! Водку пьешь?
– Никак нет, я не пью.
– Здесь бродяжить пойдешь,
В кандалы закую.
Мне покорен здесь всяк,
До небес высоко…
Вмиг узнаешь маяк…[62]62
Около маяка в посту Корсаковском – кладбище.
[Закрыть]
До царя далеко!
Без вины дать бы сто,[63]63
Начальник округа имеет право дать без суда и следствия, по единоличному распоряжению, до 100 розог и до 30 плетей.
[Закрыть]
Наказать бы я мог!
Для меня вы ничто,
Я вам царь, я вам Бог.
– Ради Бога, – просил меня Паклин, – напечатайте мои стихи. Пусть дойдет до людей стон заживо похороненного человека.
Таков Paklin.
IV
С бродягой Луговским я познакомился при очень трагических обстоятельствах.
Он сидел в одиночке в кандальном отделении Онорской тюрьмы и думал:
«Повесят или не повесят?»
Накануне он, писарь тюремной канцелярии, в пьяном виде убежал, захватив револьвер и «давши клятву перед товарищами» застрелить бывшего смотрителя тюрьмы, приехавшего в Онор за вещами.
Всю ночь в смотрительской квартире, где остановился и бывший смотритель, не спали, ожидая выстрела в окно. Наутро Луговского поймали.
Шел спор. Бывший смотритель, раздраженный, разозленный, кричал:
– Вам хорошо говорить – не вас хотели убить. А у меня жена, дети. Вы этого не смеете так оставить! Я губернатору донесу. Каторга и так распущена. Пусть его судят за то, что хотел меня убить. Надо дать каторге пример!
За такие деяния на Сахалине смертная казнь. Новый начальник, более мягкий, уговаривал его не начинать дела:
– Это было просто пьяное бахвальство. Высидит за это в карцере, да и все!
Эти споры тянулись двое суток.
Луговской знал о них, и, когда я заходил к нему утешить и ободрить, он со слезами на глазах и со смертной тоской в голосе говорил:
– Один бы конец! Только скорей бы! Скорей с этого света!
Преступление, за которое Луговской попал в каторгу, это то же преступление, за покушение на которое мы так аплодируем Валентину в «Фаусте».[64]64
См. Часть первая, очерк «Интеллигентные люди на каторге».
[Закрыть]
Он убил обольстителя своей сестры.
Попав за это в среду профессиональных убийц, грабителей, людей-зверей, Луговской, по его словам, «испугался» и бежал…
Под бродяжеской фамилией Луговского его поймали, «водворили на заводские работы», т. е. вновь на каторгу. И вот началось беспрерывное падение. У Луговского отличный почерк, – каторга сначала заставляла его подделывать разные необходимые ей документы, затем он начал сам этим заниматься.
– До чего доходил! За рубль, за полтинник нанимался! – рыдал, вспоминая прошлое, Луговской. – Да что за полтинник! За шапку старую, рваную нанялся документ подделать, – до того весь пропился!
Он пил, за вино готов был на все.
– А что оставалось делать? Таким я в каторгу пришел?
Он попадался. Его пороли розгами и плетьми.
И вот теперь этот «Валентин» валялся передо мной на нарах, бился, рыдал, распухший, образ человеческий потерявший от пьянства.
Бился и рыдал:
– Хоть бы поскорей с этого света! Довольно. Ничего на нем, кроме мучений, нет.
Победил в споре новый смотритель. Через два дня злость, вызванная пережитым страхом, у старого смотрителя улеглась, и он согласился на тот поворот, который, в сущности, дело и имело: угрозы Луговского были признаны просто пьяным бахвальством, и наказание за них положено – неделя карцера. «Дела» решено было не возбуждать.
Радостную весть Луговскому принес я. Он сначала не верил, потом расплакался. Ослабел как-то весь. Сидел на нарах, блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. Он говорил много-много, зарекался пить, рассказывал о своих страхах, и между прочим сказал:
– А я было совсем с землей простился. Думал на воздухе висеть, и стихи даже написал.
– А вы пишете стихи, Луговской? Он конфузливо улыбнулся:
– Малодушествую. Одно мое утешение.
И, разговорившись о стихах, указал мне своего товарища, тоже писаря, трезвого, тихого и милого молодого человека.
– У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадочка. У него и от себя прячу-с, чтоб в пьяном виде тетрадочку не растерзать. В пьяном виде я все крушить, рвать, ломать готов. В трезвом – я человек тихий, ничтожный, а в пьяном злость на меня нападает.
– Ну, а теперь вы какие же стихи, Луговской, написали?
– Какие уж у меня стихи! – улыбнулся Луговской. – Смеяться только будете. Я ведь не доучился-с. Мне бы еще учиться надо, а меня на каторгу.
– Ну, прочтите. Зачем смеяться?
Луговской достал из кармана лоскуток бумаги, на котором он огрызком карандаша написал стихи:
– Утром проснулся. О своих, которые там остались, о прежнем вспомнил, ну, написалось…
И он прочел.
Пришла пора, друзья, проститься
Мне с светом солнечных лучей
И с смертью рано помириться,
Как с морем мирится ручей.
Ручья конец в том бурном море,
И волн седых его страшась,
Журчит и стонет в лютом горе
Он, с гор по камешкам струясь.
А мой конец в житейском море,
В глуши, далеко от людей,
В стране суровой, на просторе,
Где суд свершают без судей…
Такое стихотворение написал в одиночной камере кандальной тюрьмы, ожидая петли, этот человек, ничего, кроме каторги, не видавший в жизни и писавший стихи.
В тетрадке, которую я взял почитать у его товарища, была вся его жизнь. Все, что он видел и чувствовал, складывалось в его голове в созвучии, часто убогие по форме, всегда дышавшие ужасом и скорбью.
Я приведу отрывок одного «письма из-за гроба», описывающего действительное происшествие, случившееся в 1887 г. в Хабаровске, при казни каторжанина Легких, убившего на каре надзирателя-нарядчика.
Но, невзирая на лишенья,
На трудность тягостных работ,
Нарядчик злой без сожаленья
Все больше угнетал народ.
Я не стерпел… Одно мгновенье…
Досужий час я улучил,
В минуту гнева, раздраженья
Того нарядчика убил.
И пала жертва моей мести,
Удар был верен и тяжел…
Пока неслися о том вести,
Я сам с признанием пришел.
И вот, друзья, в каюте темной
Еще с полгода я сидел,
Томясь, как прежде, думой черной,
На Божий свет уж не глядел.
Меня там судьи навещали,
Священник изредка бывал,
А что в награду обещали —
Об этом я заране знал.
Замком секретным застучали,
Приклады стукнули об пол,
И страшно, страшно прозвучали
Слова, чтоб к исповеди шел.
Священник встрел, благословляя
Меня как сына своего
И, добрым словом утешая,
Желал за гробом мне всего…
Затем палач рукой проворной
На шею петлю мне надел,
И этой петлею позорной
Отправить к праотцам хотел.
Но тут судьба мне улыбнулась,
Веревка с треском порвалась,
На миг дыхание вернулось,
И жизнь тихонько подкралась.
Не рад я был, что грудь дышала,
Не рад был видеть белый свет,
Душа моя уже витала
Далеко, – там, где жизни нет.
Я жаждал смерти как лекарства,
Искал ее, как будто мать,
Чтобы скорей свои мытарства
Ей вместе с жизнью передать…
Такими картинами полна его тетрадь, как и его жизнь! «Отхлопотавший» Луговского смотритель был страшно рад за него:
– Превосходнейший человек! Мягкий, тихий, кроткий. Только вот выпьет – в остервененье приходит. Да ему нельзя и не пить!
V
Нигде не пишут столько стихов, как в России. Спросите об этом у редакторов газет и журналов. Сколько они получают стихов, написанных, по большей части, безграмотно, каракулями. Нигде нет столько стихослагателей-самоучек.
Стихослагатель-самоучка из простонародья относится к своим стихам как к чему-то священному. Товарищи над ним подтрунивают, часто насмехаются, но втайне все-таки им гордятся:
– Вот, мол, какой в нашей артели, в нашем лабазе, в нашей лавке человек есть! Стихи писать может!
Сахалин – капля большого моря. И капля такова же, как море.
На Сахалине пишется страшная масса стихов. Сборнички этих стихов, чисто-начисто переписанные, часто с очень фигурно разрисованной первой страницей, хранятся в тюрьмах как что-то очень важное, очень ценное, у каторжан в укладочках – в маленьких сундуках, стоящих в головах на нарах, – где хранятся чай, сахар, деньги, табак, портреты близких, у кого они есть, письма из дома.
Такую тетрадочку я получал на просмотр только тогда, когда тюрьма хорошо со мной знакомилась, когда я заслуживал ее расположение и полное доверие.
Тюрьма страшно интересовалась:
– Ну, что?
И, слыша, что «стихи отличные, хоть сейчас печатать можно», тюрьма расцветала и гордилась:
– Вот, какие у нас люди есть!
По форме это по большей части подражание Кольцову.
Вот истинный русский народный поэт. Грамотность сказывается. Каторга поет как песни массу кольцовских стихотворений. И когда человек хочет вылить свои думы и чувства, кольцовская форма и кольцовский дух оказываются самыми подходящими к его душе.
По содержанию это масса обращений «к ней», к далекой «родне», к «друзьям и братьям», к своей «будущей могиле».
Страшная масса жалоб на судьбу, на людей, на окружающих, на несправедливость. Масса жалоб на утрату веры, надежды, любви. Почти никогда – самобичевание.
Это то же содержание, что и содержание всех разговоров всех каторжан.
Сахалин «создан» – и ради этого истрачена страшная уйма денег, – для исправления преступников.
Девиз этого «мертвого острова»:
– Возрождать, а не убивать.
Если исправление и возрождение немыслимы без раскаяния, то Сахалин не исполняет, не может исполнять своего назначения.
Все, что делается кругом, так страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость к самому себе, убеждение в том, что он наказан свыше меры, и в сравнении с наказанием преступление его кажется ему маленьким и ничтожным. Чувство, совершенно противоположное раскаянию!
В его уме живет эта мысль, конечно, не так только формулированная:
– Велика изобретательность человеческая по части преступлений, но до сих пор еще не изобретено такого преступления, которое заслуживало бы такой каторги, как сахалинская.
И только жалобы слышатся и в стихах.
Замечательное дело. Среди невероятной массы сахалинских стихов нет ни одного, написанного на тему о побегах. Нет ни одной каторжной песни, написанной на эту тему. Старая, теперь совершенно забытая острожная песня:
Звенит звонок. На счет сбирайся.
Ланцов задумал убежать.
С слезьми с друзьями он простился,
Проворно печку стал ломать.
Эта песня осталась единственной.
Я собрал, кажется, все, что написано в стихах на Сахалине, и напрасно искал:
– Нет ли чего про побеги?
Побег – это затаенная мечта каторжника, последняя надежда, единственное средство к избавлению, для тюрьмы «самая святая вещь», о побегах не только не пишут, о них не говорят.
Самая оживленная задушевная, откровенная беседа в тюрьме моментально умолкает, как только вы упомянули о побегах.
Об этом можно только молчать.
Это слишком «священная» вещь, чтобы о ней говорить даже в стихах.
VI
Сахалинская каторга создала свою особую эпическую поэзию.
Это цикл «Онорских стихотворений», разбросанных по всем тюрьмам. «Илиады» Сахалина.
Это отголоски онорских работ, знаменитых, бессмысленных, бесцельных, нечеловеческих по трудности, сопровождавшихся ужасами, массой смертей, людоедством.
По большей части такие стихотворения носят название «Отголоски ада».
Часто неуклюжие по форме, они полны страшных картин.
Я приведу вам отрывки такого «отголоска», принадлежащего поэту – многократному убийце, отбывавшему каторгу на онорских работах.
Это стихотворение написано левой рукой: работы были так тяжки и смерть в тундре так неизбежна, что автор этого стихотворения взял топор в левую руку, положил правую на пень и отрубил себе кисть руки, чтобы стать «неспособным к работе» и быть отправленным обратно в тюрьму. Такая страшная форма «уклонения от работ» практиковалась на онорской просеке нередко.
Вот отрывки из этих «отголосков ада». Картина при рубке тайги.
Там, наповал убит вершиной,
Лежит, в крови, убитый труп…
С ним поступают, как с скотиной,
Поднявши, в сторону несут.
Молитвы, бросив, не пропели…
На них с упреком посмотрел
Лишь ворон, каркнувший на ели,
На зов собратий полетел…
А вот другой отрывок, описывающий людоедство среди каторжных, случаи которого были констатированы на онорских работах официально:
И многие идут бродяжить,
Сманив товарищей своих.
А как устал, – кто с ним приляжет,
Того уж вечный сон постиг.
Убьют и тело вырезают.
Огонь разводят… и шашлык…
Его и им не поминают.
И не один уж так погиб.
Таких картин полны все «отголоски ада».
VII
Юмор – одна из основных черт русского народа.
Не гаснет он и среди сахалинского житья-бытья, воспевая «злобы дня».
Служащие презирают каторгу.
Каторга так же относится к служащим.
Пищей для юмора поэтов-каторжан являются разные «события» среди служащих.
Жизнь сахалинской «интеллигенции» полна вздоров, сплетен, кляуз, жалоб, доносов. Там все друг с другом на ножах, каждый готов другого утопить в ложке воды. И изо всякого пустяка поднимается целая история.
История обязательно с жалобами, кляузами, часто с доносами, всегда с официальной перепиской.
Эта переписка в канцеляриях ведется писарями из каторжан же. И, таким образом, каторга знает всегда все, что делается в канцеляриях, знает и потешается.
Из массы юмористических «злободневных» стихотворений я приведу для примера одно, описывающее «историю», наделавшую страшного шума на Сахалине.
«История» вышла из-за… курицы.
Курица, принадлежащая жене одного из служащих, пристала к курам, принадлежавшим жене священника.
Жена служащего и ее муж увидели в этом «злой умысел» и обратились к содействию полиции.
Полицейские явились во двор священника и отнесли «инкриминируемую курицу» на место постоянного жительства.
Священник в таких действиях полиции, конечно, усмотрел оскорбление для себя.
И пошли писать канцелярии.
Жалобы, отписки, переписки посыпались целой лавиной, волнуя весь служащий Сахалин.
Я сам слышал, как господа служащие по целым часам необычайно горячо обсуждали «вопрос о курице» и ждали больших последствий:
– Еще неизвестно, чем курица кончится!
Тюрьма немедленно воспела это в стихах. Вот отрывки.
Супруга служащего жалуется своему супругу:
Ах, мой милый, вот беда!
Я вчера курей смотрела;
И та курица, что пела,
Помнишь, часто петухом,
Ведь пропала! И грехом,
Как потом я разузнала,
Прямо к батюшке попала.
И теперь уж у попа
Куриц целая копа…
Служащий «обратился к содействию полиции», и та поспешает «водворить курицу на место жительства»:
Пот ручьем с них лил, катился,
И песок как вихорь вился
Из-под их дрожащих ног…
Знать, досталось на пирог!!!
Священник в это время выходит из дома и…
И лишь он ступил во двор,
Что же видит? О, позор!
Снявши фраки, сбросив сабли,
Руки вытянув, что грабли,
Полицейский с окружным
Словно пляшут перед ним!
И, нагнувшись до земли,
Ловят курицу они…
Чем кончится история, вы знаете.
Канцелярии пишут.
Служащие волнуются и ждут «от курицы последствий».
Тюрьма потешается, читает стихотворение поэта-каторжника.
А в курятнике, по словам стихотворения, происходит следующее:
А в тот миг на куросесте,
Сидя с курицами вместе,
Так беглянка говорила:
– И зачем меня родила
В белый свет старуха-мать!
Не дадут и погулять!
И что сделать я могу?
Чуть что выйдешь к петуху,
А глядишь, – тут за тобой
Вся полиция толпой!
Так развлекают каторгу.
Преступники-душевнобольные
В посту Александровском вы часто встретите на улице высокого мужчину, красавца и богатыря – настоящего Самсона. Длинные вьющиеся волосы до плеч. Всегда без шапки. На лбу перевязь из серебряного галуна. Таким же галуном обшит и арестантский халат. В руках высокий посох.
Он идет, разговаривая с самим собою. Выражение лица благородное и вдохновенное. С него смело можно писать пророка.
Это Регенов, бродяга, душевнобольной.
На вопрос:
– Кто вы такой? Он отвечает:
– Сын человеческий.
– Почему же это так?
– Мой отец был крепостной. Его все звали «человек» да «человек». Отец был «человек», значит, я сын человеческий.
В те дни, когда Регенову не удается удирать из-под надзора в пост Александровский и приходится сидеть в психиатрической лечебнице, в селе Михайловском, он занимается целые дни тем, что пишет письма «к человечеству».
Первым вопросом его при знакомстве со мной было:
– Вы из-за моря приехали?
– Да.
– Скажите, да есть ли там человечество?
– Есть! Регенов с недоумением пожал плечами.
– Странно! Я думал, что все померли. Пишу, пишу письма, чтобы водворили справедливость, – никакого ответа!
«Правды нет на свете» – это пункт помешательства Регенова.
– Оттого даже французский король пошел бродяжить! – поясняет он.
– Как так?
– Так! Нет нигде правды, он и сделался бродягой. Сказался чужим именем и бродяжит.
– Да вы это наверное знаете?
– Чего вернее!.. Скажите, во Франции есть король?
– Нет.
– Ну, так и есть. Ушел бродяжить. Разве без правды жить можно?
У Регенова в психиатрическом отделении отдельная комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконник к нему слетаются голуби, которых он кормит крошками. В комнате с ним живет и собака, с которой он иногда разговаривает часами:
– Бессловесное! Человечество говорит, что у тебя замечательный нюх. Отыщи, где правда. Шерш!
На голых стенах два украшения: скрипка, из которой Регенов время от времени, в минуту тоски, извлекает душу раздирающие звуки, «чтобы пробудить спящие сердца», и на почетном видном месте висит палочка с длинною ниткой.
На вопрос, что это, Регенов отвечает:
– Бич для человечества.
Регенов очень тих, кроток и послушен, с доктором он вежлив, предупредителен и любезен, но тюремное начальство ненавидит, считая его «вместилищем всяческой неправды».
Есть одна фраза, чтоб привести этого кроткого и добродушного человека моментально в неистовое бешенство. Стоит сказать:
– Я тебе Бог и царь!
Надо заметить, что для сахалинской мелкой тюремной администрации есть одно «непростительное» слово – «закон», – когда его произносит ссыльнокаторжный. В устах каторжанина это слово приводит их в неистовство.
– Это не по закону! – заявляет каторжник.
– Я тебе дам «закон»! – кричит вне себя мелкий сахалинский чинуша и топает ногами. – Я тебе покажу «закон»!
Зато у них есть любимое выражение:
– Я тебе Бог и царь!
Я слышал, как это кричали не только помощники смотрителей тюрем, но даже старшие надзиратели!
При словах «я тебе Бог и царь» глаза Регенова наливаются кровью, синие жилы вздуваются на побагровевшем лице, он вскакивает с воплем:
– Что? Что ты сказал?
И бывает страшен. При его колоссальной силе он действительно может Бог знает чего наделать.
Другое слово, которое приводит Регенова в исступление, это:
– Терпи!
Он страшно волнуется даже при одном воспоминании об увещевателях, которые приходили увещевать его в тюрьмах.
– Ты ешь, пьешь, гуляешь, хорошо тебе говорить: «терпи».
Рассказывая мне об этих увещеваниях, Регенов разволновался и так ударил кулаком по столу, что от стола отлетел угол. Было жутко.
Регенов с 18 лет по тюрьмам. До 18 лет он под своей настоящей фамилией Толмачев служил в поварятах, а затем вдруг пришел к убеждению, что «правды нет на свете» и ушел, «как французский король», бродяжить. Регенов – его бродяжеское прозвище. Как бродяга он попал на каторгу. Он никого не убил, никого не ограбил и на вопрос:
– Вот вы любите правду, правду и скажите: этих дел за вами нет?
Отвечает не то что с негодованием, а с изумлением:
– Да разве это можно? Разве это «правда»?
Но при колоссальной физической силе, водворяя правду, он натворил Бог знает сколько буйств, нанес невероятное число оскорблений, «бунтовал» неисчислимое число раз. И сколько наказаний вынес этот строптивый, дерзкий, буйный арестант-бунтарь! Так прошло 25 лет. Бегая с каторги, с поселений, принимая за побеги плети и розги, Регенов прошел всю Сибирь и добрался до Хабаровска. В Хабаровске он сидел в кабаке, когда туда вошел квартальный. Все сняли шапки, кроме Регенова.
– Ты почему не снимаешь шапки?
– А зачем я здесь перед тобой буду снимать шапку? В кабаке все равны. Все пьяницы.
– Да ты кто такой?
– Бродяга.
– Бродяга?! И смеешь еще разговаривать? Да знаешь ли ты, что я тебе Бог и царь?!
Угораздило квартального сказать эту фразу, «ходовую» не только на Сахалине, но и во всей Сибири. Что тут только наделал Регенов, Бог его знает!
– Все бил! – кратко поясняет он, вспоминая об этом случае.
Его взяли как бродягу, осудили на полтора года на каторгу и затем на поселенье за бродяжество, с телесным наказанием за побеги, и сослали на Сахалин.
На Сахалине, с его нравом и с его силой, он был сейчас же зачислен в число опаснейших каторжников. Он беспрестанно бегал из тюрьмы, и, когда Регенов, Коробейников и Заварин – теперь они все трое в психиатрическом отделении – появлялись где-нибудь на дороге, им навстречу посылали отряд.
– Регенов, Коробейников и Заварин идут из Рыковского! – эта была страшная весть, и пока это трио не ловили, чиновники остерегались ездить из Александровска в Рыковское.
Этот сумасшедший богатырь действительно может наводить ужас. Несколько лет тому назад он зашел в здание карантина, когда там была только что пригнанная партия ссыльнокаторжных женщин, ожидавшая, пока их разберут в сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна из каторжанок, да и ей, видимо, понравился силач-красавец.
Регенов решил «начать жить по правде».
– Уне есть человеку едину быти.
Выгнал всех баб из карантинного сарая, выкинул все их вещи, оставил только понравившуюся ему каторжанку и объявил:
– Кто хоть близко подойдет к карантину – убью.
Сарай окружили стражей, но идти никто не решался.
И Регенов живой бы не дался, и у нападающих были бы человеческие жертвы.
Решили взять его измором. Несколько дней длилась осада, пока каторжанка, изнемогшая от голода, сама не сбежала, воспользовавшись сном своего сумасшедшего друга.
Тогда Регенов переколотил в «карантине» все окна, переломал все скамьи и нары и ушел, разочарованный и разогорченный. О женщинах с тех пор он не желает даже слышать:
– Разве они могут по правде жить? Им бы только жрать!
В самый день моего отъезда с Сахалина ко мне, в посту Александровском, явился Регенов:
– Пришел проститься. Увидите человечество, скажите…
– Да вы спрашивались, Регенов, у доктора?
– Нет.
– Как же вы так? Опять поймают!
– Нет!
Регенов добродушно улыбнулся.
– Не беспокойтесь. Я на этот случай все телефонные столбы выворотил.
Селенье Михайловское соединено с постом Александровским телефоном.
– Шел по дороге да столбы и выворачивал, чтоб не могли сказать, что я ушел. Все до одного, и проволоки даже перервал.
Увы! Любитель правды не солгал: это была правда.
При таких деяниях Регенову приходилось плохо на Сахалине. И так длилось до 1897 года, когда на Сахалин впервые был командирован «не полагающийся по штату» психиатр, и впервые же было устроено и психиатрическое отделение. Психиатр, едва посмотрев на «неисправимого» арестанта-бунтаря, сказал:
– Господа! Да ведь это сумасшедший.
И посадил его в свое отделение, которое быстро наполнилось: только в 1897 году в посту Александровском среди каторжан оказалось 73 сумасшедших.
В психиатрическом отделении Регенов быстро успокоился, стал кроток и послушен и только иногда буйствует, входя в соприкосновение с тюремной администрацией.
– Уж его всячески стараюсь отдалить от всяких соприкосновений и столкновений! – говорил мне психиатр. – Многие и до сих пор не хотят понять, что он сумасшедший. А ему бы двадцать пять лет тому назад следовало здесь сидеть.
Когда я после беседы об увещеваниях выходил из комнаты Регенова, ко мне подошел небольшого роста подслеповатый человек.
Близорукость вообще развивает подозрительность. Плохо видя, что кругом делается, близорукие всегда держатся немного настороже. Но этот уж был сама подозрительность, даже по внешности.
Он потихоньку сунул мне в руку бумажку, пробормотав:
– Прочтите и дайте законный ход!
И отошел.
– Помягшев! – тихо сказал мне доктор. – Вероятно, донос на меня!
Так и оказалось. Принимая меня за «заведующего всеми медицинскими частями», Помягшев обвинял всех докторов острова Сахалина «в повальном и систематическом отравлении больных ради корыстных выгод».
Каждый раз, как мне приходилось бывать в больнице, Помягшев крался за мной и высматривал откуда-нибудь из-за угла, как я беседую с доктором. А через несколько дней попал донос доктору уже на меня. Бумага адресована «господину сахалинскому генерал-губернатору», и в ней сообщалось, что «я, заведующий всеми медицинскими частями, из корыстных видов сошелся с докторами в целях дурного питания арестантов и присвоения себе причитающихся им денег».
Помягшев титулует себя таинственным репортером Горюновым и издает в психиатрическом отделении рукописный журнал, с эпиграфом:
«Cum Deo».
И под названием:
«Биографический журнал „Разрывные снаряды“, в поэмах, стихах, песнях и карикатурах, составляемый таинственным репортером-самоучкою Лаврентием Афанасьевичем Горюновым».
В журнал он вписывает сентенции:
«Из слабых людей составилось сильное человечество».
И там вы встретите сатирические стишки вроде следующих:
Одесский адвокат Куперник
Всех Плевак соперник,
Любит он крупные делишки,
Которые учиняют грязные людишки.
Три тысячи в час, три тысячи в час,
Крайне жалея, что мало таких у нас.
Но это «смесь», главное содержание журнала – доносы, где он сообщает, что, «имея тончайший и незвучный, но для меня достаточный слух, такого-то числа услыхал то-то». Идут обвинения докторов, администрации, надзирателей, арестантов во всяческих «преступлениях и неправдах».
Весь день, с утра до ночи, Помягшев проводит в том, что сочиняет доносы и жалобы, в которых просит «вчинить к такому-то иск и сослать на каторгу».
Это и привело Помягшева на Сахалин.
Он – мещанин одного из поволжских городов, имел домишко, заболел и начал вчинять ко всем иски и писать на всех доносы, добиваясь правды.
Это одна из самых назойливых и нестерпимых маний, очень распространенная, но мало кем в житейском кругу за болезнь признаваемая, – мания сутяжничества.
О такой мало кто и слышал!
Заболев сутяжническим помешательством, Помягшев, конечно, просудил все, что у него было, по своим нелепым искам восстановил доносами против себя все и вся и, придя в полное отчаяние, что «правды нет», решил обратить на себя «внимание правительства». Он поджег свой дом, чтобы на суде рассказать «всю правду и гласно обнародовать все свои обвинения».
Но, конечно, когда на суде он начал молоть разный вздор, не идущий к делу, его остановили. Поджог был доказан, и Помягшев попал на Сахалин.
Временами он впадает в манию преследования. Его охватывает ужас. Все кругом ему кажутся «агентами сатаны» – и он сам находится во власти того же «господина сатаны». По временам ему кажется, наоборот, что на него возложена специальная миссия «водворить правду», он впадает в манию величия и пишет распоряжения, в которых приказывает «всем властям острова Сахалина съехаться в шесть часов утра и ждать, пока я, таинственный репортер, не дам троекратного сигнала». Эти «приказы», которые он передает «по начальству», как и доносы, полны отборнейшей ругани.