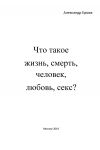Автор книги: Всеволод Гаршин
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

Оранжерея – это специальная постройка для выращивания теплолюбивых растений, которые не смогут выжить в открытом грунте. Стены и крыша у неё стеклянные или из прозрачного пластика, с узкими металлическими рамами, чтобы растения получали как можно больше света. Внутри оранжереи создаётся особый микроклимат, поскольку стекло задерживает солнечное тепло, а также есть системы полива, освещения и отопления. Оранжереи и оранжевый цвет получили своё название от одного растения – апельсина (orange).

Растения умеют улавливать углекислый газ из воздуха и воду из почвы и преобразовывать их в органические вещества – этот сложный процесс называется фотосинтез, а кислород, который образуется в результате, растениям в таких количествах не нужен, и они выделяют его в атмосферу. Кроме того, растения берут из почвы растворённые в воде органические и минеральные вещества – важнейшими для них являются соединения азота, фосфора и калия, в меньших количествах нужны магний, кальций и сера, а также крошечные количества многих элементов таблицы Менделеева – их называют микроэлементами.

Атталея – род семейства Пальмовые, включающий около 70 видов, произрастающих в тропических областях Америки. Внешне это типичная пальма с неразветвлённым стволом и кроной из крупных перистых листьев на верхушке. Местное население использует в хозяйстве волокна этой пальмы. За пределами естественного ареала атталеи культивируются как декоративные оранжерейные растения. Латинское название нашей героини – атталея принцепс – созвучно и родственно слову «принц», его можно перевести как «лидер, вождь, идейный вдохновитель».

Саговая пальма произрастает в тропиках Юго-Восточной Азии. Это небольшая пальма высотой до 9 м, с толстым стволом, из которого получают саго – важный компонент питания местных жителей, содержащий крахмал. Кактусы – растения Южной и Северной Америки. Они запасают влагу в стеблях (в зависимости от вида они чаще похожи или на шары, или на столбы, а их листья превратились в колючки). Именно кактусы создают характерный пейзаж американских пустынь. Соседство кактуса и пальмы в одной оранжерее с точки зрения ботаники странно – у них разный температурно-влажностный режим.

Папоротники – очень древняя и разнообразная группа растений. Древовидные папоротники играли важную роль в предыдущие геологические эпохи – они появились в девонском периоде (около 400 млн лет назад). У всех папоротников особые листья – вайи – сначала они свёрнуты улиткой, а по мере роста раскручиваются и распрямляются, а по сути своей – это система видоизменённых побегов. В умеренных широтах растут только травянистые папоротники, но в тропиках не редкость древовидные папоротники, внешне напоминающие пальмы с «кроной» из характерных папоротниковых листьев.

В оранжереях тоже есть свои сорняки – как правило, сорняки из открытого грунта в оранжереи «не допускаются», но некоторые оранжерейные растения размножаются очень активно. Как правило, их оставляют в качестве почвопокровных растений – почва, покрытая растениями, меньше иссушается, что создаёт более благоприятную среду для корней, да и растительные композиции выглядят намного естественнее, ближе к природе. Чаще всего в оранжереях всё заполоняют селагинеллы – они относятся к плауновидным, и цимбалярия постенная – однолетнее цветковое растение из семейства Норичниковые, с мелкими цветками и округлыми листьями, напоминающими листья пеларгонии – «комнатной герани».


Юг бывает разный в плане климатических условий (пустыни – это тоже юг для жителя средней полосы), и чёткой закономерности между географией и величиной листьев не может быть. А вот между размером листьев и влажностью определённая зависимость есть. Растения, которые привыкли жить при достаточном количестве влаги, обычно имеют крупные листья – например, это растения дождевых тропических лесов или берегов водоёмов. В засушливых местах, там, где влага в дефиците, растения вынуждены её экономить – листья не только уменьшаются в размерах, но могут и совсем исчезнуть, превратившись в чешуйки или колючки.

У пальм мягкая древесина, но полости внутри нет, как нет и годичных колец, характерных для деревьев умеренных широт. Стволы всех видов пальм покрыты одревесневшими основаниями опавших листьев, что создаёт неповторимый для каждого вида рисунок. Если постучать по стволу, то звонкий звук характерен для здоровых деревьев (а человек научился делать звук деревьев ещё красивее – сколько музыкальных инструментов изготовлены из дерева!), а глухой звук указывает на проблемы – например, на сердцевинную гниль.

Увы, это так. Если бы тропические и субтропические растения могли выжить в открытом грунте, то не было бы ни оранжерей, ни комнатного цветоводства – в них просто не было бы необходимости. У растений умеренных широт есть адаптации к суровому климату – листопад, состояние покоя, особенности физиологии, – которыми уроженцы тропиков не обладают. Достаточно кратковременного понижения температуры до нуля (или сквозняка), чтобы тропическое растение погибло. Некоторые виды выдерживают кратковременные лёгкие заморозки, но теряют декоративность, другие погибают даже при слабых положительных температурах – на их родине такого не бывает.

То, чего не было
В один прекрасный июньский день, – а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру, – в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было ещё жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Всё почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в чёрную жирную грязь, причём из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зёрнышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во всё горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!!»
Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьёзная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повёрнутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри тёмно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.
Компания вежливо, но довольно одушевлённо спорила, причём, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.
– По-моему, – говорил навозный жук, – порядочное животное прежде всего должно заботиться о своём потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твёрдой почве: он знает своё дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжёлый шар – шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал всё, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!
– Поди ты, братец, со своим трудом! – сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отёр пот со своего измученного лица. – И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, всё равно, для своих жученят; не все так счастливы… попробовал бы ты потаскать брёвна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, всё трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..
– Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своём навозном шаре; это даже невежливо. Мир – мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нём есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с неё-то вижу, что миру нет конца.
– Верно, – глубокомысленно подтвердил гнедой. – Но всем вам всё-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своём веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста… За версту отсюда есть деревня Лупарёвка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, – это такой город, двадцать восемь вёрст отсюда, – так там сено лучше и овёс дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом… А то есть ещё Александровка, Белозёрка, Херсон-город тоже… Да только куда вам понять всё это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да всё-таки значительная часть.
И гнедой замолчал, но нижняя губа у него всё ещё шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это всё равно, что для человека семьдесят седьмой.
– Я не понимаю ваших мудрёных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, – сказала улитка. – Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он всё ещё не кончается. А за этим лопухом есть ещё лопух, а в том лопухе, наверно, сидит ещё улитка. Вот вам и всё. И прыгать никуда не нужно – всё это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и больше ничего.
– Нет, позвольте, отчего же? – перебил кузнечик, – потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница…
– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница: – я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.
– Для какой там ещё будущей жизни? – спросил гнедой.
– Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?
Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.
– К твёрдым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал, наконец, кузнечик. – Не желает ли кто сказать ещё что-нибудь? Может быть, вы? – обратился он к мухам, и старшая из них ответила:
– Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.
– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны…
Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало её хвост к земле.
Это пришёл за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил её. Одни мухи улетели обсасывать свою мёртвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повёл его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причём приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.
А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:
– Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.
И она была совершенно права.
Справочное бюроТемпературная шкала Реомюра сейчас практически не употребляется – её вытеснила более удобная 100градусная шкала Цельсия. Названа в честь французского учёного Рене Антуана Реомюра, который изобрёл спиртовой термометр в 1730 г. На его шкале 0 градусов соответствовал точке замерзания воды, 80 – вопреки популярному заблуждению – точка кипения спирта, а не воды. 28 градусов Реомюра соответствуют 35 градусам Цельсия – то есть день был жаркий.

Высунуть язык на поларшина (31 см) собаке, конечно, невозможно, это художественное преувеличение. У собаки нет потовых желёз, она не может потеть, а чтобы спастись от перегрева в жару или после физической нагрузки, она дышит с открытым ртом. Чем шире открыт рот – тем больше поверхность испарения и тем эффективнее охлаждение. Чем гуще и длиннее шерсть собаки – тем чаще можно наблюдать такое дыхание.

Личинки жуковнавозников питаются падалью или помётом животных, взрослые жуки – помётом или грибами, у некоторых видов взрослые особи вообще не питаются. У жуковнавозников забота о потомстве выглядит странно с человеческой точки зрения – они откладывают яйца в норку и оставляют там запас навоза для питания будущих личинок. Крупные шары, часто превосходящие в размерах самого жука, катают скарабеи священные – самый известный вид навозников. В брачный период совместное катание шаров способствует образованию пар.

Строго говоря, у кузнечиков не прыжок, а свое образный полёт, поскольку они отталкиваются ногами, но, находясь в воздухе, пользуются крыльями. Кузнечик может прыгнуть в длину на расстояние, превышающее длину его тела в 40 раз, а в высоту – на 20 длин своего тела. На передних ногах кузнечика располагаются их органы слуха – почти незаметные отверстия с перепонкой, а стрекочет кузнечик за счёт трения крыльев друг о друга – на них есть зазубрины, а принцип действия похож на смычок и скрипку.

В какой-то мере это так, и у многих народов превращение гусеницы в бабочку – это метафора перехода к загробной жизни, хотя между стадиями гусеницы и взрослой бабочки есть ещё стадия куколки. Яйца и куколки – покоящиеся стадии, и именно так бабочки переживают зиму. Обычно полный цикл превращений бабочки проходит в течение одного календарного года, но у бабочекволнянок, живущих в Арктике, гусеницы способны замерзать и оттаивать, а весь цикл длится до 14 лет. Продолжительность жизни имаго (взрослой особи) бабочки – от нескольких часов до нескольких месяцев, в среднем – 2–3 недели.

В мире существует около 6000 видов ящериц, и отбрасывать хвост умеют не все. Но обычные в России прыткая и живородящая ящерицы отбрасывают хвост, чтобы спасти себе жизнь. Они не умирают от кровотечения, поскольку мышцы очень сильно сокращаются и пережимают кровеносные сосуды. Отброшенный хвост какоето время продолжает извиваться, пугая хищника и сбивая его с толку, а ящерица успевает скрыться. Хвост затем восстанавливается, у прыткой ящерицы – за 3–4 недели, у живородящей – примерно за год, но будет заметно темнее, а вместо позвонков внутри хвоста будет хрящ.

Сказка о жабе и розе
Жили на свете роза и жаба.
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.
А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.
Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.
А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.
Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.
В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку.
– Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – Может быть, ты с ним побегаешь?
– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.
И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам – травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.
– Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра.
И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.
Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!
В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.
– Маша! – вдруг шепчет он сестре.
– Что, милый?
– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?
Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.
– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.
Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.
Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребёнка.
Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.
Её заметила жаба.
Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:
– Постой, – прохрипела она, – я тебя слопаю!
Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда – не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.
– Я тебя слопаю! – повторила она, всё глядя на цветок.
И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
– Господи! – молилась она, – хоть бы умереть другою смертью!
А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Тёмно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок…
– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила она.
Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.
Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх – и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:
– Я сказала, что слопаю, и слопаю!
Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает…
Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
– Маша, – вдруг прошептал он.
Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовёт её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.
– Что милый?
– Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне… одну?
– Можно, голубчик, можно! – Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.
– Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?
– Да, на столик. Мне хочется.
Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.
– Ах, какая гадость! – вскрикнула она.
И, схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.
Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
– Дай её мне, – прошептал он. – Я понюхаю.
Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:
– Ах, как хорошо…
Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал… навсегда.
Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.