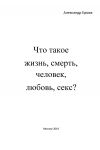Автор книги: Всеволод Гаршин
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Судя по наличию трубы, речь идёт о производстве – мануфактуре или даже небольшой фабрике. С помощью станков прядут нитки из различных материалов – в XIX в. в России были особенно распространены лён и шерсть. На современных прядильных производствах прядут и хлопок, и шёлк, и различные искусственные волокна. Тонкие волокна сырья вытягивают и скручивают в нить желаемой толщины – от тонких ниток, которые используются на изготовление тканей, до толстой пряжи для зимней вязаной одежды.

Линия и Донщина – это казачьи места. Линия – цепь пограничных укреплённых населённых пунктов, поскольку казаки издавна стояли на страже границ России, особенно южных рубежей (жизнь на Линии описана у Л. Толстого в «Казаках»). Известны Кавказская, Кубанская, Сибирская линии. Укреплённые линии сыграли роль в кавказских и крымских войнах. Донщина, официально – Область Войска Донского, субъект Российской империи, населённый преимущественно донскими казаками, охватывала почти весь бассейн реки Дон.

Во времена нынешнего изобилия, когда всё можно легко купить за деньги, бывает трудно представить, что совсем недавно уклад жизни был другим. Насколько хорошо будет питаться семья, во многом зависело от результатов собственного труда, и ещё в начале ХХ в. даже городские жители разбивали огород и держали живность – если поблизости не было пастбищ для животных, то хотя бы домашнюю птицу. Как гласит поговорка – «Была бы коровка да курочка, приготовит и дурочка» – блюда были несложными, но полезными и питательными. Главной кормилицей по праву была корова. Лошадь – главный транспорт, причём в крестьянских хозяйствах лошадей использовали и верхом, и в упряжи, и грузы перевозили.

Аналогичные поговорки существуют у многих народов – вспомним «Ворон ворону глаз не выклюет» – говорится о круговой поруке, о сокрытии ошибок ближних в обмен на такие же услуги. Волк является опасным и свирепым хищником и замечен в каннибализме – как правило, волки поедают раненых и старых особей, особенно при недостатке пищи, не брезгуют волки и собаками. Волчья стая – обычно семейная группа, потомство одних родителей разного возраста и разных поколений, в которой чётко распределены роли, а верховодит доминирующая пара. Чем многочисленнее стая – тем больше шансов добыть крупного зверя, и все члены стаи будут сыты.

Изначально скот – это собирательное название домашних животных, которые используются для получения пищи, шерсти, меха и в качестве транспорта. До сих пор употребляются термины «крупный рогатый скот» (коровы) и «мелкий рогатый скот» (козы, овцы).

Жмых остаётся после отжимания масла – это кожица, семена и мякоть в зависимости от вида. Жмых подсолнечника – побочный продукт получения подсолнечного масла – используется для корма животных и в рационе свиней составляет значительную часть. Для кормления сельскохозяйственных животных применяют также конопляный и соевый жмых.
Василий такими словами говорит, что земля у него бедная и на ней ничего не растёт. Возможно, речь идёт о таком неприхотливом и распространённом в степях растении, как прутняк, или кохия веничная (многим она знакома, поскольку широко используется в озеленении, особенно в городах), которая в природе довольствуется самыми бедными и сухими почвами.

Капуста – холодостойкое растение, некоторые разновидности выдерживают мороз до –14 °С. Однако у неё длительный период развития, поэтому капусту выращивают через рассаду. Кочан капусты – это огромная видоизменённая почка, а вот цветки и плоды капусты удаётся увидеть не всякому. Это двулетнее растение, которое зацветает только на второй год после посева.

Тальником в некоторых областях России называют ивы, особенно кустарниковые виды, а также заросли ив различных видов – как правило, несколько видов растут вместе по влажным местам и берегам водоёмов. У ивы мягкая древесина, она легко режется, когда свежая, а после высыхания становится твёрдой и хрупкой. Сердца у ивового прута, разумеется, нет, но есть сердцевина – хотя в процессе изготовления дудки удаляются и внутренние слои древесины.
Валежник – это упавшие лесные деревья и их ветви. Когда валежника много, прогулка по лесу превращается в серьёзное испытание физических возможностей. Но для лесных животных валежник – благо: под стволом и среди ветвей мелкие звери с удовольствием устраивают норы, а крупному хищнику к ним труднее подобраться. Валежник заселяют разные насекомые и мелкие животные.

Флаги до сих пор используются железнодорожниками для того, чтобы подавать сигнал машинисту поезда – их видно издалека. Помимо цвета флага и степени развёрнутости его полотнища, имеет значение также движение рук человека, производящего сигнал. Красный развёрнутый флаг – сигнал машинисту об экстренной остановке. Жёлтый развёрнутый флаг разрешает движение на малых скоростях, а в свёрнутом виде разрешает движение без остановки. Флаги используют сигналисты, дежурные стрелочных постов, дежурные по переездам, обходчики путей и проводники. Кроме того, на железной дороге используются семафоры, специальные знаки и звуковые сигналы. .

Бумажными раньше называли изделия из хлопка – ткани и верёвки. Мы до сих пор говорим «хлопчатобумажная ткань». Хлопок известен на Руси с первой половины XVII в. Волокна – это густое длинное опушение, покрывающее семена, из них не только получают ткани, но и делают вату. Культивируется четыре вида хлопчатника (Gossypium), это теплолюбивое растение относится к семейству Мальвовые. В СССР промышленные плантации хлопчатника были в республиках Средней Азии.

Художники
I. Дедов
Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!
Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тётки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю её горячее желание. Это было вчера… Какую изумлённую физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которою я делаю это, он просто разинул рот.
– Из любви к искусству?… Мм!.. Подавайте прошение.
И не сказал больше ничего, повернулся и ушёл. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?
Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб – всё показалось мне в новом свете. Всё это моё, всё это в моей власти, всё это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумлённою силою искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру ещё не убитого медведя; ведь пока я – ещё не бог знает какой великий художник…
Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал вёслами; он то нагибался вперёд, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне.
– Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу, – сказал я.
Он бросил вёсла.
– Ты сядь так, будто вёсла заносишь.
Он взялся за вёсла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвёт меня от них уже всю жизнь.
Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утёр рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится.
– Сиди, братец, смирнее!
Он усмехнулся.
– Чего ты смеёшься?
Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:
– Да чудно, барин!
– Чего ж тебе чудно?
– Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.
– Картина и будет, друг любезный.
– На что ж она вам?
– Для ученья. Вот попишу, попишу маленькие, буду и большие писать.
– Большие?
– Хоть в три сажени.
Он замолчал и потом серьёзно спросил:
– Что ж, вы поэтому и образа можете?
– Могу и образа; только я пишу картины.
– Так.
Он задумался и снова спросил:
– На что ж они?
– Что такое?
– Картины эти…
Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник был совершенно удовлетворён и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный (очень красивы эти горячие тоны освещённого заходящим солнцем кумача), и я возвратился домой совершенно счастливым.
II. Рябинин
Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить «рука на галава», потому что это «ошен классишеский поза»; вокруг меня – целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мёртвая тишина. Каждые полчаса Тарасу даётся отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из «натуры» превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я – очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из «наших корифеев», по счастливому выражению известного художественного критика г. В. С., который уже давно сказал, что «из Рябинина выйдет толк». Вот отчего все смотрят на мою работу.
Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладёт руку на голову, и мы мажем, мажем…
И так каждый день.
Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что всё это очень скучно. Но как локомотиву с открытою паропроводною трубою предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне… Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колёса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то чёрной дырой, в которой ничего не разберёшь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное – спора нет, но что это деятельность…
Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов.
Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал. Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они всё толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?
Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо ещё, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдёт к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «мм… ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесёт её от меня. Унесёт вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы.
Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь всё это, куда идёшь?
Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня ещё нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы… Несколько времени полного забвения: ушёл бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение её в исполнение доставляет наслаждение. Картина – мир, в котором живёшь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаёшь себе новую в своём новом мире и в нём чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни.
Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернёшься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: «зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мёртвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне.
– Что вы не работаете, Рябинин? – громко спросил меня сосед.
Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне, как живой.
– Я кончил, – ответил я соседу.
Кончился и класс. Натурщик сошёл с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.
– Медаль, медаль… Лучший этюд, – говорили некоторые. Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.
III. Дедов
Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский – отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седою головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться – разве это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимою, когда светло, – постоянно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом.
Вот Рябинин – другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьёзное, хотя все молодые художники – его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба), а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество.
Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина наверно продастся; сюжет – из ходких и симпатичный: зима, закат; чёрные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: всё продаётся. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину – ты художник, творец; написана она – ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.
IV. Рябинин
Я живу в Пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на подёнщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебёдки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.
Я шёл домой с Дедовым, пейзажистом… Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблён в своё искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку – и пишет реку, увидит болото с осокою – и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? – он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство своё забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег. – Посмотрите, какой котлище притащили, – сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котёл.
– Неужели у нас не умеют их делать? – спросил я.
– Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придётся здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклёпки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котёл и держит заклёпку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклёпке молотом и выделывает вот такую шляпку.
Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.
– Дедов, ведь это всё равно, что по груди бить!
– Всё равно. Я раз попробовал было забраться в котёл, так после четырёх заклёпок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да ещё в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мёрзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле – видите, красный, узкий – так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.
– Глухарям?
– Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо… Сколько тяжёлых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания… То ли дело с природою. Она не обижает, да и её не нужно обижать, чтобы эксплуатировать её, как мы, художники… Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! – вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба: – пониже, вон там, под облачком… прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так – не поверят! А ведь недурно, а?
Я выразил своё одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зелёном клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться ещё каким-то «тонком» около другого облачка.
– Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?
– Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.
Сегодня мы поехали на завод и осмотрели всё. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.
V. Дедов
Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нём и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели всё, причём я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немногое из своей профессии); наконец я привёл его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котёл и полчаса смотрел, как работник держит заклёпки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве – чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только.
Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство? То ли дело у меня! Ещё несколько дней работы, и будет кончено моё тихое «Майское утро». Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идёт с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и всё; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это – искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский «Глухарь» ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.
VI. Рябинин
Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идёт успешно. Следовало бы сказать не хотя, а тем более, что идёт успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем всё страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне ещё, что это – моя последняя картина.
Вот он сидит передо мною в тёмном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклёпок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопчённой бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котёл и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряжённое усилие, я выразил.
Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против неё. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это – не написанная картина, это – созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта «богатая область жанра» – на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарём, если только подействую…
Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только: «ну, батенька», и развёл руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушёл. Кажется, подействовало… Но ведь он всё-таки – художник.
И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота… Я от него сойду с ума. Нужно его завесить.
Полотно покрыло мольберт с картиной, а я всё сижу перед ним, думая всё о том же неопределённом и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую жёлтую полосу света сквозь пыльные стёкла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в «Фаусте», как его изображают немецкие актёры.
…Wer ruft mich?
Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь «сферы», а из душного, тёмного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трэны, крикни им: я – язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил моё…
Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат её на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди «полдней» и «закатов», рядом с «девочкой с кошкой», недалеко от какого-нибудь трёхсаженного «Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на неё не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: но где же тут изящное, скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика… Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы – те только скажут: «ah, comme il est laid, ce глухарь», и проплывут к следующей картине, к «девочке с кошкой», смотря на которую скажут: «очень, очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них…
Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли всё только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?… Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:
– Мартынов, пиши! № 112. Первая любовная сцена: девушка срывает розу.
– Мартынов, ещё пиши! № 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.
Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?
VII. Дедов
Рябинин почти кончил своего «Глухаря» и сегодня позвал меня посмотреть. Я шёл к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л-у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться её значения как произведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям.
Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу, наконец, того, к чему стремится каждый ученик академии, – золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да ещё на казённый счёт, впереди – профессура… Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.
VIII. Рябинин
Картина продана и увезена в Москву. Я получил за неё деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в «Вене». Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угóльном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот – большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своём веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угольном кабинете кутят купчики.
Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угольном номере гостиницы «Вена».
Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причём испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул.
Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт – пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот всё снова, сначала… Ах боже мой, да надо же это кончить!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.