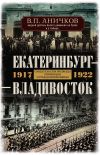Текст книги "Красный лик: мемуары и публицистика"

Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
После целого мучительного ряда подъёмов и спусков, сделавши какой-то необыкновенный сложный последний спуск, около 3-х часов дня выехали мы на ст. Михалёво. Маленькая станция, зажатая между Ангарой и крутыми берегами, она честно вместила в себе то, что могла вместить. И станция, и селение рядом были буквально заставлены конями и санями. Некоторые части, приютившиеся на улице, тут же варили своё незамысловатое хлёбово. На площади, перед домом какого-то официального сельского лица делили захваченные у красных в Иннокентьевске отличные английские попоны и одеяла. И над всей этой обыденно повышенной жизнью висел глубокий зимний белый снег. Ангара, эта быстрая, неуёмная река на наше счастье уже встала, и вдали от берега среди бело-синей равнины льда чернели барки и пароход.
Я не нагнал своего отряда, с которым расстался перед Иннокентьевской, и, как одиночке, найти себе приют было мне чрезвычайно трудно. Поэтому мы с Хамидулиным поехали по линии ж.д. вверх по р. Ангаре, чтобы найти себе пристанище в верстовой будке железнодорожного сторожа.
Это нам и удалось в версте от станции. Там, в той будке, было уже несколько офицеров, следующих своей компанией, один из них сыпнотифозный, затем ещё два-три одиночных с жёнами. Одна жена чрезвычайно сильно протестовала против новых лиц, потому что собиралась… стряпать пельмени. Подсчитали с Хамидулиным, сколько сделали мы за день. Оказалось, около 90 вёрст. Коням нужно было дать отдохнуть, почему мы решили выступить утром.
К вечеру выехали все наши соседи. Мы остались одни. Ночью, около 2-х часов проснулся я и, повинуясь какому-то тёмному, совершенно необъяснимому, звериному голосу в душе, приказал запрягать.
Где и когда русским людям, особенно русским интеллигентам до настоящего времени приходилось видеть то, что пришлось увидеть нам с Хамидулиным в ту фантастическую ночь!
Выехали мы около 3-х часов утра, под бурым, низким светом ущербного месяца. Опять, как фарфор, сияла поверхность Ангары. Впереди темнело Михалёво.
Михалёво было уже совершенно пусто. Только навоз да кострища свидетельствовали, что тут недавно были люди. Кой-где мерцали по избам лучины, лаяли собаки.
Поворотили через Ангару. Невдалеке – опять рассыпанные в беспорядке трупы убитых; то были тоже зарубленные, и кровь казалась чёрной на буром месячном снегу.
Едем дальше. Навстречу в западном направлении скачут трое всадников… Курки у нас взведены, и мы видим, как и те держат винтовки наизготовку. Кто это был, – наши ли, нет ли – так мы и не узнали…
Долго был путь по льду у правого берега быстрой Ангары. Полыньи булькали своими чёрными спинами. В нескольких местах – эти известные печальные монументы нашего пути – головы лошадей, торчащие из-подо льда.
Долго ехали мы под какой-то всё приближающийся шум. И после того как мы проехали с версту по берегу, свернувши со льда в том пункте, где было нужно, – мы поняли причину шума. На Ангаре шла наледь – вода из Байкала, четверти на две, вся окутанная туманом, шла, покрывая собою и дороги, и полыньи. Задержись мы на полчаса в Михалёвке, едва ли бы удалось нам выбраться!
Быстро мчались мы к Байкалу. Теснина р. Ангары вся была полна туманом от прорвавшейся с Байкала воды. Светало.
Бронзовые туманы, окутывавшие противоположные горы Ангары, стали свиваться в умопомрачительные зелёные лесистые веси, и вдруг нестерпимо засияли розовым светом серые шелка этих туманов.
Взошло солнце. Показался Байкал.
С чем сравнить эту бесконечную белую, льдистую поверхность Байкала, всю обставленную нежнейшими жемчужными переливами Кругобайкальских гор. Невдалеке казались они – вот-вот, а между тем до них было до 60 вёрст. Всё это ожерелье под бледно-зелёным морозным небом сияло красными, голубыми, зелёными – аквамариновыми тонами, огнями такой изумительной тонкости, нежности и прозрачности, что на сияние каких-то сказочных, небывалых, сплошь жемчужных дворцов походило оно.
А ведь кроме всяких этих красот – это был Байкал, желанная грань, отделяющая царство красных от царства белых. Ведь по мере того как уходили мы на восток, всё резче и резче выделялась фигура атамана Семёнова.
Людям, не знающим, где преклонят они вечером голову, людям обречённым, людям, уходящим от чего-то кошмарного и гнусного, – было всё равно, где найдут они избавление, где стоит тот жертвенник, за рога которого они схватятся. А кроме того, разве первые пункты, первые ожидаемые этапы не обманывали? Разве надежды на Ново-Николаевск, Томск, Красноярск, Иркутск, наконец, не пали воочию под руками глупцов, предателей и убийц?
Армия шла к атаману Семёнову как к тому последнему оплоту, последнему, который оставался ещё на Дальнем Востоке. Долетали уже быстрые вести о переворотах во Владивостоке, но ещё верилось в союзническую помощь японцев и в безжалостную силу атамана, и массам определённо импонировало это имя.
И от всего этого нас отделял лишь Байкал, сияющий жемчугом в это ясное, февральское утро…
Село Никольское по правому берегу р. Ангары и, наконец, с. Лиственичное у устья р. Ангары. Там остановились, встретились со своим отрядом, налетевшим на красных в с. Благовещенске, и шумный самовар объединил почти весь «командный состав» за беседой. Так прошёл день.
На другой день для ориентировки мы с А.Н. Полозовым и с седым воякой добрейшим Вейнбергом двинулись на ст. Байкал к чешскому коменданту. Объехали огромную полынью, у истока Ангары проехали мимо замёрзшего ледокола «Ангара», мимо полуразрушенной эстакады, куда, бывало, приставал славный «Байкал», и вылезли прямо на берег у маленькой, прижатой к скалам, станции Байкал.
Боже мой, сколько афиш было расклеено на этой станции и какими только словами не называли нас на них! И убийцы, и грабители, и тёмные силы! «Есть от чего в отчаяние прийти». Все силы, вся энергия трудового народа призывалась на борьбу с нами, все призывались на истребление «остатков каппелевских банд». Чех-комендант ещё спал, и мы имели довольно времени, чтобы вычитать все эти перлы революционного красноречия.
Прохаживаясь по платформе, увидел я троих людей, по виду мастеровых. Прямо волками смотрели они на нас, на наши вооружённые фигуры, и было страшно за то количество ненависти, которое горело в их глазах…
Я подошёл к ним. При моём приближении один из них совершено определённым жестом засунул руку в карман полушубка.
– Ну что ж, братцы, долго ли ещё будем воевать? – возможно весело спросил я их.
Те насупились и стояли молча. На повторенный вопрос один сказал:
– Ну, кончайте вот сами, а мы за вами.
– А что у вас здесь на станции порасписано? – И такие-то мы, и сякие-то… С такими-то людьми ведь мира заключать не приходится…
– Вот и дерёмся…
– Доколе ж драться? Пока сполна всех не перебьём? Может, договориться как-нибудь можно?..
– Да вы вот не договариваетесь, да уходите…
– А почему уходим?
– А Бог вас знает… Умны, должно быть…
Меня взорвало…
– Ну, умны, не умны, а вас не глупее. Не хотим с большевиками жить – жили довольно.
– Да и мы с ними жили – ничего.
– Так что ж ты думаешь, неужто вся эта сила, что мимо вас который день идёт, – всё это зря взбаламучено? А может быть, и мы кое-что понимаем? И вот, паря, попомни: придут большевики, попробуешь, – тогда и нас поймёшь… Понял?
– Понял.
– Прости.
Мы, пожав друг другу руки, расстались. Чешский комендант ст. Байкал оказался весьма любезным человеком. Узнал нам по диспетчеру, что со станции Слюдянка по неизвестному направлению вышел отряд красных в 1000 человек, что ст. Мысовая занята японцами, окапывающимися на ней.
Со стороны Никольского послышались выстрелы; то к нему подходили уже красные части. Быстро переехали мы к себе и выступили вдоль западного берега Байкала до села Голоустовского.
В это время заставы Добровольческой дивизии вели уже бой с красными, прикрывая отход.
Поехали. В серо-жемчужной, снежной мгле Байкала слева вставали отвесные, серые, мрачные Кругобайкальские горы, вплотную подходящие к самой воде. Противоположного берега сегодня не было видно. Ветер дул нам в лицо, и по озеру летела танцующая, лёгкая, белая позёмка, не только обнажающая лёд, но и сдувающая его. Открытый лёд сиял, как зеркало. Где дорога была заснежена, сани ходко подавались вперёд. Где был открыт лёд – было мучение для наших по большей части некованых лошадей.
Некованым был и у меня коренник, а у пристяжки шипы сбились. Неловкий, неосторожный шаг, накат пристяжной, бегущей по снегу, саней, и огромный конь падал и беспомощно оставался лежать. Приходилось его подталкивать к снежному острову, чтобы ему было где прихватиться ногами, и подымать.
За 45-вёрстный рейд до Голоустова пришлось подымать лошадей раз пять. И сколько их осталось лежать в спокойной позе на льду, подогнув к зеркальному льду голову, словно смотрясь на своё отражение, засыпая в последнем смертном сне…
С приближением к Голоустову вьюга стала разыгрываться всё больше; страшно было видеть, как чью-то брошенную кошёвку с поднятыми оглоблями ветер унёс по льду в серебряную мятущуюся пыль вьюги… Какой-то поезд мертвецов…
Село Голоустовское оказалось маленьким селом, приютившимся на пятачке, образованном отошедшими от берега горами. Переполнено оно было гомерически. В избах не было места, с Байкала возвращались из-за вьюги, и мы поэтому разбили бивуак на кладбище вокруг крохотной церковки.
Стемнело, загорелись костры. Долго мне будет памятна эта ночь среди угрюмой природы под завывание отчаянного ветра. С Байкала всё время доносилось громкое придушенное, тяжкое уханье – то садился, ломался его толстый лёд.
Всё село было погружено во тьму, ибо те отряды, которым удалось забраться в избы, улицы позанимали своими подводами, а костров не раскладывали. Бивачными огнями сияло только кладбище да околицы. Опыт прошедшего дня не минул даром: везде разысканы были кузницы, летели искры у горнов, гремели удары молота: то ковались подковы и подковывались лошади для завтрашнего перехода через Байкал.
Спотыкаясь через тёмные сани под вой ветра, полночи проходил я, добиваясь ковки. Наконец, с некоторым скандалом, но это было улажено. Вернувшись к месту стоянки, попал к ужину: наши убили молодого жеребёнка, сварили его в котле вместе с овсом, и эту похлёбку ели мы в часовне кладбища, озарённой несколькими свечами. Вооружённые люди в шапках сидели, лежали на полу – вообще расположились, кто как мог, курили, и темны и строги были сквозь табачный дым лики икон.
Наутро с рассветом стали выступать по расписанию начальства. Огромным треугольником с вершиною на тоненькую дорогу вытянулось сразу огромное количество саней – до нескольких тысяч… Лёд под ними ухнул, и вся эта орава понеслась в разные стороны. Несчастья, однако, не случилось, лёд выдержал.
Видя, что переправа задерживается, наш командир отряда стал искать новых путей и решил идти не на Мысовую, а на Посольскую, следующую станцию на берегу Байкала Кругобайкальской железной дороги. Расстояние было то же, изменено было лишь направление радиуса, да пришлось бы самим торить дорогу.
Взяли проводника, поехали. Путь оказался труден – нужно было пробираться через торосы, объезжать их; лошади плохо бежали по чистому льду. Отъехав верст 10–12, мы увидали, что мысовская дорога совершенно пуста: вышедшие на неё уходили очень быстро, а вытянуться на нее из-за затора было чрезвычайно трудно. Мы свернули туда, и около 5 часов вечера во мгле замаячили горы восточного берега.
Это был убийственный переход. Дул отчаянный ветер, но на наше счастье не было мороза и снег лип на дорогу. Бесконечными рядами проносились пред нами лежащие, околевающие или уже околевшие кони… Около 300 штук насчитал я их и бросил считать вёрст за 15 до берега, где они лежали особенно густо. Видны были несколько голов, зажатых в трещину, вроде как бы шахматные фигуры. Но пуще всего уныние наводили бесчисленные брошенные сани и всюду постепенно бросаемые ящики со снарядами. Полураскрытые, блестящие, аккуратные, так не вязались они с этим хаосом и разрушением.
Пришлось подобрать себе в сани со снега одного сыпнотифозного – бедняга свалился со своих саней – замерзал, говорить не мог уже и только чуть двигал рукой к летящей мимо него веренице саней. Но суров закон великих бедствий – упал – пропал. Кое-где лежали и людские трупы.
Подъехали под какой-то железнодорожный мост – Мысовая. На станции – плакаты, приказы атамана Семёнова, в которых он приветствует нас как героев и офицеров производит в следующий чин… Сведения о нас он получил от пробравшихся вперёд под видом поляков генерала Н.М.Щербакова и полковника М.Я.Савича.
Какой контраст с только что утром читаной литературой на ст. Байкал!
Японцы, действительно, охраняли Мысовую. Они глядели на нас с любопытством и так же рассматривали мы их любопытные меховые шапки. Из уст в уста передавалось, что сюда подаются Читой вспомогательные поезда с фуражом и складом и что даже тут есть милиция.
И так сильна была среди этих простых, но твёрдых людей жажда известного государственного порядка, что такие факты принимались как откровение.
Спокойно, хотя и ненадолго, вздохнула армия, очутившись, наконец, на ст. Мысовой, но вместе с этим облегчением начались и известные затруднения.
Во-первых, всё начальство почувствовало вновь себя на твёрдом базисе. Налицо была железная дорога, налицо были восстановленные известные взаимоотношения с высшей властью. Опять начался «ренессанс генералов». Под них, под каждого отдельно, стали заниматься лучшие дома. Мы, прибыв одними из последних, принуждены были сбиться в числе человек сорока в маленькую квартирку железнодорожного рабочего, где и расположились на полу. И опять полились со стороны обитателей жалобы на дороговизну, на отсутствие порядка, полились рассказы про местных интервентов-американцев, незадолго только ушедших отсюда! «Карманы у них полны денег, – говорил один рабочий, – а голова разными мыслями. Баб и девок напортили – страшное дело сколько».
С другой стороны, и армия, очутившись в таком мирном положении, не смогла сразу встать на вполне мирный путь. Привычка к «спешиванию» шуб, сена, фуража осталась неистребимой. Стали поступать жалобы на исчезновение таких мирных вещей, как серебряные ложки. Конечно, всё это не могло быть отнесено на плюс, и ропот жителей отчётливо изобразился в заявлении одного местного полковника, никогда не выезжавшего из своего городка и рассказывавшего, что они тут «хорошо жили» и что мы – смутили их покой.
Через день я уехал на санитарном поезде: переход через Байкал стоил мне ревматизма, с которым я лежал потом в Читинской общине Красного Креста.
Итак, армия осталась сзади. Из этой небольшой группы уверенных в себе, крепких людей, решившихся и отчаянных в своём решении, безусловно и прямолинейно практичных, даже жестоких в достижении своей цели, – опять переход на открытый воздух общего мнения, опять сомнения, споры, предательства, интриги и политика…
Сел я в вагон к коменданту поезда, некоему полковнику с женой, только что сделавшими наш поход. Ни одного слова нельзя было услышать от них, кроме рассказов о том, как утром они вставали, выезжали, как надо всем царил единый крик: «Понужай!». Теперь вот они в вагоне, едут к атаману, и я не видал ни одного человека во всю мою жизнь, который так бы глупо точно исполнял свои обязанности в благодарность за это. Ему, например, было запрещено подсаживать в вагон военнослужащих, и он отказывал всем, ссылаясь на то, что «его расстреляют». Этими расстрелами он просто сладострастно грассировал, как-то радуясь, веруя, что вот тут-то есть твёрдая власть.
На одной из станций к нам обратился один доктор из Ижевской дивизии, у него пала лошадь, сбрую он тащил на плечах, и он просил подвезти его несколько станций, чтобы догнать свою дивизию…
– Всякий офицер, севший в поезд, будет считаться дезертиром, – важно ответил полковник.
Доктор сказал ему дурака и ушёл в сербский вагон, шедший в составе нашего поезда, где его и посадили. Наш же комендант неуклонно проводил свою политику.
К вечеру подъехали на Дивизионную, где должен был выгружаться наш санитарный поезд. Станция была заставлена составами чешского высшего командования; между прочим, и поезд генерала Жанэна стоял тоже здесь. Там увидал совершенно случайно эшелон «Чехословацкого Дневника» и пошёл «информироваться». То, что я узнал в долгой беседе от д-ра Гербека, редактора «Чехословацкого Дневника», и ещё от одного, причастного к редакции доктора, – не поддаётся описанию.
Перво-наперво я справился, какого он мнения насчёт положения вещей здесь.
– О, латентный большевизмус, – воскликнул доктор Гербек. – Не пройдёт и двух недель – атамана Семёнова не будет. Да и сейчас одна станция (?) занята красными, вы через неё не проедете… Офицеров снимают.
На мой вопрос, как же вообще мой собеседник представляет себе положение, он ответил мне, что положение «реакционеров» безнадёжно проиграно. Что тот режим, который держится до сих пор военщиной, должен быть сменён земским, общенародным.
Необходимо при этом отметить, что слово «земский» по-чешски имело, очевидно, какой-то более широкий смысл, нежели по-русски, почему это слово и пользовалось у них таким успехом.
К такой-то власти и стремился, по словам доктора Гербека, штабс-капитан Калашников.
– Но скажите, пожалуйста, доктор, понимал ли он, что ему не удастся удержать власти в своих руках и придётся передать её налево?
– Да, беседуя с ним накануне восстания, я слышал от него, что самое страшное для него будет – если придётся поступить на службу в красную армию. И он, и его сотрудники, на случай победы большевизма, решили уйти в деревню, в учителя, кооператоры и т. д.
Таким образом, не оставляло сомнений, что эти чехи знали о готовящемся перевороте, и где – не в их ли штабах зрел и наливался он?
– Но скажите, пожалуйста, – добивался я, – вы-то сами верили, что власть в Иркутске и вообще на Дальнем Востоке останется в руках Политического Центра? Неужели не смущала вас та дряблая масса обывателей, которой решительно всё равно, куда бы её ни влекли?
– Да, я удивляюсь вашей массе, – сказал д-р Гербек, – она как будто нисколько не заинтересована в том, что происходит вокруг. Знаете, я видал семьи, которые начали пульку при старом правительстве, играли при перевороте и кончили при новом. Обладая такой инертностью, трудно что-нибудь сделать для государства.
– Так если вы понимали это, то почему же вы толкали Калашникова на предательство этих масс большевикам?
– Мы считали это лучшим уроком для масс, а во-вторых, это нам нужно в наших собственных интересах – эвакуации.
Я напомнил тогда меморандум чехов представителям иностранных держав, в котором они заявляли о невозможности служить внутри Сибири, где царят порки, расстрелы и т. п. Напомнил о поведении самих чехов и спросил, было ли и это также дипломатическим ходом.
– О, – ответил доктор Гербек, – конечно, мы сами отлично понимали, что такое военная необходимость, и к ней прибегали… Но внутри Сибири нет уже войны. Здесь уже образовался целый организм, и дело этого организма – выбрать себе голову – правительство… Конечно, опытов будет ещё много…
Я откланялся, проехал до Верхнеудинска в местном поезде и там на вокзале увидал поезд полковника Крупского. Специальный, вывозящий на восток детей и жён военнослужащих армии атамана, он был увеличен несколькими отдельными вагонами, где ехали ген. Сахаров, ген. Войцеховский и т. д. и т. д. Поезд плотно стоял на вокзале, и было неизвестно, когда он пойдёт. В настоящую же минуту всё начальство находилось на банкете, устраиваемом командующему армией начальником Верхнеудинского гарнизона.
Устроившись в поезде, стал ждать открытия «пробки», с одной стороны, в виде банкетов и пиров «по случаю», с другой стороны, в виде освобождения впереди станции от красных. На другой день было морозное, ясное утро, когда я с мучительной болью в ногах бродил по Верхнеудинску. Всё было странно и незнакомо. И сопочный пейзаж вокруг, и синева воздуха, и японские разъезды, и китайские лавчонки с их разноцветными тряпочками, и мирное шествие гимназисток и гимназистов, а пуще всего, это – спокойная жизнь.
В парикмахерской, куда пошёл побриться, разговор о подходящих каппелевцах. Имена, фамилии фантастических генералов так и сыпались. Рассказы о подвигах, один другого значительнее, – разливали морем. И откуда что бралось?
Зашёл в магазин, купил какую-то книгу. Книгу! Докуда доехали! За 4 месяца пути во власти великого русского бога –
Бог ухабов, бог метелей,
Бог убийственных дорог,
Бог ночлегов без постелей,
Вот он, вот он – русский бог.
До такой степени отвык от всего этого, что странным, душным, скучным казался этот более-менее налаженный быт.
Конечно, белья купить негде. Спасибо, надоумили обратиться к Дамскому Комитету. О, Дамские Комитеты! Что бы было с Русью, коли бы не было на Руси дамских комитетов и их микроскопически великих дел. Милые дамы-благотворительницы в белых халатах, если не ошибаюсь, в здании Общественного Собрания, снабжали нас, оборванных, грязных, всем необходимым, нисколько не смущаясь… Надо отметить, мне решительно повезло. Когда я получил свой пакет, пришло распоряжение какого-то главного начальства – упорядочить дело раздачи белья, отпустив предварительно некоторую долю этому самому начальству. Общая выдача же отныне должна была производиться по именным лишь спискам из частей, за подписью командиров оных.
Велика штука получить пару подштанников, рубаху, портянки да полотенце… Нет, так и тут нужно «бумажку»… за «подписом».
И вспомнился мне случай в пути… В поезде Американского Красного Креста до Ново-Николаевска ехало порядочное количество белья и перевязочных материалов. Я обратился туда за бинтом для Ауслендера. Уполномоченный м-р Джонсон смотрел на дело очень просто: дал мне дюжину бинтов, две смены тёплого белья… При следующей встрече я опять пошёл за бинтами и натолкнулся на следующую картину: какой-то очень полный полковник, держа на руках несколько смен отличного белья, просил весьма настойчиво дать ему ещё несколько пар, уверяя, что у него ничего нет. Джонсон грубо отказывал, говоря, что очень много белья оставили в Омске по вине русских военных властей и что больше он дать не может. Но так как полковник продолжал настаивать, он дал ему ещё несколько пар – до полдюжины…
Получив просимое, полковник весьма приятно осклабился, раскланялся и спросил:
– Расписочку прикажете написать?
– Нет, не надо, берите так, – был ответ.
О, эти привычки к расписочкам. И ведь воруют при них не меньше…
Немилосердно ныли ноги, когда после бани пришёл в гостиницу… И ночлег в гостинице, в кровати, правда, с мелкими клопами, но в простынях и с подушкой, густо усыпанных японским гениальным порошком (хризантема!), с шубой, впервые мирно висящей на шаткой двери…
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен…
Наконец, поехали. Всё выше и выше стало вздыматься от земли олимпийское начальственное небо. Проехали опасную станцию, и наш паровоз совместно с броневиком умчал одни начальственные вагоны экстренно в Читу, где был уже готов опять какой-то обед. Медленно тянулись мы до Читы; прибыли ночью, с крушением. Никаких хором «каппелевцам» предоставлено не было, или, по крайней мере, комендант обещал узнать это на следующий день. Переночевал в вагоне и устроился, наконец, в Красном Кресте, благодаря любезности доктора И.А.Болтунова.
Были морозные, ясные февральские дни, бесснежная гололедица. И ползая кое-как по Чите, оставалось собирать только лишь сведения о своих соратниках:
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Чита в это время движения Омской волны представляла некоторый регистрационный пункт – кто проехал, кто ехал и кто не доехал… События Омска за 4 месяца уже значительно поблёкли. На первом плане стояли события Иркутские. Эвакуация из Омска для тех, кто успел добраться до Иркутска, была, собственно, пустяком и прошла отменно благополучно; про Иркутск же этого сказать было нельзя, так как борьба за него продолжалась довольно долго, и в это время уходило время для ухода из Иркутска. Поэтому уход этот не для всех равно был лёгок, а так или иначе, именно падение Иркутска, а не Омска, как бы являлось олицетворением падения Омского Правительства.
Одним словом, уход из Иркутска занимал доминирующее положение, и в Чите стоустая молва ловила и называла тех, кто проследовал именно Иркутск. Ужас же положения тех, кто остался ещё сзади, кто был захвачен красными до Иркутска, стал выясняться, осаживаться только по окончании транспортирования Иркутска…
Таким образом, «далече» оказались многие. Из тех же, которые были налицо, значительное число, все министры проследовали весьма быстро через Читу, не задерживаясь в ней. Общественных деятелей выехало мало, и в Чите остановились люди только определённо правого лагеря, вся заслуга которых была в том, что «мы говорили». Здесь уже находился князь А.А. Крапоткин, подъехали и другие. И вот, на фоне своеобразного читинского уклада, на фоне специфической военной канцелярии, но не обычно распущенной, а скованной внутренним единством своего казачьего уклада, закалённого и закреплённого в годы гражданской войны, начинают пускать корни и слабые ветви отпрыски омских речей и подъёмов последнего периода.
Если Омск как-никак, а представлял из себя однородную массу, скипевшуюся идеологически-открыто вокруг одного пункта, то про Читу нельзя сказать этого. Условиями самими поставленная в необходимость находиться в более спокойной атмосфере, пользующаяся широко чужестранной помощью, ловко и макиавеллистически управляемая, – она не могла дать ни резонанса, ни отзвука тем особенным словам, которые родились в её аудиториях от «беженцев». Это было видно ещё и тогда, в дни нашего первого пребывания в Чите, и это осталось и потом. Общественности не суждено было расцвесть в Чите, хотя всё лето 1920 года было наполнено судорожными попытками таковой.
Вокруг Читы остались и осели, кроме того, учитывающие момент, и это была некая новая группа, во главе с омским министром А.М.Окороковым, сменившая начавших разбегаться уже непосредственно семёновских деятелей.
Не могла в этом деле помочь и забитая, ничтожная читинская пресса, находившаяся под анекдотическими цензурными условиями. И вполне понятно, почему первый вал, осевший было в Чите под атаманом, постепенно схлынул потом в сторону Харбина. Чита фатально, несмотря на акт 4 января за подписью Верховного Правителя, передавшего атаману Семёнову власть, не могла стать заместительницей Омска; и российской общественности, ещё сохранившей кое-какие остатки свои, было суждено долго веяться по ветру, ибо ни интернациональный Харбин, эта китайская Женева, ни сбитый с толку Владивосток не могли стать для неё центром.