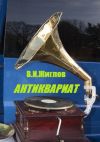Текст книги "Роммат"

Автор книги: Вячеслав Пьецух
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
3
На последнем государственном перевороте, жертвой которого стал император Павел, по ряду причин следует остановиться подробнее и отдельно.
Осенью 1796 года неожиданно расстроился брак внучки Екатерины, великой княгини Александрины Павловны, с королем Швеции Густавом IV, на который возлагались большие дипломатические надежды, и это поражение так задело императрицу, что она опасно занемогла.
Цесаревич Павел, уже сорокадвухлетний мужчина, чрезвычайно похожий на своего отца, императора Петра III, в это время находился со своей семьей в Гатчине, подаренной матерью как раз в связи с рождением дочки Александрины. В Гатчине Павел устроился так, как его прадед Петр Великий в Преображенском: у него была собственная гвардия, набранная главным образом из малороссов, каковую составляли четыре кавалерийских полка, отряды конной и полевой артиллерии, шесть батальонов пехоты и одна рота охранников-егерей; у него был собственный Лефорт – барон Штейнвер, собственный Меншиков – брадобрей Кутайсов и собственный Ромадановский – иезуит Обольянинов. Будучи начитанным в русской истории, Павел по примеру великого прадеда тоже ревностно занимался со своим потешным гатчинским гарнизоном, поскольку тоже побаивался нашествия из столицы.
Императрица недолюбливала своего сына. Во-первых, она его не жаловала потому, что он был продолжением ненавистного супруга, а во-вторых, потому, что цесаревич был человеком болезненным, легкомысленным, вздорным, то есть малоподходящим для роли российского императора, о чем ей постоянно наушничали многие почтенные лица, например, профессор Эпинус, который говорил, что наследник человек, может быть, и умный, но в голове у него есть опасная машинка. Действительно, в юности Павел был плаксив, любил представляться то французским посланником, то кавалером мальтийского ордена и в этом качестве произносил целые речи перед малолетним князем Куракиным, бредил несчастными судьбами всех когда-либо убитых монархов, а после того как отравился кислой капустой, еще и страдал буйственными припадками. Ко всему цесаревич был до крайности мнителен: он пугался голосов, непонятных звуков, мрачных физиономий, а однажды в его любимых сосисках, кушанье на Руси еще экзотическом, ему пригрезились осколки стекла, и, явившись с тарелкой в руках на половину императрицы, он выговорил ей за то, что она якобы хочет его убрать. И последняя настораживающая черта: несколько раз Павла Петровича посещали видения. Например, гостя2 в Брюсселе под именем графа Северного, он рассказывал в узком кругу о том, как, гуляя однажды по ночному Санкт-Петербургу в сопровождении князя Куракина и двух слуг, он встретился с привидением Петра I; привидение, одетое по старинному военному образцу, то есть в ботфортах, плаще и войлочной треуголке, надвинутой на глаза, некоторое время молча шло слева, а затем ни с того ни с сего предсказало наследнику скорую смерть и пропало в том самом месте, где впоследствии по приказу Екатерины был воздвигнут идольский «медный всадник». Словом, у императрицы были кое-какие основания с укором говорить Павлу:
– Вижу, вижу, в какие руки попадет после моей смерти российский престол!
Однако наследник был сложнее, чем многие полагали. Несмотря на свои разнообразные странности, он был деятелен, тверд характером и имел прямой государственный ум, страдавший тем единственным недостатком, что для политика он был слишком уж романтическим и, следовательно, сулящим много путаницы и разлада.
На двадцатом году жизни Павел подал императрице записку под названием «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов», в которой он, принципиально осуждая захватнические войны, предлагал матери перейти к оборонительной военной доктрине и, создав сеть воинских поселений на границах империи, а также значительно сократив численность армии, тем самым сэкономить громадные средства, необходимые для внутреннего устройства. Но эта во всех отношениях дельная записка, напротив, окончательно убедила императрицу в отсутствии государственных способностей у ее сына, и на склоне лет она даже серьезно подумывала о том, чтобы завещать венец своему старшему внуку Александру Павловичу, во всяком случае, целая канцелярия архивариусов получила приказ отыскать в российской истории соответствующий прецедент. В качестве предлога для устранения Павла императрица наметила его морганатическую связь с фрейлиной Нелидовой, на которую слезно жаловалась вторая супруга наследника, Мария Федоровна, в девичестве София-Доротея, принцесса Вюртембергская, плотная немочка с мужественным лицом; императрица ей сочувствовала и, частенько подводя к зеркалу, утешала:
– Посмотри, какая ты у нас красавица, а Нелидова – petite monstre![12]12
Маленькое чудовище! – Фр.
[Закрыть]
Словом, не было ничего удивительного в том, что вечером 5 ноября, заслышав валдайский колокольчик шталмейстера Зубова, который был послан в Гатчину с известием о болезни императрицы, Павел смертельно побледнел и сказал супруге:
– Ma chиre, nous sommes perdu![13]13
– Дорогая, мы погибли! – Фр.
[Закрыть]
Он был уверен, что у заставы звенит фельдъегерский колокольчик, что это едут его арестовывать и везти в замок Лоде, на который ему уже несколько раз зловещим образом намекали.
В ту же ночь Павел в сопровождении графа Зубова прибыл в Зимний дворец, где первым делом посетил мать, лежавшую на сафьяновом матрасе посреди спальни, так как после приключившегося апоплексического удара лекари запретили ее тревожить, а затем присел за ломберный столик и настрочил своей гатчинской гвардии приказ назавтра вступить в столицу. Утром 6 ноября, когда Екатерина еще не отошла, но двор уже подобострастно смотрел наследнику в спину, залы и галереи императорского дворца взбудоражили неслыханные команды, топот ботфортов и смелые голоса гатчинских сорванцов. Повсюду уже расставлялись новые пестрые будки для часовых и мелькали причудливые мундиры, являвшие собой полную противоположность покойным потемкинским шароварам, просторным кафтанам, мягким сапожкам и стрижке, что называется, под горшок; гатчинцы носили чрезвычайно узкие мундиры, обтягивающие штаны и громадные треуголки, из-под которых торчали косы, между прочим, дававшиеся гатчинцам нелегко: волосы предварительно обрабатывались смесью муки, мела и артельного кваса, затем высушивались до образования плотной коры, а там к ним крепились войлочные букли на проволочном каркасе и железный прут в восемь вершков, на который и нанизывалась коса. Когда стало известно, что гатчинская форма будет введена по всей армии, несколько гвардейских генералов было заикнулись о ее практических неудобствах, но Павел им сказал:
– Эта одежда и богу угодна, и вам хороша.
Вообще новый император придавал туалетам преувеличенное значение и в своих мудрствованиях на их счет доходил до того, что объявлял форменную войну отложным воротничкам, фракам, жилетам, сапогам с отворотами и космополитическим круглым шляпам, чем, кстати упомянуть, остроумно воспользовался семнадцатилетний отставной канцелярист Александр Андреев, который самочинно объявил себя комендантом Летнего сада и в этом качестве собирал в свою пользу штраф с любителей отложных воротничков, фраков, жилетов, сапог с отворотами и космополитических круглых шляп. Несмотря на то что Павел был настоящий государственный озорник, эту гардеробную войну не назовешь блажью вздорного человека, поскольку она представляла собой одно из направлений его борьбы против импорта политических страстей из Европы и главным образом из Франции, переживавшей свою первую революцию, как затянувшуюся болезнь. Из видов этой борьбы император также упразднил целый ряд обиходных слов, ввел строжайший паспортный режим и таможенную цензуру на книги, ноты и периодические издания. Почт-директор Пестель, отец Павла Ивановича, декабриста, пытался отстоять хотя бы газеты, но император категорически возражал.
– Помилуйте, как можно пропускать ихние газеты?! – говорил Павел. – Ведь они пишут, что я велел отрезать уши у мадам Шевалье!
– А для того, – отвечал Пестель, – чтобы обличать европейских вралей. Ведь публика в театре каждый вечер видит, что у ней уши целы!..
Павел Петрович оставался непоколебим.
Вслед за однозначными охранительными мерами и переодеванием армии по более или менее вражескому, а гражданского населения по более или менее армейскому образцу, император Павел понаделал такую массу противоречивых шагов, что его современники были озадачены, даже ошеломлены. Император освободил Радищева и Новикова, репрессированных Екатериной, вернув им честное имя и все имущественные права, но коллежского секретаря Шишкина в двадцать четыре часа выслал из столицы за то, что он по рассеянности не снял шляпы перед начальством; возвратил из гродненской ссылки последнего польского короля Станислава Понятовского и с почестями препроводил его в Мраморный дворец, чего тот, впрочем, не вынес и скончался от апоплексического удара, но драгуна Скрипченко с женой, впавших в духоборческую ересь, лишил ноздрей и сослал навечно в Екатеринбург; уволил от службы генерал-адъютанта князя Щербатова «за неприличные званию проступки», а именно за то, что князь до полусмерти избил станционного смотрителя Симакова, но прусский купец Ширмер, просивший позволения открыть клуб для препровождения досуга, был за легкомыслие посажен на хлеб и воду; велел расстрелять помещика Храповицкого, виновного в том, что, вопреки строжайшему запрещению, он согнал крестьян на починку дороги, по которой должен был проследовать государь, – правда, смоленская уголовная палата его оправдала, – но старочеркасские канцеляристы Баранов и Щербаков, сочинители критических стихов, были наказаны кнутом на базаре; освободил всех заключенных по делам Тайной экспедиции, кроме «повредившихся в уме», и в частности прорицателя Авеля, предсказавшего смерть Екатерины II, но тут прорицатель предсказал скорую смерть своему освободителю, и Павел в отместку опять его засадил. Однако противоречивость всех этих деяний вполне объяснима тем, что она логически вытекала из противоречивости характера Павла I, который, как это частенько водится у людей, был одновременно и рыцарь, и трус, и вольнодумец, и самодур; самая же удельновесомая его человеческая черта состояла в том, что он был именно забубенный озорник, и поскольку это вообще очень весело, когда один человек имеет законное право как угодно изгаляться над целой нацией, у императора постоянно чесались руки на разные государственные шалости, пакости и диковинно-демократические поступки. Но вот какая загадка: с народом, то есть с Россией, добывающей хлеб в поте лица своего, Павел себе озорничать особо не позволял. Напротив – пожалуй, он сделал для него все, что только было возможно в его положении: ограничил барщину, простил русскому крестьянству семь миллионов рублей недоимки, учредил магазины хлебных запасов на случай неурожая, отменил большой рекрутский набор, объявленный императрицей Екатериной, и, стремясь войти с простым людом в непосредственное общение, вывесил было на стене своего дворца ящик для жалоб, но в него немедленно посыпались нелепые доносы, а также пасквили и карикатуры на особу самого императора, и ящик вскорости отменили. Кроме того, Павел снискал народную симпатию еще тем, что в разговоре был по-мужицки прост, снимал шляпу перед толпами своих подданных и распространил телесные наказания на дворян. Особенно полюбили императора моряки, так как во время путешествия на бриге «Эммануил» он спал на шканцах, укрывшись обрывком паруса, что скоро стало известно во всех экипажах флота, увеличил нижним чинам винную порцию и запретил килевание[14]14
Род наказания, при котором провинившегося на канате протаскивали под водой с борта на борт.
[Закрыть] провинившихся, которое тогда еще было довольно распространено.
Но дворянствующая Россия, и особенно офицерство, нового императора сильно не полюбила. Что касается офицерства, то оно возмущалось тем, что при Павле за разные промахи были уволены в отставку семь фельдмаршалов, триста генералов и огромное число обер-чинов, что при нем даже старших командиров бивали палками за халатность и ротозейство, что невозможно было явиться на вахт-парад со званого вечера, то есть в бальном костюме, задрапированном военным плащом, злоупотреблять полковыми суммами, то и дело проситься в отпуск, чесать языки в строю. Все перечисленные беспорядки Павел настойчиво преследовал и делом, например, при помощи своей трости, которую он называл «берлинкой», и словом, то есть посредством таких распоряжений, как: «Его императорское величество рекомендует господам офицерам санкт-петербургского гарнизона во время разводного учения стоять смирно, а не бегать и не шуметь», или таких поэтических приказов, как: «Лейб-гвардии Преображенского полку поручик Шепелев выключается в Елецкий мушкатерский полк за незнание своей должности, за лень и нерадение, к чему он привык в бытность его при Потемкине и Зубове, где вместо службы обращались в передней да в пляске».
Особенно же в войсках костили Павла за то, что он прямолинейно стремился привести Европу к вечному миру и, таким образом, обрекал офицерство на окаянное гарнизонное бытие и обычный оклад жалования против двойного по военному времени. И в самом деле, Павел нешуточно взялся за искоренение войн: он на одну треть сократил численность русской армии, предложил противоборствующим державам немедленно остановить военные действия, вообще повел романтическую внешнюю политику, в которой лишь то было не дельно и за глаза гарантировало неуспех, что, осуществляя ее, Павел опирался на общечеловеческие нравственные понятия, а не на особые политические, синтезированные Шекспиром в горьких гамлетовских словах:
Двух тысяч душ, десятков тысяч денег
Не жалко за какой-то сена клок.
По этой причине Павел, в частности, постоянно менял союзников, стремясь сотрудничать с теми, на чьей стороне была, по его мнению, справедливость, но европейские политики были слишком ветрены по отношению к ней, и санкт-петербургского Гамлета шатало от австрияков к туркам, от турок к англичанам, а от англичан даже к французам, которых он обвинял в «развратных правилах и буйственном воспалении рассудка» и вообще очень не одобрял. В конце концов Павел настолько разочаровался в своих политических партнерах, что предпринял прямо скандальный шаг, поместив в «Гамбургском корреспонденте» официальную картель[15]15
Письменный вызов на дуэль.
[Закрыть] всем европейским монархам, продолжавшим кровопролитие, несмотря на его миротворческие усилия. Впрочем, воинствующее миролюбие не мешало императору передраться чуть не со всей Европой, включая отдаленную Испанию, на его взгляд, «упорно пребывающую в пагубных для нее самой правилах и заблуждениях», и послать казаков на завоевание Индии; как известно, до Индии экспедиция не дошла, поскольку вскоре произошел последний в российской истории дворцовый переворот, в результате которого император Павел был умерщвлен, и казаков успели вернуть назад.
Одиннадцатого марта 1801 года, в понедельник шестой недели великого поста, Павел по обыкновению поднялся в пять часов утра и, выпив стакан чаю с булкой, вышел к адъютантам, которые стоя подремывали у стен. Императорская фамилия только что заселила Михайловский замок, выстроенный в том месте, где одному часовому пригрезился архангел Михаил, и Павлу так полюбилась новая резиденция, что, выйдя в то утро к встрепенувшимся адъютантам, он сложил руки на груди и сказал:
– Объявляю себя счастливым!
Затем он отправился в покои великих князей, посаженных накануне под домашний арест, и застал там странную сцену: полковник Саблуков, дежурный по конному полку и начальник дворцового караула, делавший доклад обоим цесаревичам[16]16
Великий князь Константин получил титул цесаревича, то есть наследника престола, за участие в Итальянской кампании.
[Закрыть], при его появлении вдруг вытянулся и побледнел, Константин начал нервно похлопывать себя по карманам, а наследник Александр, которого император смутно подозревал и планировал лишить трона в пользу принца Евгения Вюртембергского, настолько испугался, что бросился наутек. Павел из озорства подошел к Константину строевым шагом и сказал:
– Конный полк из столицы вон!
– За что, ваше величество?! – спросил Константин и заломил пальцы.
– Полагаю, что это полк якобинцев.
Из покоев великих князей император направился в кабинет, надел простую овчинную тужурку без рукавов, так как в новом дворце еще было сыро, и принялся за работу. Подмахнув несколько законов, приказов и отношений, Павел принял с докладом санкт-петербургского военного губернатора фон дер Палена, не подозревая о том, что имеет дело с атаманом своих убийц. В приемной дожидался очереди пастор Грубер, явившийся с проектом соединения православной и протестантской церквей, но Пален опасался, что пастор принес императору весть о готовящемся государственном перевороте, и нарочно затянул доклад до развода дворцового караула, исходя из того что император их ни под каким видом не пропускал. До одиннадцати часов утра Павел присутствовал на разводе, во время которого попотчевал своей «берлинкой» одного унтер-офицера, вздумавшего огрызнуться на замечание командира, и сослал на Соловки одного подполковника, по старинке отдавшего команду «ступай» вместо команды «марш», введенной в войсках с девяносто шестого года. Затем император предпринял верховую прогулку с обер-гардеробмейстером Кутайсовым; вельможи, делавшие утренний моцион, спешно прятались, завидев императорского Фрипона, которого из-за масти и небывалого размера было легко приметить издалека, а будочник, стоявший возле теперешнего Дома книги, ухмыльнулся и сказал:
– Вон наш Пугач едет!
По возвращении в Михайловский замок император пообедал и принял обер-гофмейстера графа Растопчина. Отправляясь на прием к государю, Растопчин, между прочим, вступил с извозчиком в следующий разговор:
– Правда ли, сударь, – спросил извозчик, – что император нынешней ночью всенепременно помрет?
– Ты что, братец, с ума сошел?! – сказал Растопчин.
– Помилуйте, сударь, у нас на бирже только и твердят: «конец!»
Передать императору этот разговор обер-гофмейстер поостерегся и ограничился вопросом, с которым ехал, именно вопросом о праздничных награждениях. Когда дело дошло до ордена Андрея Первозванного, Растопчин посоветовал наградить им графа Андрея Кирилловича Разумовского, но Павел в ответ изобразил у себя на затылке рожки, намекая на связь Разумовского со своей первой супругой, Натальей Алексеевной, умершей еще при императрице Екатерине. Орден Разумовский все-таки получил, так как, во-первых, Павел побоялся прослыть злопамятным, а во-вторых, было очевидно, что граф его заслужил.
Вслед за Растопчиным император принял эскадр-майора Шишкова и графа Кушелева, явившегося с доносом. Шишков представил на рассмотрение проект походного построения кораблей.
– А ежели я захочу, чтобы в походном строю корабли шли иначе, чем в твоих планах? – спросил император, почесывая щеку гусиным пером.
– Воля ваша, государь, – ответил Шишков, – но так кораблям способнее. Вот спросите хотя бы графа…
Кушелев тупо склонился над чертежами и подтвердил, что эскадр-майор прав. Павел надулся и вышел из кабинета. Через минуту явился Кутайсов.
– Господа, что вы тут наговорили его величеству?! Государь сердит, говорит: «Там два умника спорят со мной, так я больше наверх не пойду!..»
– Как же так, сударь?! – сказал граф Кушелев. – Ведь у меня наиважнейшее донесение!
– Этого государь без внимания не оставит, но все-таки, господа, я вам должен морализовать, что обижать императора не годится.
По кушелевскому доносу выходило, что двое семеновцев, а именно полковник Дмитриев, будущий министр и поэт, и штабс-капитан Лихарев умышляют на жизнь монарха. Павел рапорядился немедленно вызвать их во дворец, и, когда злоумышленники присоединились к толпе придворных, ожидавших выхода императора, он внезапно появился в высоком дверном проеме и пронзительно осмотрелся по сторонам.
– Неужели среди вас есть изменники, господа?! – сказал император на низкой ноте, в которой послышалось что-то похожее на слезу.
Этот вопрос настолько задел всех присутствовавших при выходе императора, что они наперебой бросились целовать рукава и полы его кафтана. Павел от удовольствия заулыбался.
– Объявляю вам, господа, о моем полном благоволении, – сказал он. – Вот я теперь нарочно буду носить этот мундир, который вы на мне только что изодрали!
За выходом последовал ужин, накрытый на девятнадцать персон, или «кувертов», как выражались в соответствии с нормами тогдашнего этикета. Павел был весел, целовал фарфоровые чашки с изображением Михайловского замка и подшучивал над императрицей Марией Федоровной. Но оба цесаревича, причастные к заговору против отца, который должен был решиться грядущей ночью, сидели за столом с панихидными физиономиями и почти ничего не ели. Наследник Александр за сладким нервно чихнул.
– Исполнение желаний, ваше императорское высочество! – весело сказал Павел.
У наследника навернулись на глазах слезы.
– Qi’avez vous aujourd’hui?[17]17
– Да что это сегодня с вами? – Фр.
[Закрыть] – спросил его император.
– Sire, – сказал Александр, – je ne me sens pas tout б fait bien.[18]18
– Государь, мне что-то нехорошо. – Фр.
[Закрыть]
– Eh bien, consultez un mйdecin et soignez-vous. Il fout toujours arrкter les indispositions des le commencement, pour empкcher de devenir des maladies sйrieuses[19]19
– Ну, обратитесь к врачу. Всегда следует останавливать недуг в самом начале, чтобы не дать ему развиться в серьезное заболевание. – Фр.
[Закрыть].
.По национальному обыкновению Павел был горазд на советы, но ту, фигурально выражаясь, дворцовую болезнь, которая свела в могилу его самого, он даже не то чтобы легкомысленно запустил, а и почуял-то ее только за три часа до трагического исхода. Отправляясь после ужина к себе в спальню, Павел нечаянно увидел свое отражение в большом венецианском зеркале и ужаснулся, так как оно показало ему восковое лицо императора-мертвеца.
– Да, – сказал Павел своему спутнику Кутузову, также участнику надвигающегося бунта, – на тот свет иттить, и не котомки шить!
В огромной спальне, отделанной красным деревом, Павел еще немного повозился с бумагами, потом принял декохт от лейб-медика Гриве, помолился русскому богу Николаю-угоднику и по узкой потайной лестнице спустился на час к княгине Гагариной, урожденной Лопухиной. У нее он заодно написал записку военному министру Ливену с выговором за то, что министр позволяет себе слишком долго болеть, затем возвратился в спальню, лег в постель, немного поворочался и заснул.
В начале первого часа ночи в дверь императорской спальни панически застучали. Камер-гусар спросил, кто стучит и что надо.
– Пожар! – ответили из-за двери и застучали еще сильней.
Камер-гусар отпер дверь, и в прихожую, соседствующую со спальней, ввалилась толпа офицеров с саблями наголо. Караульный солдат, семеновец Агапеев, было встал у них на пути, но тут же рухнул на пол с разрубленной головой. Заговорщики вошли в спальню и осмотрелись: императора нигде не было.
Павел прятался за портьерой; собственно, он мог бы исчезнуть, воспользовавшись потайной лесенкой, ведущей к княгине Гагариной, или взломав дверь в спальню императрицы, которую он демонстративно распорядился заколотить, но это было бы слишком не по-императорски, даже просто не по-мужски, и он ограничился тем, что спрятался за портьерой. Там его и нашли. Бенигсен, бродивший по царской спальне с тяжелым канделябром, который он держал на уровне головы, вдруг увидел голые ступни, торчавшие из-под штофа, отдернул портьеру и провозгласил:
– Государь, вы мой пленник!
Павел как ни в чем не бывало покинул свое укрытие, достал из кармана халата золотую табакерку и сунул понюшку в нос.
– Государь, извольте подписать вот эту бумагу, – сказал Бенигсен, подавая императору текст отречения от престола.
Павел отрицательно помотал головой.
Подошел Николай Зубов, который очень нервничал и поэтому ни с того ни с сего полез лунатическими пальцами в царскую табакерку. Павел шлепнул его по руке, и Зубов рассвирепел: он вырвал бумагу у Бенигсена и непочтительно поднес ее Павлу под самый нос.
– Подпиши, а то хуже будет!
Non! Je ne soucrirai poin![20]20
– Нет! Я ничего не подпишу! – Фр.
[Закрыть] А тебя, сукин сын, я завтра велю посадить на кол! Будешь знать, как невежничать перед своим государем!
– Ты мне больше не государь!
Это уже переходило всякие границы, и Павел ударил Зубова по лицу. Кабы не эта опрометчивая оплеуха, дело, возможно, обошлось бы без кровопролития, так как вопрос о физическом устранении императора был заговорщиками поставлен, но не решен. Однако оплеуха была дана, и это обстоятельство повлекло за собой последствия роковые: Зубов, выхватив у императора табакерку, нанес ему этим мирным предметом мощный удар в висок; Павел, обливаясь кровью, пал на колени, и это вдруг так раздразнило прочих бунтовщиков, что они, как по команде, бросились на императора, повалили его на пол и стали неистово избивать. Тем временем Бенигсен снял с себя офицерский шарф, которым подпоясывали мундиры, молча передал его Измайловскому штабс-капитану Скарятину, и тот, кое-как пробившись сквозь кучу-малу цареубийц, Павла самым разбойным образом удавил. Но на этом распаленные заговорщики, как говорится, не успокоились и еще довольно долго терзали труп каблуками ботфортов и кулаками, так что впоследствии лейб-медику Гризе пришлось приложить исключительные усилия для того, чтобы вернуть лицу покойного первоначальные человеческие черты.
Между тем один из камер-гусар, которому удалось улизнуть от бунтовщиков, стал кричать на весь замок, что императора убивают. Поручик Полторацкий, услышавший его вопли, бросился на шум с отрядом караульных солдат, но в самом начале парадной лестницы его остановили Пален и Бенигсен.
– Государь скончался апоплексическим ударом! – сказал Пален и потрепал поручика по плечу.
Солдаты вытянулись и взяли на караул.
– Ну что же, – сказал Полторацкий, – нет худа без добра. По крайней мере теперь конец всем этим несносным «пуан-де-вю» и прочим мистериям воинского устава.
Бенигсен погрозил ему пальцем.
4
Краткий обзор государственных переворотов восемнадцатого столетия, который, конечно, имеет ограниченное значение для исследователя политических движений следующего, девятнадцатого столетия, тем не менее навевает кое-какие общие соображения относительно того, как и почему в конце 1825 года целая организация русских дворян отважилась на противоестественное, с точки зрения социального здравого смысла, предприятие: уничтожение того общественного устройства, которое их вскормило и обеспечило олимпийскими привилегиями, – а также, почему это дело не удалось.
На первый взгляд, последняя часть вопроса – «почему это дело не удалось» – кажется особенно загадочной, так как из обзора политического наследства восемнадцатого столетия прежде всего вытекает следующее заключение: для замены одного режима другим в позапрошлом веке требовалось так мало, что, кроме содействия команды головорезов и безоглядного стремления к новизне, можно сказать, не требовалось ничего. Для первого государственного переворота вообще оказалось достаточно того, чтобы деспот Меншиков на полтора месяца приболел, и Долгоруковы науськали юного императора объявить себя безоговорочным самодержцем. Для второго государственного переворота потребовалось только келейное единомыслие верховников, для третьего – чтобы вконец переругалось между собой либеральствующее дворянство, в результате чего монархическое меньшинство умудрилось повернуть вспять колесо истории, а для четвертого – влиятельность Миниха и решимость Манштейна, которые победили исключительно потому, что в силу своей германской наивности были уверены, что не могут не победить. Одним словом, в восемнадцатом столетии у нас до невероятного легко интронизировали и свергали.
Но, с другой стороны, и всем походя низложенным правителям России не доставало, кажется, полумановения, полуслова, чтобы благополучно расправиться с домашними бунтарями и сохранить за собою власть. Например, достаточно было караульному офицеру, стерегущему в Летнем дворце Бирона, поднять невзначай тревогу, и Миних с Манштейном отправились бы, что называется, в места не столь отдаленные, если не прямо на эшафот; например, если бы Анна Леопольдовна послушалась своего супруга Антона Ульриха и в ночь на 25 ноября 1741 года приказала бы усилить дворцовые караулы, то Елизавете было точно не миновать Горицкого монастыря, в котором со времен Иоанна Грозного гноили неугодных аристократок и проштрафившихся цариц; наконец, неведомо, чем закончилось бы противоборство между Екатериной и Петром III, припоздай адмирал Талызин восстановить Кронштадт против законного государя, поскольку на другой день после начала мятежа екатерининские войска протрезвели бы и сами по себе, но главное, в виду двухсот артиллерийских орудий, отряда боевых кораблей и солидного гарнизона, – во всяком случае, очень вероятно, что Петр III не позволил бы, по выражению его идола Фридриха Великого, увести себя с престола, как ребенок, которого уводят спать.
А впрочем, известно, что, как и в природе, где ничего не происходит случайно, зря, а если и происходит, то якобы случайно, якобы зря, на самом же деле в неукоснительном соответствии с законами развития всего сущего от простого к сложному, на манер того, как даже случайная эпидемия закономерно способствует усилению какого-либо перспективного организма, – так и в истории человеческого рода всякая случайность есть прежде всего составная закономерности, даже некоторым образом ее вариация, и не произойди какая-то одна непредвиденная случайность, направленная к определенному качественному итогу, непременно прислужилась бы другая, третья, шестая случайность, имеющая то же самое направление, и этот итог ничто не смогло бы перекроить, включая землетрясение, поскольку даже противодействующие случайности всегда целесообразно ориентированы на усиление прямодействующих, как эпидемии на совершенствование организмов. По этой самой логике, если распространить ее на уровень бытовой, еще ни одному природному дураку не удалось приобрести репутацию умного человека, и особенно по тому, как дурак говорит здравые вещи и при этом то напускает на себя нелепо-глубокомысленное выражение, то безотчетно сопровождает свои слова дурацкими движениями бровей, либо деревянными жестами, либо какими-то другими разоблачительными ужимками, – сразу становится видно, что он дурак. На уровне же истории превращений взаимоотношения закономерностей и случайностей давно сформулированы следующим образом: происходит только то, что не может не произойти, что однозначно обусловлено неизбежностью, то есть суммой условий, которая приводит к общему знаменателю все, что случайно или закономерно работает и якобы не работает на историю превращений. В соответствии с этой формулировкой, положим, предприятие Мировича было обречено за глаза, но обречено вовсе не потому, что Елизавета отличалась особой предусмотрительностью, а Власьев и Чекин в точности исполнили инструкцию об умерщвлении Иоанна Антоновича в случае покушения на его узы, а потому что в 1764 году екатерининский режим был на взлете, потому что фигура заточенного императора сильно припахивала ужасами недавнего немецкого ига, и даже если бы смоленцам удалось вызволить Иоанна Антоновича на свободу, скорее всего он вместе с Мировичем был бы прибит артиллеристами на Выборгской стороне. То же самое и в случае с переворотом верховников: поскольку в результате сплетения множества экономических, географических, исторических и прочих причин, восходящих едва ли не ко времени принятия христианства, Россия в 1731 году была не готова к сколько-нибудь республиканским формам существования, то на какие бы крутые и даже из ряду вон выходящие меры ни пошли бы верховники, непременно что-нибудь такое произошло, что помешало бы им сохранить за собою власть. Либо дворянство, съехавшееся на похороны Петра II, так или иначе подало бы челобитную о реставрации самодержавия, либо перегрызлись бы Голицыны с Долгоруковыми, и новый режим рухнул бы сам собой, либо открылось бы воровство Долгоруковых, которое потребовало бы вмешательства Анны, и под этот шумок верховники были бы смещены, либо князь Борятинский и его компания организовали бы монархический заговор, наверняка получивший бы подавляющую поддержку в войсках, так как императрица представляла собой если не законность, то традицию, а верховники если не беззаконие, то поднадоевшую и чреватую новизну. Как бы там ни было, а судьбу переворота решила бы одна из случайностей, всегда готовых к услугам закономерности, и события двинулись бы в том естественном направлении, которое было обусловлено критическим весом предшествующих событий, и, таким образом, совершилось бы именно то, что не совершиться ни в коем случае не могло.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?