Читать книгу "Записки. 1793–1831"
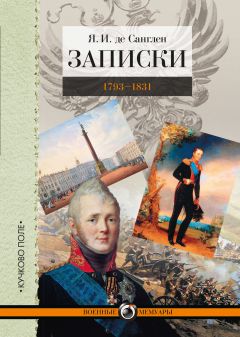
Автор книги: Яков Санглен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– J’аi véсu 42 аns; Diеu m’а sоutеnu, jusqu’à рrèsent, еt j’attends tоut dе Sа bonté[46]46
Какой момент для Вас, монсеньор!.. – Мне 42 года. Бог поддерживал меня до сегодняшнего дня; и я жду от него всей его доброты (фр.).
[Закрыть].
В восемь часов вечера въехал наследник с супругой в Санкт-Петербург. Дворец был наполнен людьми, объятыми страхом, любопытством, ожидающими с трепетом кончины Екатерины; были и такие, которые, при перемене правления, ласкали себя надеждой на будущее возвышение. Великий князь вошел на минуту в свои комнаты и потом пошел на половину императрицы. Долго говорил он с медиками, и, в сопровождении великой княгини, вошел в угловой кабинет, куда призвал тех, которым нужно было отдать приказание. На другое утро, через 24 часа после удара, вошел он в ее опочивальню, спросил у докторов: «Имеют ли они хотя малейшую надежду?» – и получив отрицательный ответ, приказал призвать митрополита Гавриила с духовенством читать глухую исповедь и причастить императрицу Святых Тайн, что немедленно было исполнено.
В девять часов утра доктор Роджерсон, войдя в кабинет, где были великий князь и великая княгиня, объявил им, что Екатерина кончается. Павел тотчас приказал великим князьям и великим княжнам со статс-дамою Ливен[47]47
Ливен Шарлотта Карловна (1742–1828), баронесса, потом графиня (с 1799) и светлейшая княгиня (с 1826), воспитательница детей императора Павла I.
[Закрыть] войти в опочивальню. Все расположились около умирающей в следующем порядке. Великий князь с великой княгиней по правую сторону, по левую – доктора и вся услуга императрицы; у головы Плещеев и Растопчин, а у ног князь Зубов, граф Зубов и пр. Дыхание императрицы становилось труднее, реже, наконец, вздохнув в последний раз, Великая окончила земное бытие свое…
Черты лица ее, доселе искаженные страданиями, приняли тотчас после смерти прежнюю свою приятность и величие.
Во все время царская фамилия и все присутствующее стояли, наклонив голову. Наконец великий князь, как будто насильно отрываясь от тела матери, вышел в другую комнату, заливаясь слезами. Опочивальня императрицы огласилась воплями служивших и приверженных ей. Но слезы эти и рыдания не простирались далее этой комнаты. Там собирал уже обер-церемонимейстер Валуев[48]48
Валуев Петр Степанович (1743–1814), обер-церемониймейстер, сенатор.
[Закрыть] всех к присяге и пришел с докладом, что все в придворной церкви к тому готово. Новый император со всею царской фамилией, в сопровождении съехавшихся во дворец, вошел в церковь и стал на императорском месте. Все читали за духовенством присягу. Императрица Мария Феодоровна подошла к императору и хотела броситься перед ним на колени, но император удержал ее, равно и всех детей своих. Все целовали крест, евангелие, и подписав имя свое, подходили к руке императора. По окончании присяги государь пошел прямо в опочивальню покойной императрицы, которая лежала уже в белом платье на кровати. Император низко ей поклонился и пошел в свои комнаты. Графу Безбородке поручено было написать манифест и пригласить в Петербург князя А. Б. Куракина, проживавшего в Москве. Граф А. Г. Орлов не был во дворце и у присяги. Император отправил к нему Растопчина с Н. П. Архаровым[49]49
Архаров Николай Петрович (1740–1814), генерал от инфантерии. В 1775 г. был назначен обер-полицмейстером Москвы, а в 1795 г. переведен в Петербург генерал-губернатором. Знаменит тем, что от его фамилии произошел термин «архаровец», в его первоначальном значении– ироническое обозначение служителя полиции.
[Закрыть], чтобы привести его к присяге.
– Я не хочу, чтобы он забывал двадцать девятое июня[50]50
Граф Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737–1807) являлся одним из главных заговорщиков, заставивших императора Петра III подписать акт об отречении от престола 28 июня 1762 г. Он же, согласно общераспространенной ложной версии, убил свергнутого императора в Ропше.
[Закрыть], – прибавил император.
Они застали Орлова спящого, разбудили, привели к присяге и отрапортовали его величеству.
Между тем, князь П. А. Зубов, как дежурный генерал-адъютант, спросил императора: кому прикажет он вручить генерал-адъютантский жезл, который был тогда знаком дежурного генерал-адъютанта. Император отвечал:
– Il еst en bоnnеs mаins, gаrdez-lе[51]51
Он в хороших руках, храните его (фр.).
[Закрыть].
Князь Зубов спросил императора: не угодно ли ему рассмотреть запечатанные конверты, находящиеся в кабинете покойной императрицы? Первый, попавшийся в руки и распечатанный императором, было отречение его от всероссийского престола. Второй – распоряжение о пребывании его высочества в замке Лоде, куда должно было следовать и войско, находившееся при нем в Гатчине и Павловске. Император, улыбаясь, изорвал оба пакета на мелкие куски. Третий был указ о пожаловании графа Безбородко имением, бывшим князя Орлова и Бобрика[52]52
Имелся в виду владелец имения Бобрики граф (с 12 ноября 1796) Бобринский Алексей Григорьевич (1762–1813), внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова.
[Закрыть].
– Сelа аррагtient à mоn frèrе, – сказал Павел, – oser en disposer еn fаvеur d’un аutre еst un сrimе»[53]53
Это принадлежит моему брату, отважиться распорядиться в пользу другого будет преступление (фр.).
[Закрыть].
Четвертый, с надписью самой императрицы, духовное завещание, император, не распечатывая, положил в карман.
Это я слышал впоследствии от самого князя Зубова, который выставлял этот поступок в виде неблагодарности со стороны Павла за оказанные ему услуги и как бы извинительной причиной (дальнейшего поведения его, т. е. князя Зубова)[54]54
Намек на участие в заговоре против Павла I генерала от инфантерии князя Платона Александровича Зубова (1767–1822), последнего фаворита Екатерины II.
[Закрыть].
VII
Прежняя спокойная жизнь в Ревеле при Екатерине переменилась. Все с любопытством жаждали узнать о том, что делалось в Санкт-Петербурге; каждое письмо из столицы переходило из рук в руки; каждый приезжий из Петербурга подробно распрашивался, страх сильно начинал овладевать всеми. Немного обрадовало однако же, милостивое повеление императора об освобождении всех без изъятия содержащихся в тюрьмах и Ревельских башнях[55]55
Ревельская крепость входила (наряду с Петропавловской и Шлиссельбургской крепостями) в тройку важнейших тюрем России для содержания особо опасных государственных преступников, противников православной церкви, а также уголовных преступников из числа привилегированного сословия.
[Закрыть]. Обязанностию поставляю рассказать об одном неизвестном узнике, которого мы и прежде часто видели, с длинной бородою, стоящого у окна за железной решеткой, над воротами, называемыми Штранд-форте. Об нем известно было только то, что он привезен был в начале царствования Екатерины ІІ; но кто он, и за что заключен, никто, ни комендант, ни губернатор, не знали. Вслед за ним присланы были сундуки с богатым платьем, бельем, серебряной посудой и на содержание 10 тысяч рублей деньгами. Всего этого давно уже не было, и сам узник, вероятно, не видал своего богатства. Когда прибыло повеление освободить узников, то все знаменитости Ревеля пошли с своею свитой по крепостной стене к башне, где содержался неизвестный узник. Комнаты его очищены были плац-майором, но, невзирая на куренье, которое носилось облаками по темному жилищу, все еще был какой-то смрадный удушливый запах, который крайне был отвратителен. В первой комнате стояли у дверей двое часовых и еще два солдата, вероятно, для посылок или удвоения караула, ибо при них был и унтер-офицер. Мы вошли в другую довольно большую комнату, где в самом отдаленном углу на соломе лежал человек лицом к стене, в белом балахоне и покрытый в ногах ногольным тулупом. Подле этого ложа стоял кувшин, на котором лежал ломоть ржаного хлеба…
– Встаньте, – сказал комендант, – императрица Екатерина Вторая, Божиею волею, скончалась, и на прародительский престол взошел император Павел. Он дарует вам прощение и свободу.
Узник молчал и не трогался с места; комендант продолжал:
– Государь, по неограниченному своему милосердию…
– Милосердию? – вскричал заключенный, приподнимаясь. – Видимое тобою здесь – милосердие?
Он встал. Мы увидели перед собою исхудавшего, бледного, сединами покрытого человека; улыбка его выражала презрение, он страшен был, как тень, восставшая из гроба.
– Успокойтесь, – сказал мой адмирал, – да подкрепит вас Бог…
– Бог? Бог? – подхватил узник. – У тебя есть бог, и он позволяет заточить невинного человека и держать его с лишком тридцать лет, как скотину в хлеве! О, подлые рабы.
Комендант, желая обратить его внимание на другой предмет, спросил:
– Позвольте узнать имя ваше?
– Спроси у той, которая лежит теперь мертвая в гробу, а я посажен ею живой в этот гроб; разве ты не знаешь, тюремщик мой, имени моего? А!.. Вон! Я мира вашего не знаю; куда я пойду? Эти стены – друзья мои, я с ними не расстанусь. Вон!..
Последние слова прокричал он дико и громко. Глаза его ужасно сверкали; лицо было страшно; мы думали, что он с ума сошел. Комендант сказал что-то на ухо плац-майору, и все вышли испуганные из комнаты. После узнали мы, что ему дали кровать, кое-какую мебель, все жители посылали ему кое-что, словом, все старались облегчить участь его. На третий день посетил его плац-майор и нашел на постели умершим. Вероятно, неожиданность, перемена воздуха, пища, явившаяся забота о будущем: все потрясло дух его, и он пал под бременем страданий. Удивительно, что, невзирая на все вопросы, никому не сказал имени своего. В архивах разрыли все и нашли только… такого-то числа привезен… и велено посадить в башню. Даже год и месяц не означены. Как бы то ни было, он, по крайней мере, провел последние часы жизни в сообществе с людьми, от которых столько лет был отчужден, видел себя против прежнего в каком-то довольстве, обрадован был соучастием. Но кто он был, за что так строго наказан и с некоторого рода отличием – покрыто неизвестностию. Что он принадлежал к какому-либо знатному роду, в том нет сомнения, ибо, в противном случае, поступили бы с ним, кажется, иначе. Судя по выговору, он должен бы быть иностранец, выучивший порядочно русский разговорный язык.
Из замечательных лиц, содержащихся в Ревеле, был еще князь Кантемир[56]56
Кантемир Дмитрий Константинович (1749–1820), князь, полковник.
[Закрыть], кавалер орденов Св. Георгия и Св. Владимира 4-й степени; он по освобождении немедленно отправился в Москву.
За исключением сего манифеста, все известия, приходящия из Петербурга, внушали более страх, нежели утешение, и адмирал мой, против обыкновения, сделался пасмурным. Это чрезвычайно беспокоило супругу его, и она всячески домогалась узнать причину этой перемены. Долго он скрывал, наконец за чайным столом объявил при мне, что он предчувствует неизбежное несчастье. Он воспитывался вместе с великим князем, ныне императором Павлом І. Оба приготовлялись к морской службе, и оба влюбились в одну и ту же особу знатной фамилии. Адмирал мой, хотя росту небольшого, но был красивый, ловкий, образованный и приятный мужчина; мудрено ли, что имел право более нравиться, нежели великий князь, лишенный от природы сих преимуществ. Великий князь как-то узнал это, почел предательством со стороны товарища, соученика, и объявил ему: «Я тебе этого никогда не прощу!»
– Je le сопnais, – прибавил адмирал, – il est homme а tenir рагоlе[57]57
Я это знаю, – он человек, который держит слово (фр.).
[Закрыть].
С этого дня жили мы в беспрерывном страхе, – в ожидании чего-то неприятного в будущем. Быстрые перемены во всех частях управления, особенно перемена мундиров, жестоко поразила нас, молодых офицеров, отчасти и старых. Вместо прекрасных, еще Петровых мундиров дали флоту темно-зеленые с белым стоячим воротником и по ненавистному со времен Петра ІІІ прусско-гольстинскому покрою. Тупей[58]58
В XVIII в. прическа со взбитым хохлом, устаревший термин в парихмахерском деле.
[Закрыть] был отменен. Велено волосы стричь под гребенку, носить узенький волосяной или суконный галстук, длинную косу, и две насаленые пукли торчали над ушами; шпагу приказано было носить не на боку, а сзади. Наградили длинными лосинными перчатками, вроде древних рыцарских, и велели носить ботфорты. Трехугольная низенькая шляпа довершала этот щегольской наряд. Фраки были запрещены военным под строжайшим штрафом, а круглая шляпа всем. В этих костюмах мы едва друг друга узнавали; все походило на дневной маскарад, и никто не мог встретить другого без смеха, а дамы хохотали, называя нас чучелами, monstres[59]59
Монстрами (фр.).
[Закрыть]. Но привычка все уладила, и мы начали, невзирая на наряд, по прежнему танцевать и нравиться прекрасному полу.
Непонятно каким образом император Павел, умный, образованный, чувствительный, знавший ту ненависть, которую питали к мундирам отца его, решился, против общего мнения, тотчас приступить к такой ничтожной перемене, которая поставила всех против него. Это ощутительнее было в гвардии. Уничтожение мундиров, введенных Петром Великим, казалось одним пренебрежением, другим – преступлением. Обратить гвардейских офицеров из царедворцев в армейских солдат, ввести строгую дисциплину, словом, обратить все вверх дном значило презирать общим мнением и нарушить вдруг весь существующий порядок, освященный временем. Неужели, полагал он, что настало тогда время привесть в исполнение то, что не удалось его родителю, и когда? После блистательного и очаровательного века Екатерины! Следствием того было, что большая часть гвардейских офицеров вышла в отставку. Кем заменить их? Император перевел в гвардию гатчинских своих офицеров, и, пренебрегая прежними учреждениями Петра, теми же чинами, в которых они служили в неуважаемых тогда его морских батальонах. В этом поступке никто не хотел видеть необходимости, и еще менее великодушие в желании вознаградить тех, которые разделяли незавидную участь его в Гатчине. Все полагали, что это делается назло Екатерине. К несчастию, переведенные в гвардию офицеры, за исключением весьма малого числа, были недостойны этой чести и не могли заменить утрату первых. Гатчинские батальоны не могли равняться даже с армией, а еще менее с гвардией, где служил цвет русского дворянства. Никто не завидовал тому, что император раздавал им щедрой рукою поместья, это была награда за претерпенное ими в Гатчине[60]60
Все офицеры-гатчинцы при переводе в гвардию получили от Павла I, в зависимости от чина земли с ревизскими душами от 30 до 1000 человек, но объяснялись эти пожалования не как вознаграждение за нелегкую службу в Гатчине, а как необходимая материальная основа для прохождения службы и нахождения в гвардейских частях в дорогом для жизни Петербурге. См.: Томсинов В. Аракчеев. М., 2003. С. 99–100. Например, Е. Ф. Комаровский вспоминал: «Все служившие в гатчинских и Павловских батальонах штаб– и обер-офицеры получили деревни от 100 и до 250 душ, по чинам, а некоторые, как граф Аракчеев, Кологривов, Донауров, Кушелев и проч. – по 2000 душ» (Записки графа Е. Ф. Комаровского. М.,1990. С. 59).
[Закрыть]; но в гвардии им быть не следовало, ибо в этом кругу гатчинские офицеры не могли найтиться.
Предчувствия моего адмирала сбылись. Меня приказал к себе просить новый комендант Горбунцев[61]61
Горбунцов Егор Сергеевич (1767–1813), генерал-майор (1800). В 1800–1802 гг. комендант Ревеля.
[Закрыть] будто на вечер. Он объявил мне, что прислан к нему фельдъегерь за моим адмиралом. Горбунцев, хотя гатчинский, но был человек с чувством и отлично благородный.
– Примите, – сказал он мне, – какие-нибудь меры для успокоения вашего адмирала во время путешествия его в Петербург, которое, по приказанию, должно быть совершено в телеге, и объявите ему об этом несчастном случае.
Я просил его убедительно самому съездить к адмиралу, ибо я не в силах буду ему даже об этом намекнуть.
– Хорошо, – отвечал комендант, – надо усыпить фельдъегеря, он приехал пьяный, – и, призвав офицера, отдал ему какое-то приказание.
Вместе с комендантом сел я в карету и с тяжелым сердцем вошел в тот мирный и счастливый дом, который должен вскоре обратиться в дом скорби и печали.
– Доложите обо мне, – сказал комендант.
Я вошел в кабинет, и, вероятно, на лице моем выражалась скорбь, ибо адмирал, не дождавшись от меня ни слова, спросил:
– Что такое? – и слеза навернулась на глазах его.
С трудом мог я выразить:
– Комендант Горбунцев здесь.
Адмирал встал, прошелся по комнате, остановился, вздохнул, и с этим вздохом как будто ободрился.
– Попросите коменданта, – сказал он мне обыкновенным ласковым тоном, – а сами подите к Екатерине Федоровне (супруге его), но не показывайте ни малейшего вида, что вам что-нибудь известно!
Комендант вошел, а я пошел исполнить приказание адмирала. Адмиральша сидела окруженная детьми своими.
– Что делает Алексей Григорьевич? – спросила она у меня.
– У него комендант.
– Зачем он приехал? – спросила она с жаром.
– Не знаю-с.
Страшное беспокойство обнаружилось на лице и движениях ее. Можно ли скрыть что от женщины любящей! Сердце вещун.
– Верно что-нибудь случилось? – прибавила она.
– Кажется, ничего. Полагаю, комендант приехал с визитом.
– Боже мой! Какие времена! – воскликнула она, – каждую минуту ожидаешь беды.
Я обрадовался, когда адмирал потребовал меня к себе. Горбунцева уже не было.
– Мне нужно, – сказал адмирал, – приготовить Екатерину Федоровну, не уходите, я позову вас, когда нужно будет.
По беготне, посылке в аптеку, я мог догадаться, что происходило на женской половине, но, зная Екатерину Федоровну, женщину прелестную, умную, с духом возвышенным, одаренную необыкновенной живостью характера, я убежден был, что первая минута будет для нее нестерпимо ужасна, во вторую она явится героиней. Через час адмирал вышел.
– Слава Богу, – сказал он мне, – она успокоилась, подите к ней, помогите меня отправить.
Адмиральша встретила меня сими словами:
– Voila encore line jolie page dans la vie de notre Empereur. Il faut faire venir Николашка»[62]62
Вот еще одна красивая страница в жизни нашего императора. Нужно отправить вперед Николашку (фр.).
[Закрыть], – это был камердинер адмирала.
Наскоро укладывали мы в чемоданы все нужное и даже прихотливое, и отправили Николашку вперед на вольных, с тем чтобы он на каждой станции выжидал адмирала, но с готовыми лошадьми, чтобы всегда находился впереди. Поздно вечером явился фельдъегерь. У нас все было готово, я велел потчевать фельдъегеря чаем с ромом, ужином, винами, и фельдъегерь, торопившийся немедленно ехать, уснул крепко. Но только и нужно было выиграть время, и мы сели ужинать. Адмирал с супругой кушали, как обыкновенно, и адмирал был так весел, что казалось едет роur unе рагtiе dе рlaisir[63]63
По части удовольствия (фр.).
[Закрыть]. После ужина адмирал упросил супругу свою лечь почивать, уверяя ее, что не прежде поедет, как утром, ибо ему еще нужно кончить некоторые дела. И в самом деле, долго работал он в кабинете, в полночь вышел он с письмами в руках. Подойдя ко мне, сказал:
– Вот все то, что я в теперешнем положении мог сделать для вас. Скажите, что вы видели меня спокойным и уверенным в справедливости моего монарха; это письмо, – прибавил он, – положу я в спальню моей жены, благословляю всех, – и далее говорить не мог.
Слышно было, как голос его перерывался, вскоре он простился, сказав с чувством:
– Я с ними простился, скажите жене, чтобы она надеялась на Бога и на справедливость царя, а я покоен в совести моей. Велите позвать фельдъегеря.
Этого насилу могли добудиться. Когда он вошел, адмирал сказал ему:
– Я готов.
– Пора, наше высокопревосходительство, благодарю за угощение.
Подали адмиралу шубу, он обнял меня; я рыдал.
– Рагtеz dетаin, – сказал он, – роus Моsсоu еt tасhеz d’у trоuvеr du serviсе, lеs miеns vоus аidегоnt. Аdiеu mоn сhеr![64]64
Уезжайте завтра в Москву и постарайтесь там найти службу, мои близкие вам помогут. До свидания, мой дорогой! (фр.).
[Закрыть]
Мы пошли с лестницы, люди все его тут ожидали и лобызали его руки.
– Прощайте, друзья мои, берегите Екатерину Федоровну и детей; пустите, пустите, пора.
Я посадил его в телегу.
– Прощайте! – сказал он; но это «прощайте» выговорено было растерзанной душою.
Мне предстояла дома та же драма; я женился по любви, на благородной девице, и у меня уже был сын. Поутру рассказал я жене все и не дал времени расчувствоваться.
– Укладывайте скорее все нужное, – сказал я жене, – а я иду проститься с адмиральшей и отнести ей последнее прости от адмирала.
Вечером, в семь часов, сидел я уже в кибитке и через Псков, как мне приказано было, оставил Ревель навсегда и отправился в Москву.
VIII
Москва была уже не та, какой я видел ее прежде: вкралась недоверчивость, все объяты были страхом, но в родственниках моего адмирала нашел я то же радушие, то же гостеприимство и ту же готовность помочь мне своим кредитом. По новому учреждению каждый офицер должен был явиться к коменданту Гагсу. С трепетом предстал я перед ним; обойдя всех офицеров, дошел он до меня, и едва успел я выговорить свое имя, как он, взяв меня за руку, сказал:
– Пожалуйте ко мне, – я пошел за ним в кабинет, – вы напрасно сюда приехали, вы, батька, кажется, исключен, и ваш адмирал очень худо.
Добродушный тон коменданта меня ободрил. Я рассказал ему вкратце все обстоятельства и милость адмирала, который дал мне отпуск задним числом.
– Хорошо, – отвечал комендант, – мы поедем вместе к графу Ивану Петрович, он лучше знай.
Вот уже я с комендантом перед графом Иваном Петровичем Салтыковым[65]65
Салтыков Иван Петрович (1730–1805), граф, генерал-фельдмаршал. В 1797–1804 гг. московский главнокомандующий.
[Закрыть]. Он расспросил меня об адмирале моем, изъявил сожаление, вошел и в мое положение, спросив: сколько дней мне нужно пробыть в Москве? Я объявил ему, что буду ожидать письма от брата графа Палена из Ревеля, и с оным тотчас уеду в Петербург.
– Так и быть, оставьте его здесь, – сказал граф коменданту, – только, – обратясь ко мне, прибавил, – не показывайтесь Гертелю[66]66
Имелся в виду московский обер-полицмейстер генерал Эртель Федор Федорович (Фридрих) (1768–1825). В городе фактически все бразды правления он взял в свои руки.
[Закрыть].
Комендант вышел со мной и, отпуская меня, сказал:
– Ко мне явись утром, а коли нужда, вечером в семь или восемь часов, а теперь скорее домой. Кланяйся Анне Матвеевне и Григорию Григорьевичу (то были мать и брат моего адмирала).
Кому я был обязан этим спасением, хотя и не понимал, в чем дело состояло? – Людям, – остаткам века Екатерины, которые еще втайне умели блогодетельствовать нашей братии, офицерам, не ведающим, что делалось вверху.
Матери моей уже не было на свете; на году смерть прекратила нить жизни ее. Она сразила ее в подмосковной, которая после была моею. Я отыскал ее могилу и памятник, бросился на землю, и со слезами просил прощения, что женился без ее согласия и воли.
Пока я дожидался письма от барона Палена, приехала в Москву и жена моя с сыном. Ее уверили мои и ее приятели, что я лихой малой, бросил жену и сына. Раскупили задаром все наши пожитки и отправили ее в Москву – отыскивать бежавшего мужа. Эта клевета так меня озлобила, что я решился никогда в Ревель не возвращаться. Это обстоятельство крайне расстроило финансы наши на долгое время. Наконец, прибыло и ожидаемое письмо от барона Палена. Родственники адмирала снабдили меня рекомендательными письмами к некоторым вельможам, и я с семейством пустился в Петербург.
Вечером в девять часов въезжали мы в столицу; на заставе приказано мне было явиться в шесть часов утра к санкт-петербургскому военному генерал-губернатору, графу Палену. Мы остановились в гостинице: поутру рано пошел я с письмом барона Палена к брату его. Зала графа наполнена была уже просителями, которые стояли по чинам все в полукружке. Я смиренно занял последнее место; вскоре вошел граф и обратился к первому стоящему во главе чиновнику. Окончив с ним, говорил с каждым по очереди, наконец дошло дело и до меня; у меня сердце было не на месте.
– Кто вы? – спросил меня граф.
Я кое-как пролепетал ему имя мое и звание и подал письмо от брата. Он разорвал печать и начал читать. Часто во время чтения рассматривал он меня с головы до ног и, прочитав, разорвал с гневом письмо брата, вскрикнув:
– У меня рекомендации нипочем, пока вы не заплатите долгов ваших до последней копейки я вас не выпущу из Петербурга.
Я готовился оправдываться:
– Ваше сиятельство!
– Молчать, – вскричал граф и, обратясь ко мне спиной, сказал своему адъютанту, – Вольмар, вы мне отвечаете за этого офицера.
Граф, распростясь со всеми, ушел в свой кабинет, а Вольмар, подозвав меня к себе, сказал:
– Bleiben siе hiеr stеhеn[67]67
Пребывание ваше будет здесь (нем.).
[Закрыть].
Через полчаса слышен был звонок. Мой сторож, майор Вольмар, проговоря мне грозно: «Gеhеn siе nicht weg»[68]68
Никуда отсюда не уходить (нем.).
[Закрыть]; побежал к графу. Возвратясь оттуда, объявил: «Gеhеn siе zum Grafen Teufel»[69]69
Идите к графу Черту (нем.).
[Закрыть], но таким тоном, как будто: gеhеn siе zum Teufel[70]70
Идите к черту (нем.).
[Закрыть]; и указав мне дверь, да! – прибавил он.
Я с трепетом вошел и увидал графа, стоящего без мундира, подбоченясь, среди комнаты, и что крайне меня удивило – хохотавшего от души. Я испугался и думал, что он с ума сошел.
– Что? – сказал он мне по-немецки, – Вы, чай, изрядно испугались?
Увидя печальное мое лицо, прибавил:
– Это так должно быть, говорите скорее, что я могу для вас сделать?
Я не мог выговорить ни слова, граф сжалился, кажется, и, улыбаясь приветливо, сказал:
– Хотите письмо к графу Григорию Григорьевичу Кушелеву?[71]71
Кушелев Григорий Григорьевич (1754–1833), адмирал. В правление Павла I осуществлял фактическое руководство русским флотом.
[Закрыть]
Я пришел немного в себя и осмелился объяснить, что я имею письмо к Ивану Логиновичу Голенищеву-Кутузову[72]72
Голенищев-Кутузов Иван Логгинович (1729–1802), адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии.
[Закрыть].
– Хорошо, – отвечал граф, – не мешает к обоим, и дал мне две записки, прибавя, – коли ничего не сделают, придите ко мне. Вольмар! – вскричал граф; когда этот явился, он сказал ему: – пригласите этого офицера завтра ко мне обедать. Понимаете?
Я вышел вместе с Вольмаром, и медведь этот очеловечился, сказав мне ласково:
– Приходите завтра ровно в три часа, но не опоздайте, а то вас приведут, – и записал мою квартиру.
Все еще существует, сказал я, сходя с лестницы, дух Великой Екатерины. Что будет с нами, бедными офицерами, когда и он будет стерт с лица земли?
Я роздал письма и, чтобы не задержать читателя собственными обстоятельствами, кроме тех случаев, которые характеризуют век, скажу только, что задним числом я определен был в Адмиралтейств-коллегию и был при вице-президенте Иване Логиновиче Голенищеве-Кутузове.
Сей почтенный, престарелый муж соединял в себе остатки Петра І, Елисаветы и был века Екатерины. К обширнейшим познаниям присовокуплял он твердость Петра, доброту Елисаветы и вельможничество Екатерины. Императору Павлу он давно был известен, и был им любим и уважаем. Супруга его, Авдотья Ильинишна, могла служить образцом доброты душевной и детской покорности мужу; она напоминала конец XVII и первую половину XVIII века. И так я сделался теперь петербургским жителем и буду описывать не одно слышанное, но и виденное ежедневно.
IX
Негодование в Петербурге возрастало с каждым днем более и более. Император ниспровергал все сделанное прежде и оскорблял самолюбие каждого, особенно прежних вельмож. Это корень всех последующих неприятностей императора. Ничто учиненное им не согревало сердце, все выставлялось в черном свете. Желание сына воздать отцу должное перетолковано было, как единое желание мщение, чтобы ярче высказать (нерасположение к) матери. Я другого мнения. Доброе и благородное сердце Павла увлечено было сперва мыслью, пробужденной чувством сыновним отдать праху отцовскому почести погребения, принадлежащие императору. В сопровождении Безбородки и одного адъютанта едет Павел в Невскую обитель и отыскивает монаха. Разрыли могилу и вскрыли гроб, который приходил уже в гнилость. При виде печальных останков отца, пепла, нескольких частей лоскутков сукна мундира, пуговиц, клочков подошв Павел проливает непритворные слезы. Внесли гроб в церковь, ставят на парадное ложе, и император устанавливает те же почести, которые воздавались матери его; ежедневно ездит два раза на панихиду к отцу своему. Он был религиозен, и продолжительные несчастия утвердили его в веровании. С воображением пылким, с неограниченной чувствительностию, переезжая с одной панихиды к другой, соединяя беспрерывно в мыслях своих мать, отца, как легко мог он подумать: «жизнь их разлучила, да примирит их смерть в одной могиле!» – и мысли эти немедленно были исполнены. Торжественно привезли останки Петра III в новом, прилично его сану, гробе, из Невского монастыря во дворец – и Петербург увидел два гроба: Петра и Екатерины, стоящих мирно друг против друга. Заметим, что перенесение останков Петра происходило несмотря на 18° мороза и что вся императорская фамилия шла за гробом в глубоком трауре. Может быть, император, поставив гроб сей подле матери, думал: «тебе, отец мой, воздаю должное, а тебя, мать моя, примиряю с тенью покойного супруга». Поэзия эта была ближе к характеру Павла, нежели суетное мщение, – над кем? – над бездушным трупом матери. Клеветники вообще, а особенно из оскорбленного самолюбия, – худые сердцеведцы.
Другой великодушный поступок императора был также ложно истолкован. Павел в сопровождении великого князя Александра Павловича и генералов своей свиты поехал в дом графа Орлова, где жил знаменитый Костюшко. Здесь заметить должно, что, вопреки иностранным известиям, Костюшко содержался при Екатерине с достодолжным уважением к возвышенному духу его и к незаслуженному несчастию. Император, войдя к Костюшке, сказал ему:
– Досель я мог только об вас сожалеть, ныне, удовлетворяя моему сердцу, возвращаю вам свободу и первый тороплюсь вам лично о том известить.
Костюшко не мог вымолвить ни слова, слезы катились из глаз его; это еще более тронуло императора – он посадил Костюшко подле себя на канапе и ласковым разговором старался успокоить его на счет будущности. Ободренный Костюшко осмелился спросить императора:
– Будут ли освобождены и прочие мои товарищи, взятые со мной в плен?
– Будут, – отвечал Павел, – если вы за них поручитесь.
– Позвольте, ваше величество, взять с них сперва честное слово, что они никогда не поднимут оружия против России, и, получив оное, готов за них ручаться.
Через несколько дней Костюшко представил императору реестр поляков, взятых вместе с ним в плен.
– Вы ручаетесь за них? – спросил император.
– За всех, как за себя, – отвечал Костюшко, и немедленно были освобождены.
Государь пожаловал Костюшке и Потоцкому каждому по тысяче душ, позволил первому отправиться, по его желанию, в Америку, и облегчил все средства к отъезду его.
И этот трогательный поступок, столь великодушный, перетолкован был, как будто сделан в уничижение памяти Великой Екатерины.
В опровержение этого ложного толкования приведем мы слова самого императора; отпуская Потоцкого из Петербурга, он сказал ему:
– Я всегда был против раздела Польши: раздел этот несправедлив и противен здравой политике; но это сделано: уступят ли добровольно другие державы то, что у вас насильственно отнято, чтобы восстановить отечество ваше? Император австрийский, а еще менее король прусский, пожертвуют ли приобретенными ими землями в пользу Польши? Объявить им войну было бы, с моей стороны, безрассудно, а успех ненадежен, потому прошу вас, не мечтайте о том, чего возвратить нельзя, в противном случае вы подвергнете любимую вами Польшу и самих себя еще большим бедствиям.
Слова эти свидетельствуют громко, что в освобождении Костюшки и его товарищей руководействовался Павел убеждением, правильным, или неправильным, все равно, что раздел Польши несправедлив и что люди, поднявшие оружие для защиты отчизны, – герои, достойные его уважения.
По окончании погребения Петра III Павел велел позвать графа Алексея Григорьевича Орлова, который по его повелению дежурил у гроба Петра III, и во время погребальной церемонии нес за гробом императора корону. Павел заметил, что урок, данный Орлову, на него не подействовал; напротив того, граф исполнял возложенную на него должность с хладнокровием и равнодушием почти преступным. Когда Орлов явился, император, после нескольких минут молчания, в которые пристально смотрел Орлову в глаза, сказал:
– Граф, я сын, и легко могу увлечен быть желанием отмстить за отца; я человек и за себя ручаться не могу; мы одним воздухом дышать не можем. Пока я на престоле – живите вне России. Паспорта ваши готовы, поезжайте, влачите за собою на чужбину неоднократно повторенные преступления ваши.
Кажется, император намекал тут не на одного Петра, но и на девицу Тараканову и брата ее.
Приведем несколько рассказов из жизни императора.
Х
Во время коронации в Москве Брант, служивший в конной гвардии и выпущенный еще при императрице в Архаровский полк премьер-майором, получил записку от гатчинского экзерцицмейстера, полковника гвардии, чтобы он представил ему полк на другой день, в восемь часов утра, на Девичьем поле. В половине восьмого часа Брант с полком выжидал в Зубове, чтобы на Спасской башне ударили восемь часов. Брант немедленно выступил: выстроил фронт, отдал честь полковнику, который, в ожидании его, прохаживался по Девичьему полю, и подал рапорт.
– Ты запоздал, – сказал полковник, – я именно приказал собраться в семь часов.
– В записке вашей, – отвечал Брант, – стоит восемь часов.
– Неправда! – подхватил полковник, – покажите.
Брант представил записку. Полковник, прочитав, разорвал ее.
– Ты подлец, – вскричал Брант, – зачем разорвал записку? Грамоте не знаешь и хочешь меня сделать виновным?
– Ага, молодец! – вскрикнул полковник, – да ты думаешь еще служить этой старой…
Едва успел полковник вымолвить это неприличное слово, как на щеке его явилась заслуженная, здоровая пощечина. Полковник пошатнулся. Бранту показалось этого мало; дал ему другую поздоровее и полковник всею тяжестью тела упал на землю. Брант поставил ему ногу на грудь, плюнул в рожу, сказав:
– Уважая еще мундир, позволяю тебе вызвать меня на дуэль.
Полковник из Гатчины подобных слов не понимал, он подал рапорт с прописанием побоев и прочего. Брант немедленно был разжалован в солдаты в тот же полк. Он был человек отличный, образованный, с духом возвышенным; в солдатском мундире гордился своим поступком. Все записки подписывал: «Кавалер белой лямки». За неделю перед отъездом императора в Петербург прискакал фельдъегерь и потребовал к государю рядового Бранта. Когда он вошел в кабинет, Павел, державший в руках бумагу, положил ее на стол и, подойдя к Бранту, сказал:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































