Читать книгу "Записки. 1793–1831"
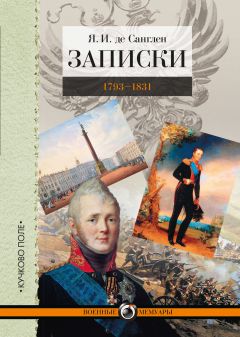
Автор книги: Яков Санглен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Всякое воскресенье мы обедали у матери моего начальника, где собирались все родные и несколько людей посторонних. Здесь соблюдался тот же этикет, как в благородном собрании. Надо было видеть это почтение к старшим в роде. Сын, невзирая на лета, на чин, был равен, в некотором отношении, с сыном недорослем. Сенатор М. Г. Спиридов[25]25
Спиридов Матвей Григорьевич (1751–1829), известный русский генеалог, сенатор, камергер, сын знаменитого адмирала Г. А. Спиридова. Женившись в 1775 г. на дочери известного историка М. М. Щербатова, он, под влиянием и руководством своего тестя, начал заниматься историей, особенно же генеалогией русского дворянства.
[Закрыть] приезжал в воскресенье к матери обедать в мундире и ленте через плечо. Он любил после обеда выкурить трубку; матушка табачного запаха не жаловала; он после обеда уходил в лакейскую, отворял форточку и, окруженный двадцатью и более лакеями, почтительно стоявшими перед ним, выкуривал трубку. Супруга его, урожденная княжна Щербатова[26]26
Спиридова Ирина Михайловна, урожденная княжна Щербатова (1757–1827).
[Закрыть], дочь нашего историографа, никогда не приезжала без шифра[27]27
Шифр с вензелем или золотой знак отличия фрейлин при российском императорском дворе.
[Закрыть]. Все гости подчинялись тому же порядку, и горе тому, который вздумал бы оный нарушить. Перенимая все, перенял я и это: всякое утро приезжал я к матери моей во всей форме, от нее ездил к матери моего начальника. Мать моя, видя ежедневную мою покорность и безропотное повиновение, смягчалась и уже при отъезде дневном говорила:
– Ты завтра будешь ли, мой друг?
Когда я привез эту весть моим товарищам, они бросились мне на шею, целовали, радовались не менее моего.
– Оборони Боже, – говорили они, – несть на себе гнев родительский; какого тут счастия ожидать?
Все московские аристократы обедали тогда в два часа, и никого к обеду не поджидали; «каждый, говорили, должен знать час, в который хозяева обедают, опаздывать неприлично и невежливо». Обеды роскошествовали числом блюд; за стулом почти каждого собеседника стоял лакей в ливрее. Немудрено: тогда дворовых считалось в доме до ста и до двухсот человек. Говорили, что во время погребения графа Петра Борисовича Шереметева все дворовые, в числе более пятисот человек, шли за гробом в траурных кафтанах и заключали церемониал погребения. При столе заправлял всем столовый дворецкий, причесанный, напудренный, в шелковых чулках, башмаках с пряжками и золотым широким галуном по камзолу; кушанье разносили официанты, тоже напудренные, в тонких бумажных чулках, башмаках и с узеньким по камзолу золотым галуном. Должно было удивляться порядку, тишине и точности, с которыми отправлялась служба за столом. Все это в уменьшительной степени соблюдалось и в домах дворянских среднего состояния. Тянуться за богатыми было всегда болячкой людей менее богатых. На бал собирались, в благородное собрание, в семь часов, а в партикулярных домах в шесть, и оставались до двух, трех, а у Волынского до утра. В сапогах танцовать не позволялось, почиталось неуважением к дамам. Бал открывался минуэтом: особенно в чести был ménuet à lа Rеinе[28]28
Рейнский менуэт (фр.).
[Закрыть]; потом торжественно выступал длинный польский, в первых парах магнаты, а за ними следовала публика. Танцовали иногда и круглый польский, потом начинались англезы, среди которых примешивалась хлопушка, потом кадрили с вальсом и особенно трудный своими прыжками французский кадриль, отличавшийся своими contre-tems en avant, contre-tems en arrière, pas de pigeon[29]29
Движение вперед, движение назад, не голубь (фр.).
[Закрыть], и пр. Бал заключался шумным а lа Grеcque, или гросс-фатером, введенным, как утверждали, пленным шведским вице-адмиралом графом Вахтмейстером[30]30
Вахтмейстер Адам (1755–1828), шведский граф, вице-адмирал. Был взят в плен во время морского сражения при о. Гогланд в 1788 г. и отправлен на жительство в Москву, а затем в Калугу.
[Закрыть].
По окончании широкой веселой масленицы, всех маскарадов, публичных и партикулярных, беспрерывных катаний по улицам, после завтраков déjeuners dansants[31]31
Танцующие обеды (фр.).
[Закрыть] Волынского, обедов, ужинов, где первое место занимали разнородные блины, получил я, на первой неделе Великого поста, повеление возвратиться в Ревель, но через Петербург, где должен был исполнить некоторые поручения моего начальника.
Думать было нечего; как ни жалко расставаться с Москвою, а ехать должно.
Как будто в знак памяти, новые мои знакомые, родственники моего начальника, особенно Нестеровы, снабдили меня разными вещами: скромный мой ревельский чемоданчик заменен был другим и мог уже дорогой служить мне тюфяком. И с какой деликатностию все сделано было! Я не прежде узнал о своем богатстве, как по возвращении в Ревель.
Добрые, бесценные люди! Вас уже давно нет на свете. Заросла, забыта хладная могила ваша; но есть еще сердце благородное, которое с горячностию вспоминает о вас, о ласках ваших, которые он вполне ценит и чувствовать умеет, и некогда, по окончании земного бытия, там, как на этих страницах, о вас свидетельствовать будет!
Последний вечер в Москве провел я у матери моей по ее приглашению. Никогда не была она ко мне так милостива, ласкова, даже предупредительна, как в этот вечер. Тем тяжелее для меня была разлука. В полночь подошел я к ней проститься.
– А сядь же, – сказала она мне, – потом встанем и помолимся, чтобы Бог дал тебе счастливый путь.
Настала минута разлуки.
– Прощай, мой друг, – продолжала она, и слеза навернулась на глазах ее; у меня катились они невольно. – Может быть это последнее свидание, – сказала она, – кто знает? Обещай мне, как ни была бы тяжела судьба твоя, переносить все с твердостию и содержать в памяти, что Богу Сердцеведцу все известно; мысль эта не допустит тебя ни до чего низкого и возвысит дух твой.
Я обещался свято исполнить ее приказание. Она прижала меня к груди своей.
– Прощай, – сказала она, слабеющим голосом, и я едва поддержать ее мог: она упала в обморок.
Пришедшие на голос мой женщины положили ее на канапе и просили меня скорее уехать, чтобы эта сцена не повторилась. Я поцеловал с горячностию руку матери моей и поспешно сел в повозку, которую мать моя мне подарила.
Почувствовала ли она, что мы расстались навсегда? Она была так молода, ей минуло 38 лет, а мне 19 лет. «Бог один руководит происшествиями в жизни», – говорила она, а я прибавляю: «пути Его неисповедимы».
Проехав заставу, простился я мысленно с Москвою, тоже не зная, что этой пышной, богатой, гостеприимной и патриархальной Москвы я уже не увижу. В минуту тяжелой разлуки человек утешается мыслию: увидимся! и утирает навернувшуюся слезу. Что было бы, если бы книга судеб отверста лежала пред ним, и он прочел бы, что все то, что ты видел, чем восхищался, что полюбил, ты более не увидишь. Благодарю Десницу, скрывающую от меня будущее! Теперь страдаю однажды; тогда страдал бы мыслию несколько раз. Мир этот, по законам Предвечного, отжил безвозвратно… Жаль его – кому? мне, и не без причины. Почти все те, с которыми начал жизнь, учился, служил, все лежат в сырой земле. Все связи, кроме родственных, связи любви, дружбы, товарищества, благодарности, все разъединены холодной рукой смерти; осталось одно скорбное воспоминание в осиротевшем сердце. Но кто верит в Провидение душой сильной, умом светлым, тот легко убедится, что невидимая Десница все ведет к лучшему, тайными, иногда и жестокими для нас, путями.
IV
Я думал пробыть в Санкт-Петербурге не более трех дней, но адмирал прислал мне отпуск и с тем вместе насколько комиссий. Я развез данные мне в Москве рекомендательные письма родственникам и другим особам. Прием был холодно-ласковый, и я не нашел здесь того приветливого гостеприимства, того радушия, которыми отличалась Москва. Не менее того этим рекомендательным письмам обязан я был тем, что два раза видел Великую Екатерину. В первый раз при большом входе в церковь.
Она шла медленно, поступь ее была непринужденная, осанка величественная, главу ее украшала маленькая бриллиантовая корона. Улыбаясь, кланялась она на обе стороны, и улыбка ее выражала милость, соединенную с величием. Все придворные, шедшие впереди и за нею, казалось, вылиты были из золота, а дамы осыпаны бриллиантами. Во время шествия ее дыхание мое остановилось, все существо мое, казалось, перешло в глаза. Она прошла, а я все еще стоял неподвижно на одном месте. Мудрено ли, думал я, что императрицу принимают за Бога земного? Юпитер во дворце своем, на Олимпе, едва ли мог окружен быть таким великолепием и едва ли внушал более благоговейного внимания. При виде ее мысль об осчастливленной и прославленной ею России пробуждала какое-то чувство гордости быть русским и служить ей.
Во второй раз видел я императрицу, садящуюся в сани, чтобы прокатиться. Ее провожал князь Платон Александрович Зубов. Она шла под вуалем, но и по походке можно было узнать Великую. Я слышал голос ее. Повелительным, но милостивым тоном, сказала она: «Садитесь, князь!» Долго отзывались звуки этого голоса в ушах моих, думаю, иногда и теперь их слышат.
Петербург не имел тогда никакого сходства с патриархальной простотою матушки-Москвы. Там был тон русской национальности, все напоминало древнюю Русь; здесь все походило на нечто иностранное, чужое; говорили в обществах по-французски и только с подчиненными по-русски. Даже и купеческие дома Бахарахта[32]32
Видимо, имелись в виду купцы из Бахараха, городка на р. Рейн в Германии.
[Закрыть] и прочие подражали этому же тону. Не оттого ли иностранцы называли Россию очень долго Московией? Большую часть всех разговоров занимала Екатерина; она была как будто душою всех частных бесед; друг перед другом ревновали пересказывать анекдоты[33]33
Анекдот в понимании людей начала XIX века был достоверный случай из жизни с налетом легендарности.
[Закрыть] из приватной ее жизни, которые и я читателю хочу сообщить для того, чтобы они не пришли в забвение, что достойны быть переданы потомству, и, наконец, потому, что они все служили примером вельможам, от них переходили к подчиненным, а от этих до низших классов. Все ставили в образец ее великодушие, ее взгляд на вещи, на предметы, ее окружавшие, и таким образом все хорошее распространялось по всей России, перенималось от нее.
Роджерсон[34]34
Роджерсон Джон Самюэль (Иван Самойлович) (1741–1823), шотландский врач, лейб-медик Екатерины II.
[Закрыть], говорили, предписал императрице, для возбуждения аппетита, употреблять перед обедом рюмку Гданской (Данцигской) водки. Екатерина последовала совету врача. Лечение это производилось с пользою, уже несколько времени. Однажды Екатерина, шутя, выхваляла пользу и дешевизну лечения.
– Не так-то дешево, государыня, – отвечал ей граф Брюс[35]35
Брюс Яков Александрович (1732–1791), граф, генерал-аншеф, сенатор, петербургский градоначальник.
[Закрыть], – по счету мундшенка выходит всякий день два штофа этой водки.
– Ах, он старичишка! – говорит императрица. – Что подумают обо мне? Велите позвать.
Явился седой, согбенный старик, которого имя я запамятовал.
– Сколько выходит у тебя, – спросила императрица, – ежедневно Гданьской водки?
– Два штофа, государыня!
– Не грех ли тебе; могу ли я два штофа выпить?
– Выслушайте, матушка государыня, выходит иногда и более; ваше величество выкушаете только четверть рюмочки; но только что выйду от вас, выходит дежурный генерал-адъютант. «Дай отведать царской водочки». Я ему рюмочку. А тут дежурные флигель-адъютанты, камергеры, камер-юнкеры, глядь, штофика-то и нет. Бегу за другим; тут и Бог весть, что нахлынет, и докторов, и лекарей, и прочих. Все просят отведать царской водочки! Наконец возвращаюсь в буфет: семга, и я отведаю царской водочки: позову помощника, – двух штофиков и нет!
– Ну, ну, хорошо, – сказала императрица, улыбаясь, – смотри только, чтобы более двух штофиков в день не выходило.
Как снисходительна она была, а по ней и вельможи, к неуважительным предметам, к малостям, может служить следующий анекдот. Однажды, после обеда, играла императрица в карты с графом Кириллом Григорьевичем Разумовским. Входит дежурный камер-паж и докладывает графу, что зовет его стоящий в карауле гвардии капитан.
– Хорошо! – отвечал граф, и хотел продолжать игру.
– Что такое? – спросила императрица.
– Ничего, ваше величество! Зовет меня караульный капитан.
Императрица положила карты на стол:
– Подите, – сказала она графу, – нет ли чего? Караульный капитан напрасно не придет.
Граф вышел и немедленно возвратился.
– Что было? спросила Екатерина.
– Так, государыня, безделица; господин капитан обиделся немного. На стене, в караульной, нарисовали его портрет во весь рост, с длинной косою и со шпагою в руках, и подписали: «тран-тараран, Булгаков храбрый капитан».
– Чем же вы решили это важное дело? – спросила государыня.
– Я приказал, коли портрет похож, оставить, коли нет, стереть. – Государыня расхохоталась.
Как уважала она службу людей, в каком бы чине они не были, и тем самым заставляла и своих вельмож поступать так же, докажет следующее: граф Николай Иванович Салтыков, по рапортам начальствовавших лиц, представил императрице об исключении из службы одного армейского капитана:
– Это что? Ведь он капитан, – сказала императрица, возвысив голос. – Он несколько лет служил, достиг этого чина, и вдруг одна ошибка может ли затмить несколько лет хорошей службы? Коли в самом деле он более к службе неспособен, так отставить его с честью, а чина не марать. Если мы не будем дорожить чинами, так они упадут, а уронив раз, никогда не поднимем.
Вечерние беседы в Эрмитаже назначены были для отдыха и увеселения после трудов. Здесь строго было воспрещено малейшее умствование. Нарушитель узаконений этого общества, которые написаны были самою императрицей, подвергался, по мере преступлений, наказанием: выпить стакан холодной воды, прочитать страницу Телемахиды, а величайшим наказанием было: выучить к будущему собранию из той же Телемахиды 10 стихов. Говорят, Лев Александрович Нарышкин[36]36
Нарышкин Лев Александрович (1733–1799), камергер, обер-шталмейстер.
[Закрыть] чаще прочих подвергался этому наказанию. Но подозревали его в умысле; восторженная, почти беснующаяся его декламация производила смех и тем содействовала общему увеселению. Люди, одаренные особенным талантом кривляться, изменять свою физиономию и проч. преимущественно принимаемы были в члены этого общества. Ванджура спускал до бровей натуральные волосы свои, как будто парик, передвигал опять направо, налево и за это почитался капитаном общества. Сама Екатерина, умевшая спускать правое ухо к шее и опять поднимать вверх, признана была поручиком общества. Один из них умел натурально представлять косолапого, другой картавого, и т. д. Кто во что горазд! Заметить должно, что здесь не было ни чинов, ни титулов; все имели одно только право веселиться. Ваше величество, ваше превосходительство и прочие возгласы подвергались наказанию. Таким образом владычица обширнейшей империи в мере заставляла других, хотя на несколько часов, забывать, что она императрица, а самой ей это напоминало, и где – во дворце, – что она человек, имеющий нужду в свободном обращении с другими людьми, чего лишена была вне Эрмитажа, по сану самодержицы.
Представя читателю, с какой высоты смотрела императрица на все ее окружающее, каждый поймет, какое это имело влияние на вельмож, приближенных к великой государыне, и почти на все сословия, особенно на дворянское.
Я оставил Петербург, не предполагая, что вскоре увижу его опять, но не в том блеске, которому я удивлялся.
V
К сроку явился я в Ревель к адмиралу своему, и прежняя жизнь уже не возобновлялась, ибо лишена была прежней своей прелести. Я смотрел на все с новой точки зрения и, мало по малу, обратил этот бесполезный быт, по крайней мере, в пользу для самого себя.
Во все свободные часы от службы занимался я особенно изучением древней литературы, Кантовой философии, и посещал только те общества, в которых мог почерпнуть полезное и для науки, и для себя. Сверх того начал я прилежно обучаться русскому языку, т. е. письменному, что весьма трудно было, ибо Ревель походил тогда более на немецкий город, нежели на русский. К счастию, некоторые из наших морских офицеров: Малеев, Рожнов и Акимов, взялись меня руководствовать и тем облегчили мне труд. Я переводил, читал им свои переводы и, наконец, собственным неутомимым прилежанием достиг до той степени, на которой теперь нахожусь.
Среди этих мирных упражнений пришла в Ревель роковая весть о смерти Екатерины. Все горько поражены были этим печальным известием; никто не ожидал этого несчастия; все полагали Екатерину бессмертной, чем она действительно сделалась после смерти ее, в России, может быть во всей Европе, и там – в истинной ее отчизне. Все окружавшие императрицу думали, что отказ, сделанный шведским королем графу Маркову[37]37
Имелся в виду известный русский дипломат граф Морков Ираклий Иванович (1847–1827). Упомянутый инцедент 1796 г. был связан с отказом шведского короля Густава IV Адольфа обвенчаться с внучкой императрицы Александрой. Король наотрез отказался подписать письменное обязательство разрешить своей будущей супруге свободно исповедовать православную веру (этого не допускала шведская конституция), после чего покинул Петербург и уехал в Швецию.
[Закрыть], был главной причиной последовавшего затем удара. Но должно заметить, что это хотя крайне ее поразило, однако же в течении шести недель она не почувствовала ни малейшей перемены в здоровье своем. Накануне удара она принимала, по обыкновению, общество свое в опочивальне, была весела, много говорила о смерти короля Сардинского и стращала собственной своею смертию Л. А. Нарышкина. Не было ли это предчувствием? Смерть ее рассказывается различно. Вот что я слышал позднее от г-жи Перекусихиной[38]38
Перекусихина Мария Савишна (1739–1824), камер-юнгфрау и близкая подруга императрицы Екатерины II.
[Закрыть] и камердинера покойной императрицы Захара Зотова[39]39
Зотов Захар Константинович (1755–1822), камердинер императрицы Екатерины II.
[Закрыть].
Поутру 7 ноября 1796 года, проснувшись, позвонила она по обыкновению в семь часов; вошла Марья Савишна Перекусихина. Императрица утверждала, что давно не проводила так покойно ночь, встала совершенно здоровой и в веселом расположении духа.
– Ныне я умру, – сказала императрица.
Перекусихина старалась мысль эту изгнать: но Екатерина, указав на часы, прибавила:
– Смотри! В первый раз они остановились.
– И, матушка, пошли за часовщиком и часы опять пойдут.
– Ты увидишь, – сказала государыня, и, вручив ей 20 тысяч рублей ассигнациями, прибавила, – это тебе.
Соображая это с шуткой накануне, все заставляет меня думать, что какое-то темное предчувствие о близкой смерти беспокоило ее душу. Но, как и всегда, пока здоровы, крепки, мы пренебрегаем этими намеками и дорожим ими менее, чем бы следовало. Что, если бы она поверила этому предчувствию и подумала об оставляемом ею царстве?
Екатерина выкушала две большие чашки крепкого кофе, шутила беспрестанно с Перекусихиной, выдавала ее замуж и потом пошла в кабинет, где приступила к обыкновенным своим занятиям. Это было около восьми часов утра. В секретарской начали собираться докладчики и ожидали здесь ее повелений. Проходит час, и никого не призывали. Это было необыкновенно. Спрашивают «Захарушку». Он полагает, что императрица пошла прогуляться в зимний сад. Императрицы нет. Идет в кабинет, в спальню, нет нигде, наконец отворяет дверцы в секретный кабинетик – и владычица полвселенной лежит распростертой на полу, и смертной бледностию покрыто лицо ее. Он вскрикивает от ужаса; подбегают Перекусихина, камердинер, поднимают, выносят и кладут на пол на сафьяном матраце. Роджерсон тотчас приехал, пустил кровь, которая потекла натурально, а к ногам приложил шпанские мухи.
Хотя доктора уверены были, что удар был в голову и смертельный, но все средства употреблены были для призвания ее к жизни. Двумя ударами раскаленного железа по обеим плечам пытались привести ее в чувство. Она еще раз, на минуту, открыла глаза и потом закрыла их навсегда. Долго боролась еще материя со смертию и уже никакого морального признака жизни не было. Г-жа Перекусихина и доктора ежеминутно переменяли платки, которыми обтирали текущую из уст ее сперва желтую, а потом черную материю. Беспрерывное движение живота, который судорожно то поднимался, то опускался, возвещало только о жизни. В повествовании о восшествии на престол Павла I увидим еще некоторые подробности об ее смерти.
Век Екатерины кончен. Она сошла в гроб, а с нею и волшебный мир, ею созданный. Блеску много, ибо век ее ныне, в 1860 году, почитается баснословным. Россия была счастлива, богата и во все продолжение царствования ее не было ни одного нового налога (?!). Она говаривала, что была преемницей Великого Петра. Но Петр действовал со строгостию; непреклонная его воля все решала, он вводил свое нововведение принужденно. Екатерина милостиво владела сердцами, возвеличила все начатое Петром, сделалась тоже преобразовательницей России, и повелевала как земной Бог. Чем? Уважая тех, которые ей повиновались; этим средством облагородила она повиновение, сделав его нравственным. Она прославила Россию победами, законами, и заставила иностранцев не только любить, но и уважать Россию. Уничтожив (?) Тайную канцелярию, она оттолкнула от себя подозрения, истребила его в нас и тем возвысила дух наш. Громко стали осуждать дурное, хвалить хорошее, и Екатерина вслушивалась в глас народный, не пренебрегая им. Не страхом, не казнью, не пыткой, а милосердием владычествовала она. На мелочи взирала она с высоты своей с пренебрежением и во всех важных случаях твердой рукою правила кормилом государства. Двор ее, гвардия, армия, флот, гражданские чины, все дышало благородством, честью, непритворной любовью к Оте честву – и все это внушала Екатерина. Страшились только одного – подвергнуться гневу ее. Один французский писатель, живший долгое время в России, сказал про нее: «Catherine a constamment remplacé par le sentiment actifde l’honneur lesterile et bas sentiment de la crainte servile»[40]40
Екатерина активно заменяла низменное чувство рабского страха на стерильную честь (фр.).
[Закрыть]. И как умела она выбирать и воспитывать людей для обширных планов своих!
Утаить нельзя, подле блогодеяний, излиянных Екатериной на Россию, есть и зло. Солнце не без пятен. Наказ ее истинно либеральный, ибо за свободу мышления публично сожжен был в Париже. Однако бессмертный этот наказ в исполнение приведен не был. Зачем преждевременно знакомить народ с такими предметами, которые пустить в обращение опасно? Это труд недовершенный. Вообще заметить должно, что Екатерина, желая быть единственно душой всех государственных действий, явила в своих учреждениях более блеску, нежели основательности. Владычествуя сильной рукою, была душой всех. И не это ли было причиной, что когда души этой не стало, то почти все ее нововведения вскоре пошатнулись?
Упрекают ее в слабостях, имевших вредное влияние на нравственность. В высшем классе развратились нравы любострастием, которому самый двор служил примером; в низшем питейные дома умножили пьянство, а с ним размножились и пороки. Но чтобы судить об Екатерине, должно ее рассматривать как владычицу полвселенной, а не как женщину в приватной ее жизни. Сидя на престоле, взвешивала она судьбу как своих, так и других народов с удивительным искусством, твердо управляла кормилом государства, умела всегда вовремя поддерживать и расторгать связи с другими державами. Довольство, счастие подданных было единственной ее целью, хотя иногда в способах к достижению сего могла ошибаться. Как женщина, в домашнем кругу своем, она была снисходительна, любезна, и телом и душей предана любви.
Владычествовать и любить – были две необходимости для ее души.
Раскроем историю: чем выше, чем благороднее человек, тем более подвержен он слабостям, и часто ведшие его подвиги бывают следствием этих же слабостей. Екатерина не упускала из виду императрицы. Любимцев своих употребляла она исполнителями высоких своих предприятий. Если ошибалась в выборе, немедленно их сменяла, и долгое время придерживалась достойных. Упрекают императрицу в щедростях, распространяемых ею на своих фаворитов. Правда – каждому фавориту давалось по 14 тысяч душ крестьян, но этим пользовались не одни фавориты. Пример тому – князь Репнин и прочие. И не присоединялся ли к этому высший взгляд? Казенные крестьяне платили малый оброк, незначительные подушные; земли лежали необделанные, и всегда были недоимки. Крестьяне утопали в невежестве; за раздачей крестьян водворялась владельцами экономия (?!). Они заводили хлебопашество, хутора, фабрики, отстраивали себе жилища и тем распространяли в народе новые идеи, а государство обогащалось (!) изобилием произведений. Что эта мысль была в голове Екатерины, доказать может следующее: она неоднократно желала освободить крестьян от рабства. Но как к этому приступить? С одной стороны, удерживало ее невежество самих крестьян, которым эта свобода могла послужить более во вред, нежели в пользу. Не имея никакого понятия о благоразумной, законами ограниченной, свободе, крестьяне могли перейти к своеволию, и чем удержать их тогда в пределах повиновения? С другой стороны, владельцы были, как и теперь, натуральными полицеймейстерами в своих имениях, ограждающими себя, а с тем и все государство от беспорядков. Кем могли они быть заменены на этом огромном пространстве?
– Раздача имений, – говорила императрица собранному на сей случай совету, а в другой раз графу Салтыкову, Панину, князю Репнину, особенно генерал-прокурору князю Вяземскому, – будет приготовлением к будущему освобождению крестьян.
Упрекают ее в кровопролитии невинных жертв. В сих случаях судить трудно, но сознаться должно, что она не боялась преступления, если оно казалось ей необходимым. Затруднительные обстоятельства, угрожающие каким-то бедствием в будущем, хотя и воображаемым, заставляют сильных земли сей, забыв кротость, даже человеколюбие, действовать с энергией и твердостью железной воли. Раскроем опять историю, и сколько великих людей запятнали страницы ее пролитием невинной человеческой крови! Вспомним герцога Энгиенского, сию невинную жертву Наполеона!.. Справедливо делают Екатерине упрек в разделении Польши. Она излила на нее всю чашу бедствия на долгие времена и лишила свое государство оплота против других держав. Оно тем непростительнее, что она всегда могла иметь сильное влияние на эту незаконно и не политически разделенную Польшу.
Впрочем человеческие деяния бывают слишком сложны, и не всегда можно их подвесть под математические расчеты. Несколько часов после смерти Екатерина была забыта. «Она состарилась, – говорили многие, – не было в ней уже прежней энергии, здание, ею воздвигнутое, распадалось еще при жизни ее». Но они не видели, что хотя бы это отчасти было и справедливо, однако же выдержалось жизнию ее. Теперь помышляли только о том, что могло помрачить славу ее. Россия дорого заплатила за эту неблагодарность, ибо, невзирая на все недостатки, должно согласиться, что век Екатерины едва ли не был счастливейшим для всех сословий в России. Чтобы наслаждаться спокойствием, уважением, приличной свободой, нужно было только не быть преступником. Екатерина была и литератор. Она переписывалась со всеми так называемыми философами XVIII века и ласкала их, но не слушалась. И посланника (?) новой школы Дидерота обратила скорее к сообщникам своим Вольтеру и д’Аламберту. Она писала сама комедии, выбирая предметы из русских сказок, и, по крайней мере, надобно отдать ей ту справедливость, что, приехав в Россию, она пренебрегла языком своего отечества (т. е. языком немецким). Управляя обширнейшим государством в мире, находила время учиться и, сделавшись сама писательницей, возбудила в русских желание подражать ей. Явились Херасков, Княжнин, Муравьев, Фонвизин, Державин, Капнист, Богданович и прочие. Ученье сделалось при ней необходимостью. Не будь Екатерины и ученика ее Александра, был ли бы у нас Карамзин?
Многие полагают, что Екатерина управляла царством хорошо, потому что соображалась с тем веком, в котором она жила. Это – обида, наносимая великим талантам, в которых ей отказать нельзя. Ум, кротость, милосердие во все времена приносить будут равную пользу; когда все громкие отголоски о бывшей ее славе прозвучат во времени, даже история не упомянет о царствовании ее, и все памятники того века стерты будут с лица земли, останется еще Наказ. Он будет свидетельствовать о величии духа ее и послужит руководством для позднейшего потомства. Не лесть сказал Державин, говоря о ней:
Екатерина в низкой доле
И не на царском бы престоле
Была б великою женой.
Но увы! Кажется самое счастие, дарованное Екатериной своим подданным, сделалось позже причиной их бедствий. Богатство вельмож, их сила, лестное их отношение к престолу, благоразумная свобода, которой пользовались особенно дворяне, любовь к службе, благородная амбиция, произвели какой-то дух рыцарства, который имел корень не во внутреннем убеждении своего достоинства, а в одной наружности. Все пышное государственное здание Екатерины было потрясено, когда с мундиров сорвали золото, потребовали трудолюбивой службы, унизили барство, словом сорвали с глаз мишуру; куда девалось это мнимое рыцарство? Et presque tous les grands devinrent d’illustres nullités[41]41
И почти все гранды превратились в прославленные ничтожества (фр.).
[Закрыть]. Россия живет в возвышенности и достоинстве своих царей – Екатерина то доказала!
VІ
ПАВЕЛ І
Краткое царствование императора Павла І едва ли могло произвести что-либо важное в государственном и политическом отношениях; но замечательно тем, что сорвало маску со всего прежнего фантасмогорического мира, произвела на свет новые идеи и новые понятия.
Молодой поляк Ильинский, служивший при великом князе Павле Петровиче, первый поспешил в Гатчину известить своего блогодетеля о близкой кончине императрицы. Но уже скакал верхом граф Н. А. Зубов[42]42
Зубов Николай Александрович (1763–1805), граф, обер-шталмейстер. Брат князя П. А. Зубова (поледнего фаворита Екатерины II) и зять А. В. Суворова.
[Закрыть] с формальным извещением и предупредил Ильинского. Граф послан был от князя П. А. Зубова и от других знаменитых особ, но первый, предложивший это, был граф А. Г. Орлов. Из сего заключить должно, что они в эту критическую минуту собрали род совета. В день приключившегося с Екатериной удара великий князь кушал с семейством на Гатчинской мельнице. До обеда рассказывал он собравшемуся у него обществу, между прочими Плещееву, Кушелеву, графу Вельегорскому, Бибикову, виденный им прошлую ночь сон, что какая-то невидимая сила поднимала его на какую-то высоту; просыпаясь часто и засыпая опять, повторялся тот же сон. К крайнему удивлению, и великую княгиню тревожили всю ночь подобные же сны.
По окончании стола подал Кутайсов кофе в так называемой розовой беседке. В эту минуту великий князь увидал графа Н. А. Зубова, привязывавшего лошадь к забору, и почитая всех Зубовых смертельными своими врагами, он побледнел, уронил чашку и, обратясь к великой княгине, прибавил трепещущим голосом: «Ma chère, nous sommes perdus!»[43]43
Моя дорогая! Мы пропали! (фр.).
[Закрыть] – Он думал, что граф приехал его арестовать и отвезть в замок Лоде, о чем давно говорили. Зубов не шел, а бежал с открытой головою к беседке и, вошедши в нее, пал на колена пред Павлом и донес о безнадежном состоянии императрицы. Великий князь переменяет цвет лица и делается багровым, одной рукой поднимает Зубова, а другой, ударяя себя в лоб, восклицает: «Какое несчастие!» – и проливает слезы, требует карету, сердится, что не скоро подают, ходит быстрыми шагами вдоль и поперек беседки, трет судорожно руки свои, обнимает великую княгиню, Зубова, Кутайсова и спрашивает самого себя: «Застану ли ее в живых?» Словом, был вне себя, от печали или от радости – Бог весть. Думают, что быстрый этот переход от страха к неожиданности подействовал сильно на его нервы и самый мозг. Кутайсов[44]44
Кутайсов Иван Павлович (1759–1834), граф (1799), камердинер и любимец Павла I.
[Закрыть], который мне это рассказывал, жалел, что не пустил великому князю немедленно кровь.
Наследник с супругой выехали из Гатчины в пять часов пополудни, а граф Зубов скакал вперед, чтобы в Софии приготовить лошадей. Между тем, великий князь Александр Павлович, чрезмерно растроганный кончиной бабки своей, которой был любимцем, поехал за Растопчиным, которого уважал отец его, и уговаривал его ехать в Гатчину. Растопчин, приехав в Софию, нашел Зубова, заботившегося о лошадях. Через несколько времени явился наследник с супругой. Увидя Растопчина, сказал: «Ah! C’est vous, mon chеr Rastopchine! Vous nous suivrez»[45]45
Ах, это вы мой дорогой Ростопчин. Следуйте за нами (фр.).
[Закрыть], и распрашивал его: в каком он положении застал императрицу? Подъехав к Чесменскому дворцу, Павел приказал остановиться. На слова Растопчина: «Quel moment роur vous, mоn Sеigneur!» – великий князь отвечал:









































