Текст книги "Белые скалы Дувра"
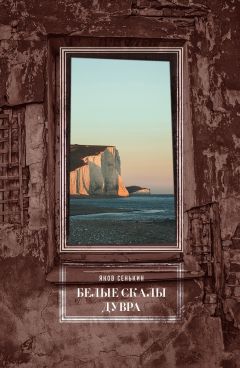
Автор книги: Яков Сенькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Гуляя по Покровке, я подумал, что сошел с ума
Сегодня, 27 февраля 2020 года, гуляя в дождливый и сумрачный вечер по Покровке, я дошел до Земляного вала и остановился в недоумении: неведомо откуда сверху неслась мелодичная музыка, она прерывалась, и женский голос размеренно произносил: «Двести тридцать два, двести тридцать три, двести тридцать четыре» – и так до двухсот сорока, а потом вновь звучала электронная музыка и неведомый голос снова отсчитывал: «Двести тридцать два, двести тридцать три» и т. д. Спускался густой туман, столб, с которого слышался замогильный голос, в нем исчез, как и перспектива, и мне – зрителю жутковатых фильмов про появление «Неведомого» или про десантирование на Землю инопланетян – стало как-то не по себе. И я обратился к стоящему рядом под зонтиком молодому человеку с вопросом, что бы эта хрень значила? Он неожиданно обернулся и радостно воскликнул: «Как? И вы тоже слышите это? Спасибо вам, а я-то подумал, что схожу с ума! Спасибо, дорогой!» Мы постояли, послушали, тепло пожали друг другу руки и, довольные тем, что с нами все в порядке, разошлись. Удивительно многообразна наша столица!
Вечный трек, или Записки невольного натуралиста
Это продолжается все тридцать лет, пока мы живем здесь, в псковской деревне, и наверняка длилось не менее миллиона лет и до нас. Весной, как начинает пригревать солнце и таять лед на озере, к воде из леса через дорогу и наше поместье устремляются тысячи жаб, с виду отвратительных, но очень добрых внутри: почти каждая из них несет на своей широкой спине худощавого самца, слившегося с ней в бесконечном любовном экстазе. Движутся они медленно-медленно. Иногда этот неспешный любовный кортеж останавливается – внезапно у счастливца появляется соперник, и этот Дубровский, наскочив сбоку, старается скинуть пригревшегося на спине подруги ездока, тот отчаянно сопротивляется, отпихивая нахала передними лапками с кулачками, страшно похожими на людские, потом вдруг возникает еще один Ромео, в итоге они образуют кучу-малу, довольно неприятную, так как здорово похожи на человеков, занятых сами знаете чем, да еще в компании. Затем из ледяной воды слышится спевка хоров: у лягушек, которые живут в озере и никуда не таскаются, и пришлых жаб разная тональность и громкость квакания, а поскольку их множество, то возникает некая слитная и рваная одновременно мелодия, напоминающая отрывки из симфоний Берга. Хор слева от мостков-лодочного причала я называю Бостон-симфони, а справа – хором Александрова и устраиваю им конкурс. При этом вокруг поют соловьи, а за озером страдает выпь, добавляя низких тонов в этот концерт.
Через какое-то время все смолкает: икра оплодотворена, родители благополучно убывают к предкам (зрелище это печальное, как и всякая смерть; как-то утром повсюду засверкали радужные синие стрекозиные крылья – будто сбитые вертолетики, вокруг лежали умирающие стрекозы: пришло их время). Но жизнь продолжается – в мае в озере появляются сотни тысяч головастиков, совершенно раскованных и наивно-любопытных, которые всюду лезут и никого не боятся. Тут возникают проблемы с поливом нашего мини-огорода, сделанного в старой лодке: в подчерпнутом из озера ведре не просто вода, а густой суп из головастиков. И вот в начале июля наступает ключевой момент: утратив хвостики, юные жабята (примерно сантиметрового размера) встают на славную дорогу отцов – идут вверх из озера в лес. Это невероятно трудный и опасный путь, опаснее Великого трека буров: на границе воды и суши, да и потом на всем пути к лесу – их ПМЖ – их поджидают ужи, птицы и прочие лягушатники, в смысле не французы, но тоже любители лягушатины (между прочим в Северной Италии, в долине реки Тычина, там, где отличился в свое время Суворов, в одной из сельских таверн, я так и не решился попробовать предложенного нам фирменного блюда – ризотто с такими же мелкими лягушатами). Путь наших путников на родину непрост: от озера им предстоит подняться на пригорок, пройти сквозь травы, подобные дремучему лесу, до нашего дома, обогнуть его, преодолеть глубокую, как крепостной ров, канаву, пересечь асфальтовую дорогу, по которой иногда проезжают машины (в результате повсюду видны плоские засохшие мощи их павших в весеннем походе к озеру родственников), потом штурмовать другую канаву и, наконец, войти в родной, но еще незнакомый им лес и устроиться там жить как-нибудь. Расстояние трека – примерно 120 метров, или (исходя из масштаба жабят) километров 120. Потери на этом пути чудовищные – думаю, что до совсем небезопасного леса добирается меньше трети, то есть столько же, сколько вывел своих солдат из итало-швейцарского похода упомянутый выше Суворов.
Но мудрая природа придумала жабятам два вида защиты популяции: первое – это несметное их количество, все равно из этих сотен тысяч кто-то выживет! И второй – как ни странно звучит, применительно к народу медлительных жаб – резвость, вообще присущая молодости. Подставив на пути одного из вышедших из озера странников лист бумаги, я сумел его сфотографировать – точнее, едва успел! Шустрый жабеныш быстро-быстро преодолел лист А4 и юркнул в траву. Он меня заинтересовал, и, включив в мобильнике секундомер, я незаметно пополз за ним, подобно знаменитому Паганелю. В итоге проведенного натурного исследования, по моим подсчетам, получилось, что один метр (по их, жабьему, масштабу – километр) он преодолел за десять минут – и это по густой стриженой траве. Следовательно, весь путь, со всеми остановками на ланч, перекур, рекогносцировку, жабеныш может преодолеть всего лишь за сутки! «Черт возьми, рядовой Гамп! Да это же рекорд по роте!» И я подумал, что, если в следующую весну исхода жабьего племени из леса не будет, значит всем нам конец – будет разрушена одна из нитей, составляющих жизнь на земле… Надеюсь, что этого не случится – великий трек будет продолжен, «пока земля еще вертится»…
Раздача у круглого стола
Благодаря моей обреченной на успех борьбе с романистикой Пикуля в конце 1980-х, я – волею судьбы, а не вследствие выдающихся научных достижений – оказался в «передовом отряде» перестройщиков от истории и познакомился с Ю. Н. Афанасьевым, только что назначенным ректором Московского историко-архивного института. Он стал, так сказать, самой ранней ласточкой перестройки исторической науки, говорил необыкновенно дерзко и открыто о плачевном состоянии этой науки в СССР. Если первая его статья на эту тему в журнале «Коммунист» показалась мне довольно осторожной и гладкой, то последующие публикации и интервью (особенно в популярнейших тогда «Московских новостях» – к стенду с газетой на Пушкинской площади было невозможно пробиться!) виделись нам, воспитанным советской цензурой, ошеломляюще отважными! Да и слушать его, красавца с бархатистым баритоном, холеного, в синем блейзере, было одно удовольствие, хотя я всегда склонялся к мудрости персидской пословицы: «Не важно, кто говорит, – важно, что говорит». Тогда я, как и многие мои современники, понимал, что все это не случайно: кто-то «сверху», устроив Афанасьева в уютное кресло неподалеку от Кремля, благоприятствует новому движению и дозволяет Юрию Николаевичу открыто дерзить консерваторам от науки и – косвенно – самому Егору Кузьмичу. И, надо сказать, эта дерзость изрядно воодушевляла. Афанасьев организовал в своем институте, тогда еще на Никольской, исторические чтения, на которые ломилось пол-Москвы. Помню, на лекцию Борисова о Сталине люди лезли через окно – это было время первого, применю банальное слово «пьянящего», ощущения свободы. Там же выступал и я со своим фирменным номером об исторических романах Пикуля.
Этот альянс с Афанасьевым дорого мне обошелся: я потерял многих друзей, сохранивших верность прежним идеологическим установкам (в особенности жалею о разрыве с Н. И. Павленко, относившимся ко мне по-отечески, при том, что обычно с людьми он был редкостный привереда и даже грубиян), но одновременно я приобрел и множество новых замечательных знакомых. Особо ценю дружбу с Натаном Эйдельманом, человеком ярким, лектором блестящим. То было поистине его время, он выступал непрерывно и везде (наподобие нынешнего Быкова и был также необыкновенно популярен) и в конечном счете оказал значительное влияние на пробуждение исторического сообщества. Однажды в Ленинграде я вел вечер встречи публики с Эйдельманом. Как талантливо и свободно говорил он перед застывшим от восторга залом, внимавшим каждому его слову! И волны этой теплой симпатии докатывались до сцены, они были почти физически ощутимы, и Натан подзаряжался от зала и тотчас возвращал ему свою добрую энергию. Видеть и чувствовать это доставляло мне огромную радость. Его внезапная смерть в шестьдесят лет, действительно, на долгие годы стала огромной потерей для меня и тысяч людей, его знавших.
Впрочем, в профессиональном историческом сообществе долгое время ничего особенного не происходило – Афанасьев, как и Натан, являлся внесистемным критиком вроде журналиста, как ученый Афанасьев был никто и звался никак. В официальной науке все шло по накатанным десятилетиями рельсам. Чего стоило посмотреть только на лица тамошних власть имущих по историческому департаменту. До сих пор перед внутренним взором моим стоит лик академика В. – благостного скопца-иезуита. Словом, долгое время Академия наук и высшая школа вообще не реагировали на происходящие в обществе завихрения. Помню, что в нашем Институте регулярно проходил семинар по актуальным проблемам истории и я был причастен к его руководству. Как-то раз меня вызвал директор Ш. и нервно запретил проводить заседание с докладом В. И. Старцева о Ленине и его взаимоотношениях с Инессой Арманд. Это считалось глубоко неприличным! После подобного скандала необыкновенно талантливый Старцев ушел из института.
Однажды, в самом начале 1988 года, я получил от журнала «Вопросы истории» приглашение – там решили, наконец-то, взяться за перестройку исторической науки. Они пригласили нескольких московских и ленинградских историков на круглый стол, материалы которого были опубликованы в марте 1988 года. Далее последовал ряд других «столов» и конференций. И я не вспоминал бы именно об этом «столе», если бы вскоре не выяснилось, что публикация материалов обсуждения за ним получила огромный резонанс в СССР, а также за рубежом (перевод на английский язык после обнародования в «Вопросах истории» последовал мгновенно). Об этом эпизоде мне неоднократно напоминали коллеги из Америки и Европы, придерживавшиеся самых разных взглядов на историю России: Пайпс и Далин, Зельник и Раев, Рязановский и Коэн, Рабинович и Авторханов и многие другие – настолько внимательно тогда все они следили за происходящим в стане советских ученых. Долго обсуждали этот резонансный материал и самые разные люди, порой далекие от истории. Да, произошло незаурядное событие в исторической науке. Помню, что за столом в редакции собралась пестрая, интереснейшая компания. С одной стороны, там сидели преуспевающие, хорошо одетые академические боссы вроде академиков Кима и Полякова, а с другой стороны – изгои, «неприкасаемые» и неисправимые, вдруг внезапно, как в одной камере на Шпалерной, собранные вместе: Фроянов, Старцев, Волобуев, Павленко, Данилов, Шацилло и еще кто-то. В их блестящем обществе оказался и я. Помню, что заседание началось с утомительной, типично советской речи академика Кима, цитировавшего Горбачева и привычно лизавшего у партии все нужные места. Через пятнадцать минут эта речь привела меня в состояние крайнего раздражения. Я написал записку на имя ведущего – главного редактора А. А. Искандерова, – что если и дальше дело пойдет в таком советско-академическом стиле, то мы, ряд приглашенных товарищей, покинем заседание. Я передал эту записку сидевшим рядом Павленко, Фроянову и Старцеву, которые поставили под текстом ее свои подписи. Искандеров отреагировал мгновенно – он прервал Кима и перевел стрелки на «неприкасаемых». И началось… Словом, было одно удовольствие все это слушать и наблюдать. Выступления были резкие и по тем временам необыкновенно смелые. Меня тоже понесло, и почти все, что я там наговорил, было опубликовано. Почти… потому что когда я сличил текст выступления с публикацией, то увидел, что в том месте, где речь шла о катастрофической ситуации с изданием книг наших прогрессивных историков, увы, осталось только упоминание о компании против Фроянова, а абзацы о «деле Зимина и „Слова“», о «деле Волобуева» и др. испарились. Видно, что в журнале все же не рискнули открыто дразнить Отделение истории – мол, и так уж много наговорено! Но в любом случае – Искандеров показал себя тогда большим молодцом! А «Вопросы истории» на какое-то время стали самым передовым историческим журналом.
Потом я уже особенно и не следил за ходом перестройки исторической науки – мне это стало уже неинтересно. Каждый день приносил грандиозные перемены, близился 1991 год и новая, неведомая эпоха. Тогда я в большей степени существовал не как историк, а как гражданин и свидетель новой революции. Это было необыкновенное время. Помню, что в августе 1991 года я выпустил сборник мемуаров из эпохи дворцовых переворотов XVIII века, где в предисловии писал, что, мол, нам, современным людям, теперь, двести пятьдесят лет спустя, трудно представить себе, что значит проснуться на следующее утро после ночного государственного переворота. И вот, в пять утра 19 августа я внезапно проснулся от резкого, противного звонка городского телефона (были в те времена такие аппараты с дисками). Звонил Ваня Стеблин-Каменский и сказал, что ночью Горбачева свергли и что перестройке крышка, а многим участникам всемирно известного «стола» не поздоровится и они попадут под раздачу… Последнее было Ваниной язвительной шуткой – его юмор я всегда ценил.
Академический фольклор
Академический фольклор – смешные рассказы про разных профессоров, ученых и студентов – существует издавна. Однако чаще всего он тяготеет к устной форме, всплывает в виде забавных историй за дружеским застольем и затем благополучно забывается. Вспомнить рассказов наутро, с похмельной головы, как правило, не удается. В подобных байках обычно профессор выступает рассеянным «ботаником» с перхотью на плечах, а студент – этаким жуликоватым ловким лентяем, а подчас и тупицей. Героическую попытку обобщить фольклор востоковедов предпринял Ваня Стеблин-Каменский, и я отчасти выступил его информатором. Ныне же несравненным мастером устного рассказа является Володя Лапин.
Профессор С. Н. Валк разоблачал студентку-плагиаторшу. Глядя в ее дипломную работу, он спросил: «Девушка, вот у вас в сноске написано: „Л. 5 об.“. Что такое „об.“»? Девушка басом: «Обзац».
Про Е. В. Тарле говорили, что на ученом совете он сказал докладчику, который никак не мог завершить доклада, раз за разом возвращаясь к началу: «Молодой человек! Свойство не кончать весьма похвально для мужчины, но не для докладчика».
Однажды Тарле призывал проголосовать за явно слабую работу, а когда вскрыли урну, там оказались лишь черные шары.
Существует целый свод баек о рассеянном профессоре. О Тарле (или востоковеде-иранисте И. П. Петрушевском) говорили: выйдя как-то из автобуса возле университета, он заметил, что потерял галошу. Оставшуюся профессор незаметно снял и конфузливо спихнул в Неву. Однако в университете гардеробщик тут же осведомился: «Евгений Викторович, почему же вы в одной галоше?»
Петрушевский славился крайней рассеянностью. Он мог прийти в двух галстуках – один навязала жена, другой – он сам. Раз явился к нему домой показать работу студент, Петрушевский прошел на кухню поставить чайник, а потом запер квартиру и уехал на дачу. Там, через три дня, также ставя на плиту чайник, вспомнил об оставленном в городе чайнике и… о запертом студенте, который, как потом оказалось, съел в дни невольного заточения всю дефицитную гречку на кухне профессора. В другой раз жена заперла самого профессора в квартире и отправилась на дачу. А к профессору пришли сдавать зачет студенты. Не имея ключа, он стал принимать зачет через дверь, а потом через дверную щель ему подсовывали на подпись зачетки. (Весьма жизненная ситуация: как-то раз я договорился со студентом Академии художеств встретиться у метро «Василеостровская», чтобы поставить ему оценку в зачетку – на экзамен он ее не удосужился прихватить. Мы встретились в вестибюле, уединиться было негде, и в толпе идущих в метро я прямо на спине экзаменуемого расписался в зачетке. Проходящие мимо две дамы весело заржали: «Смотри, профессор экзамен принимает!») Раз Петрушевский собрался в баню, вышел из дома и… забыл, куда он шел. Зашел в телефонную будку, позвонил жене и якобы измененным через платок голосом (так, по его мнению, действовали настоящие шпионы) спросил, где можно найти сейчас профессора Петрушевского. Она, естественно, узнав голос супруга, сказала, что профессор, очевидно, пошел в баню, «там вы его и найдете».
Директор Эрмитажа И. А. Орбели был героем множества анекдотов. Он ходил в белой толстовке и в тюбетейке. Однажды, возвращаясь с дачи в электричке, он задремал, тюбетейка упала к ногам, и, когда он проснулся, в ней обнаружились несколько монет – видно, пассажиры пожалели бедного старика. По Эрмитажу он передвигался обычно в сопровождении множества дам, среди которых были две его жены – прошлая и действующая. Встретившийся ему льстец сказал, что так приятно видеть И. А. в «окружении цветника». Точнее, отвечал Орбели – «в окружении гербария». Как-то раз к нему пришли устраивать на работу человека, которого представили мужем поэтессы А. «Хорошо, – сказал Орбели, – а что он делает днем?»
Как я пытался создать ячейку гражданского общества в своем дворе
В 2009 году, благодаря доброму приглашению Володи Федорина я заделался колумнистом русского «Форбса» и колумнировал там какое-то время, пока Володя редактировал московскую версию журнала. Вот одна из тогдашних опубликованных там моих историй, канувших в лету… Накануне Нового 2010 года снегопад невиданной силы обрушился на Петербург. Власти, как и в других чрезвычайных ситуациях, к снегопаду готовы не были и чистили только главные магистрали, особо тщательно вылизывая дорогу от Смольного до улицы, где жил наш губернатор, широко известный в народе по прозвищу, связанному с граненым стаканом, а также дорогу до начальнической дачи. Таким образом, из лимузина все выглядело весьма пристойно. Между тем зрелище большинства улиц с гигантскими сугробами, внутри которых, как в коконе, таились машины, напоминал ленинградскую блокаду (так и было: высота снежного покрова в 1941 и 2010 годах. была одинаковая – 53 см). Но самый ужас творился во дворах. Как ножи гильотины, всюду висели гигантские «сосули» (слово, изобретенное губернатором, понимавшим, что применение знакомого слова «сосулька» в этой ситуации покажется легковесным, несерьезным). Тогда мы увидели реальные последствия реформы ЖКХ – таджики-дворники, оказывается, обязаны были чистить только дорожку от подъезда до внутриквартальной дороги, а все дороги и проезды должна была убирать наемная техника, которую, естественно, забрали на очистку главных магистралей. Поэтому машины медленно, натужно завывая, ползли на брюхе следом за спотыкающимися прохожими, которым просто некуда было податься, ибо они шли по глубоким колеям, пробитым колесами наших машин…
Словом, выждав еще два дня, 30 декабря, я напечатал и расклеил по подъездам нашего дома объявление примерно такого содержания: «Владельцы автомобилей! Надежды на власть нет никакой. Призываю вас завтра, в 12 часов с лопатами и семьями выйти на истинный субботник и вычистить подъезды к нашему дому». Жена посмеялась над моей наивностью и предрекала мне повторение подвига героя фильма «Коммунист» в исполнении красавца Урбанского, который, надрываясь, в одиночку, с мужественным, непреклонным лицом истинного коммуняки, валил деревья и куда-то под дождем таскал бревна. В общем, как пела моя японская аспирантка: «На позицию девушка провожара бойца». И действительно, первый час я скреб лопатой в полном одиночестве, потом приехал на джипе подполковник-сосед, посмотрел-посмотрел, сгонял куда-то (видно, в комендатуру), привез десяток лопат (а это было истинное богатство – лопаты тогда стали страшным дефицитом, и их нельзя было выписать даже по интернету, а проще было сгонять за ними в Лаппенранту). А потом стали появляться другие люди, и мы вдесятером лихо расчистили пространство перед домом и даже дорогу на выезд из квартала. Жаль, что не было глинтвейна, да и мужики сдерживались – приближался вечер 31 декабря. На прощание договорились, что, как пойдет снег, мы все дружно выйдем и…
И вот, в ночь на 1 января пошел снег, и, зная по студенческому опыту дворника его подлый нрав из мягкого и легкого превращаться в тяжелый и жесткий, я к вечеру вышел с лопатой, полагая, что ее скрежет станет призывным сигналом для товарищей-автомобилистов и для полутора тысяч жителей дома – уже прошел Новый год, делать ведь нечего, не лежать же все время на диване и смотреть «Новые песни о старом» или наоборот! О, как я жестоко ошибся! Подвиг Урбанского и Ганди (помните, откуда есть пошел Ганди – он всегда говорил после обеда: «Если кто не хочет мыть посуду, то я помою!») мне пришлось повторять в течение трех часов в полном одиночестве. Нет, вру! Вышел один человек с лопатой (я обрадовался), но он вычистил снег только вокруг своей машины и уехал, оставив на вычищенном куске асфальта некий обелиск из фанеры с надписью большими буквами: «Не занимай место, убью!» Пришел еще один человек, взял мою запасную лопату и сказал: «Я тебе помогу, если ты мне выставишь сто грамм!» От идиотизма ситуации я захохотал и было уже нанял этого бедолагу, но ему было так тяжело после новогоднего возлияния, что он не смог ни разу взмахнуть лопатой. Но поразительнее всего вели себя мои прежние товарищи-автомобилисты. Они, не здороваясь, проходили к своим машинам, деловито их заводили, снимали аккумуляторы на подзарядку, грузили что-то, в глаза мне не глядели, проезжали мимо, потом возвращались, смиренно ожидая, когда я сойду с дороги, которую я чистил для них. А я, довольно сильно разозлившись, страшно скрежетал по асфальту лопатой, и скрежет этот выражал мой гнев и презрение к окружающему миру. Наверняка его нельзя было заглушить телевизором, несмотря на стеклопакеты в окнах. Но двор безмолвствовал, и скрежет мой никого не царапал по душе, хотя все видели, что это работает совсем не таджик! Скрежет услышала только моя жена, которая под конец присоединилась ко мне, не дав мне одному завершить добровольную епитимью… (редакция «Форбс» сняла следующие слова: «В конце эпопеи приехал упомянутый выше подполковник, посмотрел на наш подвиг и сказал: „Ух, ты! Жаль, я все про…бал!„»).
…И вот уже дома, отогревшись в ванне, переодевшись, с рюмкой ледяной водочки в руках, перед огромным круглым блюдом студня, напоминавшим замерзший сельский пруд, я размышлял об особенностях формирования гражданского общества в России… Вроде бы для этого так мало нужно – выйти, не как у Галича «на площадь», а просто во двор с лопатой, преодолеть извечную нашу отмазку, которой оправдывается убожество всей жизни: «От нас это не зависит!», сделать хотя бы маленький кусочек этой жизни зависимой только от нас… Но, нет! Один раз, в экстремальной ситуации, достигнув дна, можем что-то сделать вместе, а уже во второй раз – ну, никак! Как у Жванецкого – в войну победили, а на улице никто не поможет! Может, я, совсем не идеальный гражданин, что-то в этой жизни не понимаю…
(Опубликовано в «Форбс» в январе 2010 года)









































