Читать книгу "Аппетит"
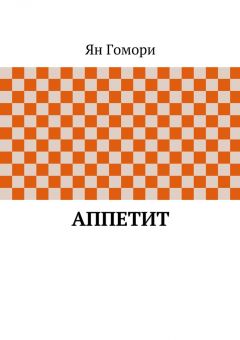
Автор книги: Ян Гомори
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Аппетит
Ян Гомори
© Ян Гомори, 2016
ISBN 978-5-4483-3403-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аперитив. Воскресный Пирожок
Марья Степановна, дородная и носатая баба, была устроена почти так же, как курица-несушка.
Правда, замест яиц Марья Степановна производила в этот мир пирожки.
Они аккуратно укладывались на стальной поднос, как трупики, её старыми руками со вздутыми венками. Усы соседей и соседок вожделенно дрожали каждое утро, и предвкушение копошилось в любопытных животах.
По понедельникам из пышных недр Марьи Степановны лезли на свет божий пирожки с луком, по вторникам – с картошкой, в среду и четверг – с яблоками, в пятницу пирожки были с мясом, и, наконец, по выходным их не урождалось вообще, и, по-слоновьи спокойная, Марья Степановна молча пила чай в одиночестве, слушая какую-то монотонную дребедень по радио.
В воскресенье, кажется, это было в октябре, аккурат в полночь к спавшей Марье Степановне заявился сосед её Иван Петрович. Был он взъерошен, правый глаз нервно дергался. Пара лопнувших капилляров то сужалась, то топорщилась, как вылезшие нитки. Протянув к скрипучей двери кастрюльку с пористым разбухающим тестом, он испуганно посмотрел перед собой:
– У меня жена с брюхом… Приспичило ей, среди ночи. Наделай пирожков, а? Дорого возьму, честное слово.
И поставил кастрюльку на облупившийся порожек. Та чуть взвизгнула, и тесто испуганно дрогнуло, как белоснежный живот какой-нибудь молодой, толстой и стыдливой барышни.
Марья Степановна с минуту таращила глаза; щёки её всё больше краснели, и, когда, наконец, злоба захлестнула всё её существо, она по-истуканьи вдохнула огромной грудью, вскинула лохматые брови…
– Да срать я хотела на ваши пирожки! – гаркнула она, злобно сверкая болотными глазами и шмыгая бородавкой на носу. Задрав свой юбочный парашют, она повернулась к побледневшему Ивану Петровичу задом. Панталоны безжизненно упали. Мучнистого цвета рыхлый зад повис над кастрюлькой, и в распухающее тесто звонко повалились один за другим, со шлепками, пирожки.
Иван Петрович в истерике сиганул на лестничный пролёт, заугловали его тощие коленки… За миг до этого он успел подумать, что прыгает в какую-то беспросветную клоаку…
Грязный и побитый, он влетел в свою квартиру и, ухватив со стола тарелку со вчерашним пирожком, улетел в парадную. Ксенечка, жена его, по-детски глазела на колыхавшуюся ещё дверь, и лицо её было таким же круглым и пустым, как необъятный шар-живот с раздувшейся пуповинной ямкой. Сама Ксенечка была невероятно тощей, как наркоманка. Больше всего на свете она любила смотреть на себя, на собственные телодвижения в зеркале; каждый день она начищала его утром, в обед и ужин – это придавало Ксенечке уверенности в реальности собственного существования. Зеркало было установлено так, чтобы возможно было взором охватить всю кровать с её небольшой шириной.
Ксенечка с детства верила в бога, обожая его всеми фибрами своей маленькой и простой души. Серые её глазёнки часто были обращены к массивному старинному образу, подвешенному в углу ровно над подушкой.
Когда Иван Петрович вернулся, он увидел безжизненно распластавшуюся на кровати Ксенечку.
Икона, сорвавшись с крючка, рухнула ей на голову.
Удивлённо раскинув бледные с синими прожилками ручонки, Ксенечка застыла в судорожном, испуганном вдохе, застрявшем где-то меж вздыбившихся рёбер.
Впиваясь в мёртвое белое личико, окровавленные осколки отражали расколотую на части комнатушку, блёклую и пустую.
А Марья Степановна так и стояла, обратив задницу к черным дверям чужих квартир, и почему-то выла волком. Плач её эхом катился по пустым зеленоватым стенам, смешиваясь с безумным хохотом Ивана Петровича.
Перетащив труп своей жены на кухонный стол, он дрожащими пальцами стащил с костлявых плеч ночную рубашку…
Ухватившись за нож, Иван Петрович застыл перед посиневшим брюхом с проступившими прожилками вен.
Воспалённое сознание рисовало картины одна страшней другой: вот он, Иван Петрович, могучими своими пятернями давит на мёртвый живот так, будто делая массаж сердца; в брюхе что-то, лопнув, хрустит, но не выходит, и живот лишь раздувается – чёрт пойми от чего; руки Ивана Петровича дрожат, но, пуще сатанея от страха, давят, давят… И вдруг Ксенечка приподнимает голову и кричит от боли.
Иван Петрович зажмурился и со всего маха вонзил огромный нож в лиловый, отрупевший шар.
И успокоилось его сознание.
К четырём часам утра он был пьян вдрызг, и оттого безмятежен. Завёл магнитофон, пел песни, курил.
На рассвете поставил на плиту огромную алюминиевую кастрюлю, в которой варил вытащенную из тяжеленной рамы икону вместе с синюшной курятиной неясного происхождения, найденной в морозилке. Пообедал.
В полдень он, раскачиваясь взад-вперед, уже рассказывал главврачу психиатрической лечебницы про соседку и её пирожки, про брюхатую жену, про суп из иконы.
Заслышав про Ксенечку, главврач просиял и погладил Ивана Петровича по взъерошенной макушке.
– Жена ваша уже ждёт вас, голубчик. Пойдёмте. Не будем заставлять её ждать.
Иван Петрович побледнел.
– Никуда я не пойду, – мотнул он потной головой. – Я помирать пока не собираюсь. Сами, сами.
Главврач цокал языком, вжимаясь массивными челюстями в шею, отчего казалось, что подбородков у него три штуки.
– Ксения Ивановна жива и совершенно невредима. С лицом, конечно, беда, но это у каждого второго… Вы, знаете ли, тоже не Владимир Маяковский…
Распахнулась белая дверь, и на пороге материализовалась Ксенечка. Глаза её блестели от слёз, ротик дрожал, готовый расплыться в улыбке, и всем своим видом это тщедушное белое создание в клетчатом платьишке выражало вселенское, необъятное счастье. Ручка её сжимала веревочку, привязанную к розовому воздушному шарику. Внутри барахталось морщинистое, размокшее от воды существо. Оно скалилось беззубым ртом, глядя на Ивана Петровича, и злорадно подмигивало. Это был их младенец.
Иван Петрович почувствовал, как у него холодеет в груди, и понял, что любое действие совершенно бесполезно. Он принял твёрдое решение: молчать. Молчать, не сдвинувшись и на сантиметр с этого квадратного метра.
Ксенечка неуверенно мялась на пороге. Багровые шрамы на щеках и лбу, кое-где заклеенные пластырями крест-накрест, задорно дёргались.
– Ванечка, пошли домой… – ласково пропела она. – Мне так пирожков хочется…
Блюдо первое. Корова
Высунув синюшную круглоту лица из белых подушек, Наташенька истерично вдохнула и тут же застыла, словно чья-то рука грубо сжала ей грудь. Белый будильник чуть слышно тикает на столе.
С кухни доносится звон посуды, и желудок Наташи ворчит от голода. Беленькая ручонка пугливо спешит прикрыть живот. Другая ладонь, нырнув в портфель, достаёт записку. На вырванном наспех клочке – пара клякс, шесть букв «Ха-ха-ха!», и что-то ещё.
Мать придёт ещё нескоро, они всё успеют. Наташа улыбается и, бережно положив клочок на вспотевшую ладошку, несёт его на кухню. За невысоким столом, от скуки накручивая на тоненький пальчик шелковистый локон, сидит красавица Ида, негласный лидер класса и просто душа компании.
– Всё? – надменно вскинула она бровки.
Потупив взгляд, Наташа кивнула головой. В ответ Ида подвинула тарелку с зелёной каёмочкой.
– Тогда вперёд.
На фарфор из круглой ладошки скользнула бумажка, «огрызок» листа школьной тетрадки в линейку. По бокам аккуратно легли, чуть звякнув, нож и вилка. Безучастно глядя перед собой, Наташа скидывает школьные туфли. Ей думается, что нечто подобное чувствуют те, кого ведут на расстрел.
Расстегивает темно-синий сарафан, стягивает тонкие телесные колготки.
– Шарф не трогай.
Наташа кивает, и непослушными руками снимает одежду.
Оставшись в одном белье – стареньких белых трусах, обнимающих пухлые ягодицы и таком же старом лифчике на пуговичках, – девочка садится напротив Иды.
Ида шевелит красными губками:
– Читай. Читай, Белова.
Наташа заплаканно бормочет, глядя на бумажку, как на паука:
– Белова – жирная корова.
– Это не всё…
– Ха… Ха-ха.
– Целиком.
– Белова – жирная корова, ха, ха, ха.
– Кто, ****ь, так смеётся?! – гаркнула Идочка, и в следующий миг её слюна повисла прозрачными бусинками на волосках Наташиной русой челки.
Наташа послушно смеётся. Её круглые плечики трясутся, она даже старается как можно убедительней стучать по столу: смотри, Идочка! Смотри, как мне смешно, мне… «Я сегодня смеюсь над собой…» – некстати вспомнилось Наташе, и она замолкла, будто от оплеухи.
Ида скривила красный ротик в ухмылке и закурила.
– А теперь ешь.
Робкие, пухлые, пальчики уже было потянулись к тарелке, но тонкие пальцы Иды тут же ударили по ним, оставив пару розовых следов.
– Свиную натуру мамаше покажешь. Люди едят с помощью приборов.
Наташа хнычет:
– Да как же я бумажку разрежу…
Лицо обожгла оплеуха.
Ёжась от холода и стыда, Наташа с рабским упоеньем смотрит, как изящные пальчики подруги топят окурок в остывшем чае…
– Тогда я тебя накормлю.
…И хватают бумажку. В следующий миг Наташа зубами отрывает кусок и стучит по нему зубами, ощущая на макушке прохладную ладонь Иды. Смешиваясь с вязкой слизью и слезами, размокшие бумажные комья скользят по пищеводу, в тихую желудочную истерику.
– Вот и молодец… Молодец…
Когда записка была съедена, Ида потрепала ополоумевшую Наташу по мокрой щеке. Чмокнула и убежала домой, оставив приторный вкус помады на солёных губах.
Наташу невообразимо долго рвало.
Ида пообещала ей, что если пытка будет вытерплена, то больше никто не посмеет оскорбить Наташу из-за полноты. Обещание было сдержано, только «процедура» с поеданием записок повторялась каждую пятницу, вечером.
Сначала Наташе было так гадко, что она хотела повеситься. Зная, кто звонит ей в восемь часов вечера по четвергам, она испуганно дышала в трубку, не говоря ничего. «Белова, не дури. Я же всем расскажу. Дело твоё, конечно…»
И Наташа ела из Идочкиных рук. Плакала, давилась, но ела.
И всё повторялось: чтение слов, всё более терявших смысл, кормёжка, слёзы, прохладная ладонь на макушке и сладкий, приторный поцелуй.
Уже через полгода она и сама ждала эти вечера, и не могла представить своей жизни без унижения. Порой с ужасом думалось ей – что станется, если Ида уедет. Выйдет замуж… Или, не дай бог, умрёт. И до дрожи в коленях боялась, боялась, что кто-то узнает о её маленькой тайне.
Особенное наслаждение обе получали, когда Ида лупцевала свою бывшую одноклассницу, замахиваясь ремнём на её рыхлый зад, объятый кружевами. Содержание записок не менялось за десять лет ни единого раза, атрибутика кочевала из недели в неделю. Наташа любила ритуалы. Она с азартом выводила каждую букву, покупала бельё – жизнь её была полна нереализованных планов…
В апреле 1997-го года Наталья сошла с ума. Она сидела в своей пустой квартире и протяжно мычала, как самая настоящая корова. Не говорила ни слова, только ела газеты, которые Ида заботливо рвала для неё в мелкие клочья.
Подползая к ней на карачках, Наталья точно так же ела из её рук, как и все десять лет, а Ида убирала прилипшее к полосатым половикам дерьмо. Раздевала безумную Наташу, мыла ее, глядя в стеклянные глаза, переодевала в чистое, разглядывая каждый бугорок на знакомом до боли теле…
А дома она записывала в тетрадь всё, что видела. И уходила по своим лёгким и приятным делам. Порой в её затуманенный разум вкрадывалась едкая мысль о том, что коров не только доят, но и на мясо рубят, и в такт раздававшимся в памяти коровьим шагам, назойливо, будто муха в окно, билось предчувствие смерти.
Блюдо второе. Мы с Фонтанки
Я боюсь есть.
«Господи!» – орет мое скудоумное сердце. И я повторяю:
– Господи… Господи!..
А затем, сердечно матернувшись, скорее, даже как-то задумчиво, тихо засыпаю. В голове эхом раздается бранное слово, и кажется моему скудоумному сердцу, что так гудит нечто Высшее. «Матерится ли бог?!» – спрашиваю сам себя, и сон мой гулкий тут же разбивается вдребезги. А в теле… а в теле остается ломота, будто били меня кочергою с размаха. Морщусь и боязливо грызу хлеб, отхлебываю из початой мутной бутыли. На нашей улице светает, солнце ехидно глазеет из-за крыши. Хрипло дышит под душным туманом Фонтанка.
Голова понурая гудит, как и прежде, чернея на желтом фоне рассветного окна, эхом – гулкая брань – по стенкам черепной коробки, коробки-квартирки; в моей голове поселился творец-идиот в растянутом балахоне. Глаза у него вечно полубезумные, и голосок такой препротивный, будто его душат. Он – зовут его Аполлон Иваныч – уверяет меня в том, что он давно умер. Стучит печатной машинкой, истерически хихикает; смешки его похожи на всхлипы, и я слышу, чувствую, как он жрет тонкие листы, изнасилованные его гадкой душою, которой он считает нужным делиться со всеми…
Его душа жёлта, она похожа на дохлого цыпленка.
Воздух смраден…
Мне тошно!
Я боюсь есть.
Утро выбелило город, как покойничью морду. Февраль. Иду в булочную. Под сердцем несу домой – теплое, мягкое, живое. А пальцы мои отчего-то воняют так, как пахнет рот с гнилыми зубами. Такой смрад исходит от Аполлона Ивановича. С крыш валится снег.
Прибежав домой, я исчез в ванной, где долго измывался над собой мочалкой и дегтярным мылом. Едкая баня уничтожила мои нервные рвотные позывы. Все это время хлеб ждал меня на полу, я уложил его на газетный лист.
К одиннадцати, когда рассвело окончательно, я выбежал в кухню и, спрятавшись в угол подле раковины, впился в буханку хлеба. Сладковатый запах рыхлого теста смешивался с вонью старой крови, царившей в нашей квартире с год…
Я лежу в беспамятстве. В вязкой луже, исторгнутой несчастным желудком. Нечем дышать. «Это всё?!» – думается мне. Над моей головой – сочится светом окно; во дворе кто-то колет полена топором.
«Кто же сколотит мне гроб?»
Аполлон Иваныч, щипля себя за белое бесформенное одеяние, напевает гаденько:
– Россия, великая наша держава! Россия, великая… наша… страна!..
Выйдя в кухню и завидев меня, он пискнул:
– Ба! Соседушка, я обязан тебя увековечить, – сел на облезший табурет и, закурив «Яву», глядел на меня во все глазёнки, пытливо и сумасшедше.
А я – просто захлебнулся.
Я не знаю, что будет делать Аполлон Иваныч с моим трупом.
Он заперся в своей комнате и остервенело стучит по черным клавишам своей старой печатной машинки, слушая пластинку с «Картинками с выставки» М. П. Мусоргского.
Я заметил, что особенно рьяно ему работается под «Прогулку».
Да, Аполлон Иваныч – виртуоз игр со смертью.
И вот, с блаженной улыбкой на лице, он обнажает свое тщедушное тельце и, отчаянно пыхтя, сидит в углу, до первопричин бытия раздетый.
Мне смешно. Уйду прочь с коммуналки на Фонтанке, думаю я, глядя на ее золотую солнечную рябь и стройные ряды пестрых домов под легким безоблачным небом.
Я так давно не видел египетских сфинксов!..
Чаепитие. Профессорский чай
Ленинград.
Большая Подьяческая есть жёлтая, грузная улица. Как огромная баба, пожелтевшая от цирроза и пьяной психопатии.
Лето, июль. Смрадно, глухо. Духота стоит такая, что у профессора философии Печёночкина от башки пар валит, и жиденькая шевелюрка торчком возвышается над его интеллигентной физиономией. Он сидит на кухне и курит, курит свои вонючие дрянные папироски, слюнявит их, грызёт. Смотреть противно, словом.
В коридоре, на стареньком обшарпанном трюмо, почему-то пропахшем кошками, – стальная клетка с гнутыми прутьями. В клетке обнаруживается попугай по имени Фима.
Проходит час, и Печёночкин обнаруживает, что напрочь забыл поставить чайник. Точнее, воды налить-то налил, а конфорку не повернул, спичкой не чиркнул. Последней, оставшейся, чиркает, и снова садится курить.
Так как спичек больше у профессора нет, он последовательно подкуривает новую папиросу от предшествующей, и круг философических умозаключений завершается.
Вчера Печёночкину зарплату выдали «Опытами» Мишеля Монтеня. Как-то стыдливо опустив очи долу и густо покраснев, спрятал профессор книгу за пазуху и отправился домой. А через час вернулся и набил бухгалтеру его плоскую белую харю с крючковатым носом:
– По-вашему, срать Монтенем – это нормально? А?! Отвечай, сучара!
У профессора изъяли по такому случаю Монтеня и выдали Священное Писание. Угомонившись, Печёночкин ушёл домой, на сей раз с концами. Бухгалтер через полтора часа скончался от истерики.
Чайник, наконец, закипает.
Печёночкин судорожно подкуривает новую папиросу и, нарвав библейских сюжетов, мельчит их на куски, ссыпает в чайник и заваривает всё это дело крутым кипятком.
Отхлёбывая, морщится:
– Вот это дерьмо…
– Дер-рь-мо! – верещит Фима, затопавший в коридоре.
– Фимочке тоже надо дерьма? – щурится Печёночкин.
– Дерррьма! – кивает Фима, заползая на стол, и тёплая профессорская ладонь гладит его мизерную, глупую голову.
Десерт. Марципановая женщина
– Да как же это он… Никак, сволочь.
Мефистофель Иванович дрожит от злости и скрежещет зубами. Ключ застрял в замочной скважине.
– Шурику отомщу… Отомщу, заразе.
– Какому Шурику? – улыбнулся кто-то за его спиной.
Это была сдобная дамочка лет тридцати, белокурая, с маленькими, как у свиньи, глазками.
– У Вас, милочка, воротничок в крови, – улыбнулся он в ответ. – Жилец я ваш новый.
В парадной пахло сыростью, котом и табаком. На подоконнике умостился бюстик Петра Великого, консервная банка от кильки, служившая пепельницей и кипа старых засаленных книжек и газет.
Обложка одной из них возвещала: «В Ленинграде ревнивый муж съел жену…»
– Я – Антонина, – протянула дамочка пухлую ручонку. – Не замужем…
– А я дьявол, – поклонился Мефистофель Иванович и поцеловал бледную дамскую ручку в сетчатой перчатке, отчего та казалась еще пухлее и белее.
– Здесь все так говорят…
– А я не все, Тонечка. Могу я вас так называть?
Она ловко повернула ключ в ветхом замке, и хилая дверь отворилась, кряхтя, как старуха. Стягивая перчатки, Тоня засмеялась:
– Ну проходите, «не все» … Я вас теперь так и буду называть: «не все», – и похабно взгромоздилась на трюмо.
Когда она поправляла телесные чулки на своих колыхавшихся от жира ляжках, алые ногти её скользили по натянутому до предела капрону с противным характерным звуком.
Глаза их встретились, и Мефистофель Иванович сделал вид, что застигнут врасплох внезапным воспоминанием.
Остолбенев, он уставился на дамочку и расплылся в хищной улыбке:
– Что вы, Тося, так на меня смотрите?
Тоня испуганно засеменила пухлыми ножками в воздухе, круглый подбородочек вздрогнул.
– Тося-Тося-Тося, – насвистывал Мефистофель Иванович. – Иди сюда, Тося!
Пухлые ножки суетятся в коридоре, ступни в параноидальном танце страха бьют старые паркетные доски…
Юркнув в крошечную кухоньку, Тоня захлопывает дверь и воет.
– Я же убил тебя.
Тоня причитала что-то о Царствии Небесном, а с глазёнок её падали в огромный кружевной бюстгальтер горячие слёзы. Заметив своё отражение в окне, Тоня поняла, что так и выглядит смерть: размазанная алая помада напомнила ей, как в детстве краснела тонкая кожица вокруг губ, и кто-то сказал: «Тонька свинью сосала, да-да-да!» – и с тех пор это стало её, Тониной, тайною мечтой.
– А потом съел…
Мефистофель Иванович самодовольно зашаркал по коридору, до белой двери. На кухне его ждала белая марципановая женщина. Свежайшая и мягкая – до боли похожая на Антонину, повторяющая её холмики, круги и складочки, она, совершенно голая, восседала на столе. По круглым плечикам струились белые пряди парика.
– Мечта, а не женщина…! – восхитился Мефистофель Иванович, потёр ладони и запел – И страдаем мы… от любви…
Нож, пройдясь по пухлой груди марципановой Антонины, раскрыл белое нутро, такое же легкое и воздушное, как и все тело. С наслаждением поедая сладкое облако Тониного брюшка, Мефистофель Иванович думал о том, как всё-таки хорошо иногда быть человеком.
С-тихо-т-варенья
Варенье
Вне сомненья, вот варенье,
Вот варенье из котят.
Без сомненья, наслажденье,
Вот для брюха насыщенье,
Вот – варенье для ребят.
Съел варенье как-то Петя,
Его дома ждали плети,
Кушать мама запретила
И сынка со свету сжила.
Петя плакал поначалу,
Увильнуть всё норовил,
Только мама всё кричала
Что-то вроде «бул» да «щыл».
И ремень стащила с папы,
Улетела даже шляпа
Прямо с папиной башки
К тёте Маше в пирожки.
Петя плачет, молит Петя,
Он не будет больше так,
И в окно глазеют дети
Спорят дети на пятак.
Кровь по комнате кругом,
Мама машет кулаком
Детским мордочкам в окошко —
Им осталось жить немножко.
Разрубив на части сына
Разудало топором,
Мама с криками «скотина»
Вдруг уносится бегом.
И, детей схватив за шкирку,
Сашу, Дашу, Машу, Ирку
Всех кидает в мясорубку,
Тащит вон штаны и юбку,
Чтоб машинка не издохла,
Чтобы мясо не иссохло.
Вот на полочке соленья,
Вот огурчик, помидорчик,
Из детишек тут варенье,
Мы к нему найдём ликёрчик.
Вне сомненья, вот варенье,
Вот варенье из ребят,
Без сомненья, наслажденье,
Вот для брюха насыщенье,
Была банка – стала ад.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































