Текст книги "Аукцион"
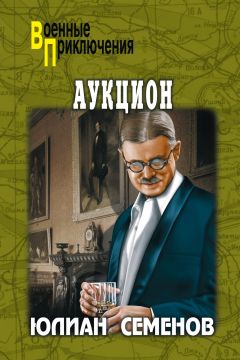
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ростопчин дал Петечке пятисотфранковый билет и, не прощаясь, пошел к арендованному «фиатику»; через пятнадцать минут был в аэропорту, а через два часа приехал в свой замок над озером, в Цюрихе.
Дворецкий сказал, что прилетел Шаляпин, Федор Федорович, отдыхает в той комнате, где обычно останавливается; неважно себя почувствовал в дороге, от обеда отказался.
«Господи, – подумал Ростопчин, – вот счастье-то! Если о ком и можно было мечтать, то лишь о нем! Как же мило он поступил, приехав! Помнит о моем дне!»
– Пожалуйста, Шарль, накройте нам в каминной, к телефону не подзывайте, Федор Федорович любит птицу, пусть сделают фазана, спросите на кухне, успеют ли? Только замочить надо не в белом вине, а в красном, значительно тоньше вкус…
Потом он поднялся к себе, принял ванну, как-никак за сутки намотал более тысячи километров, взял аспирин (странные здесь люди, подумал он, – «взял самолет», «взял метро», «взял аспирин». Все берут, берут, когда отдать успеют?!), закапал в глаза мультивитамины (все-таки ложь прекрасна; великолепно известно, что эти капли никакие не мультивитамины, а возбуждающее средство, форма наркотика, можно взять лишь по предписанию врача) и начал переодеваться к ужину…
– Ах, Женя, – пророкотал Федор Федорович, откинувшись спиною поближе к громадному камину, сложенному из серого гранита, – какое счастье быть беспамятным, не знать, сколько нам лет, не ведать, где наши родные. Если б помнить только радостное, если б забыть, где наши отцы ныне, друзья, подруги…
– У тебя какая пора самая счастливая?
– Детство конечно же… Да ведь и у каждого так. Вспомни, как Лев Николаевич писал про волшебную зеленую палочку, про брата Николеньку, про доброго Карла Ивановича… «Гутен морген, Карл Иванович», – за одной фразой весь дух прошлого века встает, с его спокойствием, неспешностью, топлеными сливками, самоварами на уютных верандах под керосиновой лампой… Ты, кстати, знаешь, отчего соловьи всю ночь поют?
– Нет.
– О, это поразительно… Они, знаешь ли, оттого заливаются, что полны беспокойства, как бы самочка не уснула, развлекают ее, покудова она птенцов высиживает, а то ненароком выпадет, сонная, из гнезда, тогда конец, гибель рода, катастрофа, дизастер[5]5
Дизастер (англ.) – катастрофа.
[Закрыть]…
– Да что ты говоришь?!
– Представь себе, абсолютная правда. Мне один ботаник говорил в Риме, чем-то на Дон-Кихота похож; все хорошие ботаники на него похожи, кстати. А у тебя какая пора самая счастливая?
– Старость. – Ростопчин вздохнул, но сразу же заставил себя улыбнуться; не терпел, когда его настроение передавалось другому, тем более Федор Федорович приехал без напоминания, так трогательно, все помнит, дружочек; из самых близких один он остался на всем белом свете: хозяин «Максима» преставился, на десятом, правда, десятке; Юсупова нет, лица Рахманинова и Бунина стал забывать, страшно…
– Ах, перестань, Евгений, полно, будет… Не верю… Детство у каждого – счастье…
– Федор, но ты же в детстве не голодал! А я стал сытно есть только годам к сорока пяти, когда раскрутил дело. Смешно: став богатым, я, естественно, взял себе личного врача, и первое, что тот сделал, – предписал мне жесточайшую диету: молоко, творожок, ломтик хлеба из отрубей и фрукты. А я-то в молодости мечтал о больших кусках шипучего мяса, об ухе, про которую мамочка рассказывала, когда сначала курицу варят, потом в этот бульон кладут ерша со щукою, а уж после, отцедив, залаживают стерлядь; царская уха; и обязательно пятьдесят грамм водки в нее, именно так варили на Волге…
– Что-то отец мне про такое обжорство не говорил, Женя… Хотя бурлак, может, не знал. Перхебс[6]6
Перхебс (англ.) – возможно.
[Закрыть]…
– Сначала-то бурлак, – улыбнулся Ростопчин, – а после – Шаляпин. Я хочу за его светлую память выпить, Федор.
Выпили; впрочем, говоря точнее, сделали по маленькому глотку из высоких, тяжелых хрустальных бокалов.
– А я, знаешь, как сейчас помню: отец мне с Борисом подарил ко дню рождения, вроде как у тебя сегодня, – усмехнулся Федор Федорович, – игрушечный театр… С этого и началось все. Я мальчонкой еще понял, что театр – это надежда, бегство от страха смерти. Да, да, именно так! Ведь актер проживает на сцене не одну жизнь, а десятки. Совершенно разных, неповторимых! К концу пути появляется усталость: «и это было под солнцем», все не так страшно умирать… Но это только Россия. У нас ведь отношение к театру религиозное. Мне Михаил Чехов рассказывал, что кондукторша в трамвае к нему обратилась: «Михаил Александрович, я вас в “Гамлете” четыре раза смотрела». Здесь-то все по-иному…
Шаляпин вздохнул; скептическая улыбка тронула его бескровные губы; закурив, тяжело затянулся:
– Я к тебе прямо со съемок, от Феллини. Знаешь, его дар абсолютно феноменален. Отсутствие театрального профессионализма ему заменяет невероятный, прямо-таки поразительный талант. Я в сложном положении: мы, русские артисты, превыше всего ценим профессионализм, это у нас в традиции, а он ни черта в этом не смыслит. Я у него как-то снялся – почти без слов – в роли актера Руиджери, забыл уж об этом, прожил деньги давным-давно, как вдруг он меня снова зовет: «Будешь играть Юлия Цезаря!» – «Помилуй, Феллини, но я ведь совершенно не похож на него! Вспомни портреты императора!» – «Ерунда! Я снял тебя в роли Руиджери, а тот играл Цезаря, получается гениальный монтаж, поверь, я чувствую ленту задолго до того, как она снята!» Я поверил. Вообще талантливому человеку нельзя не верить, ты замечал?
– Замечал, – согласился князь. – Очень верно ты это подметил.
– Вэлл… Пришел я в гримуборную, раздеваюсь, закусываю, – я никогда не ем после того, как положен грим, можно сломать рисунок, это невосполнимо, – и тут мне приносят парик Цезаря. Кудри, представь себе! Льняные кудри! Я человек сдержанный, но – не выдержал, швырнул парик на землю: «Да как же вам, итальянцам, не стыдно?! Неужели не знаете, что ваш император был лысый?!» Заставил себя постричь. Обкорнали. И все из-за него, из-за Феллини… Ладно… Приносят венок. Грубятина, сделано топорно, на голове не сидит, какая-то детская игрушка, отец такое выбрасывал в окно… Ему Головин не только рисовал костюм, он на примерке рядом с портным стоял, каждую складку проверял… Ну-с, кое-как я этот самый обруч переделал, а тут Феллини: «Как дела, Федор?» – «Да разве можно надевать такой невероятный венок?» – «Ах, черт с ним! Не трать попусту силы, он все равно свалится у тебя с головы во время убийства!» – «Нет, дорогой Феллини, я хочу, чтобы Цезарь умер, как и подобает императору… В тоге… С венком на голове… Хоть, впрочем, по римскому праву, он и не мог считаться настоящим императором, но я тем не менее полон к нему респекта». Ты думаешь, он стал со мной спорить? Доказывать что-то, как это принято в нашем театре? Да нет же! «Если тебе так хочется, умирай в короне!» И – все! Ну, хорошо, я собрался, вышел на съемочную площадку, сказал Феллини, что известную фразу «И ты, сын мой» произнесу по-гречески, ты ведь помнишь, что в Древнем Риме высшим шиком считалось говорить на языке поверженной Эллады…
– Да неужели?! – удивился Ростопчин. – Я не знал!
– Ты попросту забыл, Евгений, ты знал… Лишь император Клавдий официально запретил употреблять в Сенате греческий, потому что трепетно следил за тем, чтобы соблюдались римские традиции. Хотя и ему однажды пришлось извиниться перед собравшимися за то, что он сам был вынужден употребить греческое слово, поскольку его не было в языке римлян, а слово это выражало высший смысл политики – «монополия»… Словом, сидим, я жду команды режиссера, готовлюсь к работе, мизансцена разведена, а Брута все нет и нет… И вдруг приводят древнего старикашку! Представь себе мой ужас! Я говорю Феллини: «Но ведь Брут был незаконным сыном Цезаря! А этот – старше меня!» Возникла дикая, темная пауза, все замерло на съемочной площадке. А великий Феллини пожал плечами и спокойно заметил: «Но ведь это не доказано, это ж гипотеза». Говорит, а сам где-то далеко, его совершенно не интересует историческая правда, он просматривает свою ленту… Мою греческую фразу конечно же при монтаже он выбросил, оставил всего два плана из тех десятков метров, что снимал, а фильм, повторяю, вышел гениальный… Я ж говорю, его невероятный талант выше профессии; выплескивание дара – штука мистическая, Женя, непознанная.
– Как все это интересно, – тихо сказал Ростопчин. – Да и рассказываешь ты поразительно. Словно рисуешь. Я все вижу, право!
– Я – ничто в сравнении с Жоржем Сэндерсом. Послушал бы ты, как он держал зал, как он рассказывал со сцены!
– А я не знаю этого имени, Федор, не слыхал о нем…
– Неудивительно. Они ж беспамятны, в Штатах-то. Есть паблисити – помнят, нет – на свалку! Родись у них Шекспир, но не имей он хорошего банковского счета, его б и не заметил никто. А Сэндерс из Петербурга, нашу гимназию окончил, потом Америку потрясал, лучший драматический актер. Но все молодым себя считал… Шестьдесят пять уже, а он пьет, как сорокалетний. И девок меняет. Сколько я говорил с ним, как убеждал поберечь себя! Он обещал… О, как он клялся мне… Покончил с собою – и нет памяти. А Саша Гитри? Помнишь, сын великого Люсьена Гитри, который ушел из «Комеди Франсэз»?! Духа рутины не выдержал, им же режиссер давал в руки бумажные цветы, они на весь зал шуршали, поди играй в таком ужасе. К чему это я? – Федор Федорович нахмурился, рубленые морщины сделали его лицо похожим на маску.
– Ты заговорил о Гитри.
– Ах да, спасибо! Он ведь тоже родился у нас, в Петербурге. Его отец имел высший взлет, когда наш антрепренер Теляковский подписал с ним контракт на год работы в Михайловском театре… Был такой в северной столице, все спектакли давали на французском, одна аристократия собиралась… Так вот, Сашка с моим отцом сдружился, на все его репетиции ходил; забьется в угол зала и сидит… А он уже тогда комедии писал, его вся Франция ставила, любимец Парижа. Он – в одном углу, я – в другом. И заметил я любопытнейшую вещь: то он смотрел на отца с обожанием, а то вдруг лицо его замирало – в самых драматических местах… Видимо, ощущал, что в Федоре Ивановиче воплотилось то, чего он не достиг и никогда не достигнет. Я думаю, что это его понимание своей – в сравнении с Шаляпиным – малости свидетельствовало об определенной ущербности духа. Вот и скатился к предательству Сашка Гитри… Стал с немцами в Париже коллаборировать! Его не судили после войны, французы простили его за легкость таланта, так он сам себя извел: без рекламы, статей о нем, без шума жизнь ему была не в жизнь. И умер от рака… В безвестности… Истинный-то художник разве на предательство способен? Только Сальери, только несостоявшиеся…
– Как тебе фазан, Федор?
– Этот фазан? Какая прелесть! Чудо! Просто чудо!
– Ты иногда – особенно если падает тень – делаешься похожим на отца.
– На отца никто не может быть похожим, Женя. Знаешь, кто написал его лучший портрет?
– Не знаю.
– Коровин. В жилете отец стоит. Я его в дар Родине отправил. Коровин этот портрет за двадцать минут сделал, он ведь стремительно писал… Знаешь, как это было? Отец торопился в Питер, у него было двадцать спектаклей в Большом, двадцать в Александринке, собирал чемодан, расхаживал по комнатам в жилетке, а Коровин: «Ну-ка постой, Федор, я сейчас, мигом!» И – закончил ведь! Мы потом отца на вокзал провожали, и шофер так лидировал мотор, что отец буркнул: «Господи, хоть бы разглядеть, обо что сейчас насмерть разобьемся». Как мог Коровин ухватить поразительное сходство без рисунка, кистью – до сих пор ума не приложу! Между прочим, я еще один портрет в Россию привез. Самый, пожалуй, забавный. Дело было так: начал – в очередной раз – Коровин писать отца, и все ему не нравится, все не так, считает, сходства нет. Решил замазать, а отец говорит: «Погоди, дай-ка мне кисточку», – он ведь сам рисовал прекрасно. Коровин отдал, но и у отца ничего не вышло. А тут пришел барон Клодт, попросил кисть, но и у него тоже ничего не получилось; Коровин начал нервничать, все, говорит, замажу; случайно заглянул Серов, молча взял кисть, сделал три мазка и сразу же поймал сходство. Коровин не хотел подписывать, говорил Серову, мол, это ты сделал, тогда Серов взял да и поставил две подписи: «Коровин и Серов». Этот портрет всегда был с отцом: сначала на Новинском, потом в его парижской квартире, потом у меня в Риме, а сейчас снова вернулся в Москву.
– Да неужели?! Какое чудо! Ты записываешь все эти истории, Федор?
– Собираюсь сделать книгу.
– Нельзя медлить, под Богом ходим!
– Ты прав. Главное, есть ведь что писать. Помню, как директор театра Теляковский разрешил отцу поставить «Дона Карлоса». Такого не было ранее, чтоб певец делался постановщиком… Но Теляковский позволял отцу в опере все, как Петипа – в балете. И знаешь, отец так работал с певцами, что они поднялись до уровня настоящих драматических актеров. А это ведь почти совершенно невозможно. Тенор Лабинский, который до того и двигаться-то не мог толком по сцене, так заиграл, что люди плакали в зале… Да… А после премьеры отец пригласил всех на Новинский, мамочка накрыла три огромных стола, народу набилось – тьма. Отец, помню, поднял первый бокал и, оглядев всех, сурово сказал: «Вы же всё можете! Абсолютно всё! Но вы – лентяи!»
Ростопчин вздохнул:
– Обломов в Цюрихе помер бы в одночасье.
Шаляпин кивнул:
– А как отец режиссировал в Парижской опере! Приведет с собою Коровина и Билибина, ругается так, что люстры трясутся: «Окно нарисовал – не там! Эта дверь будет неудобна певцу! Как в этой мизансцене со светом работать?!» Он был невероятно требователен к окружающим. Женя, потому что прежде всего был требователен к себе. Я тогда у него жил, в Париже, он на моих глазах лепил образ Кончака, Боже, как это было поразительно! Он ведь во всем методе Станиславского следовал, боготворил его, а тот учил: «Коли не знаешь, как играть роль, пойди к товарищу и пожалуйся… Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина». Вот отец и выбрал меня в качестве «товарища-спорщика». Начинали мы обычную нашу прогулку от Трокадеро, там поблизости была его квартира, спускались вниз, и как же он говорил, Женя, как он поразительно рисовал словом! Он великолепно расчленял образ на три составные части: каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителям и каким его надобно сделать ему, Шаляпину. Знаешь, он грим Кончака положил в день спектакля, без репетиции! Это ж такой риск! Почему? А потому, что был убежден в своем герое, он видел его явственно… Сам себе брови подбрил, сам нашел узенькие татарские брючки и длинную серую рубашку, ничего показного, все изнутри. Он и на сцене появился неожиданно, таким, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросив поводья слугам, измаявшись после охоты… Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, и делал это до того сладостно, фыркая, обливая себя водою, что все в зале ощущали синие, в высверках солнца, студеные брызги… И обратился-то он к Игорю не по-оперному, торжественно, а как драматический актер, продолжая умываться: «Ты что, князь, призадумался?» Ах, какой тогда был успех, Женя, какой успех… А я тем не менее рискнул сказать ему после премьеры: «С театральной точки зрения ты бедно одет». Отец не рассердился, промолчал, а потом купил на Всемирной выставке, в Советском павильоне, красивый бухарский халат. Его-то и надевал после умывания… Театр – это чудо, Женя… Надо, чтобы люди воочию видели, как Кончак из охотника превращается в вождя племени, могущественного хана… Он ведь ни в библиотеках не просиживал, ни к ученым не ходил за консультациями, он мне тогда оставил завет – на всю жизнь: «Искусство – это воображение».
– Он тебя в собеседники избрал, оттого что ты был молодым голливудским актером?
– Да что ты?! Я был подставным лицом, неким Горацио! Просто русский, да еще интересуется историей, со мною можно было говорить как с самим собою… Да и вкусы одинаковы… Только раз я испытал некоторую дискомфортность, когда заметил папе, что цирк – развлечение не моего вкуса. Отец даже остановился от изумления… Долго молчал, а потом, грустно вздохнув, сказал: «В твоем возрасте я был потрясен цирком… Вот что значит воспитание». Отец рос в под донках общества, а я, благодаря его таланту, в цветнике. Впрочем, Дягилев меня как-то поправил: «Не в цветнике, а в самом утонченном розарии». Кстати, ты знаешь, что Серж Лифарь намерен пустить к продаже пушкинские письма из дягалевской коллекции?
– Да неужели?!
– Так говорят в Риме. Я не думаю, что он может пойти на это, но ты бы все ж таки проверил.
В дверь каминной осторожно постучали; Ростопчин недоуменно глянул на часы – полночь; странно, подумал он, я же позволил слуге спать, что могло случиться?
– Войдите, – сказал он и повторил громче (камин был огромный; бревна, охваченные пламенем, гулко трещали): – Пожалуйста!
Вошел дворецкий, неслышно приблизился к столу, склонился, будто сломленный, шепнул:
– Уже десять раз телефонировал господин Золле из Бремена. Умоляет соединить с вами: «Отчего князь скрывается от меня, неужели я в чем-то перед ним виноват?!» Я решил, что обязан доложить вам об этом.
Ростопчин извинился перед Федором Федоровичем, пошел в кабинет; телефона Золле не помнил, виделись всего два раза, познакомил их Степанов, беседы были чисто светскими; долго искал его визитную карточку, нашел, по счастью; набрал номер, услышал густой красивый голос историка; представился; сначала на другом конце провода, где-то на берегу Северного моря, за тысячу с лишним километров отсюда, молчали, а потом князь услышал тяжелое, больное дыхание.
– Что с вами, господин Золле? Это вы?
– Да. Я… Простите… Вы не могли бы прилететь ко мне?
– Это невозможно, господин Золле. У меня расписана наперед вся эта неделя… Приезжайте ко мне, милости прошу… Или в Лондон, восьмого…
Золле долго молчал, потом ответил еле слышно:
– Мне не на что…
– Я оплачу ваш билет. А что случилось, объясните толком?
Золле говорить не мог: плакал; лающе извинился и положил трубку.
5
Степанова разбудил Миша, которого друзья звали Пи Ар Ю Си, по английскому произношению первых букв его фамилии, то есть Прюс. Один из самых интересных переводчиков, журналист и медик, он, как всегда, был переполнен информацией (если же говорить о Мишиной основной профессии, то она довольно редкостная, и определить ее надо коротко: друг).
– Ты спишь? – требовательно спросил Миша. (Он обычно ставил вопросы, как напористый следователь прокуратуры; голос металлический, только смеется грустно.) – А напрасно! Вчера я брал интервью у одного американца, он торговец, в общем-то, мелюзга, тянет миллионов на двадцать, так вот, он знает про твою книгу о нацистах, грабивших музеи Европы…
– Врет, – ответил Степанов, зевая…
– Сначала извинись, потом я продолжу…
– Врет, – повторил Степанов. – Эта книга на английский не переведена.
– Я прошу тебя извиниться за то, что тягуче зеваешь, разговаривая со мною.
– Господи, Пи Ар Ю Си, ты что?!
– Ну, хорошо, ты же знаешь, я тебе всегда все прощаю! Так вот, американца зовут Иосиф Львович, он говорит по-русски, как мы с тобою, очень хочет повидаться.
– А на кой черт он мне нужен?
– Нужен. Но это не телефонный разговор.
– Собираешься взорвать мост? Отравить водопровод?
– Что?!
– Если нет, тогда говори все, что хочешь. Согласно Конституции, мы караем лишь терроризм, расизм и призывы к войне, все остальное вполне законно, то есть подлежит обсуждению по телефону.
– Ты сумасшедший, – рассмеялся Миша. – Ну, хорошо, этот самый Иосиф дал мне понять, что он готов войти в твое предприятие…
– То есть?
– То есть, как мне показалось, он намерен предложить тебе свои услуги в поиске и возвращении того, что ищут твои друзья на Западе.
– Откуда такая трепетная любовь к России?
– Он мальчишкой бежал от Гитлера из Польши… Отца занесло в Штаты, а его – к нам. Работал в Караганде, на шахте… На фронт не взяли, зрение плохое. Ну а потом вернулся во Францию, оттуда перекочевал к отцу в Панаму и взял американское подданство. Говорит, что русские спасли ему жизнь… Хочет отблагодарить. Только не знал, как это сделать… А когда прочитал тебя, сразу понял, что нужно предпринять. Главное, чтобы никакой политики, – он так и сказал: «Я – очень трусливый, боюсь политики, как огня».
– Врет, – повторил Степанов и поднялся с низкого дивана, который подарила ему вдова профессора Авдиева, его университетского учителя. – Химичит.
– Ты думаешь? – Голос Пи Ар Ю Си сделался звенящим. – Или у тебя есть основания говорить так?
– Оснований нет, – ответил Степанов. – Какие основания, если я его не видел?
– Дать ему твой телефон? Или послать к черту?
Степанов пожал плечами:
– Пусть позвонит…
– Теперь последнее. Как ты думаешь, стоит переводить Апдайка? Или лучше написать в Рим, Гору Видалу, чтобы он прислал мне свой новый роман? Погоди одну минуту, я закрою дверь, страшно кричит Темка, у него болит животик, вчера съел помидор.
Степанов воочию увидел, как Миша – по-юношески порывистый в свои пятьдесят четыре года – вскочил с табуретки (он обычно вел телефонные разговоры с кухни, сделанной удивительно уютно и красиво, чисто американский стиль, тамошние архитекторы научились делать восхитительный дизайн для кухонь, как-никак сердце дома), закрыл дверь в комнату, где его красивая молодая жена возилась с годовалым Артемом, вернулся на место, закурил и резко бросил трубку к уху.
– И еще: у тебя нет знакомых, которые продают морозилку? Только не финскую, а нашу, за двести восемьдесят?
– Нет, Мишенька.
– Жаль.
– А у тебя нет хорошего дерматолога?
– Записывай. – Как всегда, Мишина реакция была стремительной. – Сто двенадцать сорок один сорок три, добавочный два сорок, попроси к аппарату Вадима Михайловича, скажи, что от меня, представься, это лучший врач из всех, каких я знаю. Что-нибудь еще?
– Ты в Лондоне был?
– Был ли я в Лондоне?! Я жил в этом прекрасном городе полгода, когда возил туда выставку наших фотографий! Незабываемо! Записывай телефоны, я отдаю тебе великолепных людей…
– Кто они?
– Мои друзья, этого достаточно!
«Как Роман Кармен, – подумал Степанов, – тот всегда писал мне рекомендательные письма… И в Мадрид писал, своему ученику Антоше Гонсалесу, пусть ему земля будет пухом, и Кэпштайну в Париж, и в Голливуд, Дмитрию Темкину, тоже умер; и во Вьетнам писал, в Гаагу, и в Токио, и в Чили, когда там был Корвалан; с его друзьями сразу же завязывалась дружба, и не так было страшно жить в этом тревожном мире, потому что совершенно разные, незнакомые до того люди садились за стол, выпивали чарку водки, стакан чаю или чашку кофе и уговаривались о том, как и чем можно помочь друг другу. Как обидно, что термин “рекомендательное письмо” ушел из нашего обихода; ведь рекомендуют только того, в кого верят; на визитной карточке может быть множество титулов, но разве они определяют истинную ценность человека?! Нет конечно же. А напечатать про себя два слова: “порядочный человек” – как-то не с руки, особенно с нашим российским комплексом застенчивости. Нет Ромы… Но остался, слава богу, Миша Пи Ар Ю Си, рядом Слава, Виталий, Санечка Беляев, рядом Хажисмел Саншоков, Таир, Шайдук, Арчил, дед Данила, Эльдар, Семен, Корнеич, Магомет, какое все-таки счастье, что дружество непрерываемо, уходит звено, но связующая цепь остается, в этом главная надежда человеческая…»
Миша продиктовал телефоны, объяснил, у кого можно остановиться, если кончатся деньги на отель, кто в силах финансировать затраты на транспорт при том, что ответишь тем же в Москве, кто поможет посмотреть самые интересные спектакли и кто – в случае нужды – проконсультирует (причем бесплатно) насчет сердца и почек; поинтересовался, нет ли у Степанова знакомых в Архангельске, туда летит его подруга; записал адрес охотника и краеведа Антипкина, спросил, не болит ли у Мити затылок в связи с дикими атмосферными перепадами, порекомендовал в этом случае пить компламин и, сказав, что он должен срочно вести на прогулку своего пса чао-чао, положил трубку, успев при этом пошутить про то, что “не может Митя без еврея, поскольку я тебя шустрее”».
– Вообще-то я Джозеф. Папа был Левой, на старости стал Левисом, так что называйте меня Иосиф Львович. Очень просто и почти по-русски. Иосиф Львович Розэн, – представился маленький пепельнолицый человек в дымчатых очках с очень тонкими, прямо-таки балериньими руками и совершенно крошечными ножками, обутыми в остроносые туфли крокодиловой кожи. – Давайте вместе пообедаем? Я бы с радостью пригласил вас в «Сакуру»…
– Вы меня в Панаме пригласите, – ответил Степанов. – Здесь я хозяин. Так что кормить буду я, и не в «Сакуре», а в «Национале», там отменная русская кухня, едем…
– Да, но у меня назначена встреча в «Станкоэкспорте» с моим русским директором! Точнее говоря, содиректором, ведь наша компания смешанная…
– О чем разговор, приглашайте содиректора. – Степанов кивнул на телефон, стоявший на стойке у администратора отеля, в котором жил Розэн.
– Да, но ведь это служебный, – так же вкрадчиво проговорил Розэн, – неудобно…
– Вы чего такой осторожный? – улыбнулся Степанов; обернулся к администратору, представился (вообще-то не любил, нескромно это, но еще обиднее, если обхамят при американце. На то, чтоб пуд соли съесть, время потребно, но ведь иностранец на неделю приезжает, из того, с чем столкнется за это время, сложится впечатление, они ж быстры на выводы), спросил разрешения позвонить; администратор (видимо, из отставников, службист, воспитанный) разрешил, осведомившись при этом, над чем сейчас работает Степанов, что нового следует ждать в журналах, совсем пустые, обидно, читать нечего, а ведь такие богатые традиции и вопросов нерешенных масса (говорил рублено, командно, будучи, вероятно, уверенным в том, что Розэн тоже русский, – шпарит-то без акцента, только голову то и дело втягивает, совсем как черепаха, и лицо то каменеет, то расходится в улыбке).
В машине уже Розэн сказал, что его содиректора зовут Паша, он великолепный инженер, очень скромный человек, в Панаме в него все влюблены, прекрасно говорит по-испански и по-английски, совсем молод, а жена сплошное очарование, нет слов.
Паша понравился Степанову сразу же, потому что он и представился легко, – «зовите меня Пашей, я молодой еще, набудусь Павлом Ивановичем», – и улыбка у него была застенчивая, и слушал он вбирающе; иные молодые ныне приписали себя к критическим ниспровергателям, полны снисходительного юмора и скептической грусти; смешно, поскольку возрастные границы сдвинулись. Это раньше про двадцатишестилетнюю красавицу Пушкин писал, что, мол, старуха, а сейчас пятидесятилетние женщины – те, которые умеют держать себя, – напропалую крутят романы, и шестьдесят лет для мужчины считается – порою по праву – временем расцвета.
– Что будем есть? – спросил Степанов, когда они устроились на втором этаже «Националя»; вид на Манеж сказочен, день весенний, капель, красотища, в такие дни постоянно слышится музыка, и не страшно ощущать возраст, хотя и нет радостного предчувствия того, что все еще впереди.
– Я бы съел суп, – тихо сказал Розэн. (Он вообще говорил очень тихо, и Степанову приходилось все время напрягаться, чтобы понимать его, порою читал, как глухой, по губам.) – И хорошо бы котлету.
– У вас в памяти шахтерское меню, – заметил Степанов. – Здесь более разнообразный выбор. Рекомендую рыбную солянку, а заключим пиршество рыбой по-монастырски…
– По-московски, – поправил его официант. – Вы употребляете старорежимное выражение, Дмитрий Юрьевич.
– Пятнадцать лет назад режим был прежним; тогда ведь переименовали, – в тон ему ответил Степанов и посмотрел на Розэна и Пашу. – Хотите внести коррективы?
– Если можно, я бы выпил бутылку пива, – сказал Розэн.
– Чешского нет, – ответил официант, – только «Жигулевское».
– Так мне оно нравится! – Розэн вскинул над черепашьей головкой маленькие руки. – Особенно если пенное…
– Образцово-показательный американец, – заметил Степанов, – провести бы вас в государственные секретари, а? Ей-богу, сразу бы все спорные вопросы решили…
– Не тяните меня в политику, – попросил Розэн, – я торговец, чем и горжусь, а продаю я не что-нибудь, а ваши прекрасные станки, и очень неплохо это делаю, правда, Паша?
– Да, бизнес идет нормально, – ответил Паша.
– Вы лучше расскажите Дмитрию Юрьевичу про свою идею, тогда дело пойдет легче.
– У меня нет никакой идеи! Просто я обмолвился, что было бы неплохо, напиши кто-нибудь в Советском Союзе про то, как работает наша фирма, про наши успехи и трудности…
– Это не моя тема, – ответил Степанов. – Я пару раз влетал с вашим братом: одного хвалил, а он, как выяснилось, был жуликом и банкротом; второго ругал, а он оказался финансовым гением, раскрутил великолепный бизнес. Лучше поговорите с кем-нибудь из наших журналистов, специализирующихся на внешней торговле.
– Нужно имя, – еще тише сказал Розэн. – Вы понимаете, что для бизнеса нужно имя? Это не шутка. Это практика жизни. Тогда мне помогут и во Внешторгбанке, и во всех объединениях, правда, Паша?
– Вы не можете жаловаться на то, что вас обижают, – заметил содиректор.
– Да, но мы намерены расширять дело! Без поддержки Москвы я не потяну! Если нам дают рассрочку – вы же прекрасно это знаете, Паша, – он обернулся к содиректору, – мы идем семимильными шагами! Но если потребуют немедленных платежей, я пущу семью по миру…
Официант принес еду, начал сервировать стол.
Розэн попросил у Степанова сигарету, вкрадчиво пояснив:
– Я так борюсь с курением. Даже карманы пиджака зашил, чтобы не носить табак. Но окончательно перебороть не могу, несмотря на всю постыдность положения, в которое я себя ставлю, выпрашивая сигарету. В годы моей молодости говорили «стреляю». Это выражение осталось?
– Осталось. Стреляйте на здоровье, – сказал Степанов. – Врачи врут: не сигарета страшна, а стресс…
– Да, но у меня была операция на сердце.
– У всех были операции на сердце. У кого с ножом, у кого без ножа…
– Да, но без ножа все-таки лучше.
– Кто знает, – вздохнул Степанов.
Розэн съел две ложки супа, отставил тарелку; сделал два глотка пива, отодвинул фужер; сложив руки, как ксендз во время проповеди, он хрустнул пальцами и просяще посмотрел на Пашу. Тот сосредоточенно ел солянку; лобастый, подумал Степанов, хорошо смотрит парень, все сечет, и в уголках рта улыбка появляется именно тогда, когда нужно; есть люди-локаторы, а есть люди-стены, совершенно непрошибаемы; этот – локатор.
Степанов доел солянку, выпил боржоми; водку опасно, за рулем, отберут права «как с добрым утром»; а жаль, к такому обеду рюмка водки прямо-таки необходима; все же наш автозакон излишне жесток, немцы позволяют шоферу рюмку водки, сорок граммов, хотя Пи Ар Ю Си предупреждал, что в Англии за глоток пива дерут чудовищный штраф и немедленно отбирают водительскую лицензию; посмотрел на молчащего Розэна – далеко не Цицерон, – спросил:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































