Текст книги "Аукцион"
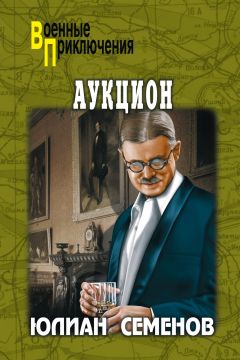
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вы как-то увязываете воедино свое желание войти в то дело, которым занимаются мои друзья на Западе, с тем, чтобы я помог вам здесь в вашем бизнесе?
Лицо Розэна не дрогнуло, только маленькие ладошки стремительно вспорхнули над головой:
– Ах, при чем здесь мое чувство благодарности и бизнес?! Я сказал Паше, что хочу войти в дело возвращения в Россию похищенного гитлеровцами сразу же, как только прочитал об этом! Никакой связи с бизнесом, просто надо уметь отдавать долги!
Паша усмехнулся:
– Есть связь, Иосиф Львович, не гневите Бога, есть.
– Спасибо, – сказал Степанов. – Вот это серьезный разговор. Если не возражаете, поедем ко мне после обеда, позвоним в Цюрих, Ростопчину, он финансовая пружина всего предприятия, без него вряд ли что получится, договоритесь о встрече… Можете полететь отсюда домой через Цюрих?
– Конечно, – ответил Розэн. – Послезавтра – пятница. Банки еще открыты. Мне будет очень интересно познакомиться с мистером Ростопчиным. Не скажу, что у меня есть свободные деньги, но я готов потратиться, – не с прибылей компании, а отдать свои, кровные, потому что испытываю душевную потребность быть вместе с вами и вашими друзьями, мистер Степанов.
Цюрих дали довольно скоро, потому что Степанов позвонил старшей на международную станцию и объяснил, в чем дело; Ростопчин был в офисе; голос грустный, надломленный какой-то.
– Что стряслось? – спросил Степанов. – У тебя какие-то неприятности?
– У нас неприятности, – уточнил Ростопчин. – У тебя, у меня, у нас. Ты должен прилететь ко мне в Цюрих завтра же!
– Что случилось?!
– Мне безумно жаль господина Золле. Он в ужасном состоянии, но не говорит толком, что стряслось. Кажется, денежные затруднения. Я звал его сюда, он не хочет, я предложил ему прилететь в Лондон восьмого, к нам с тобою, он согласился… Но самое ужасное то, что Лифарь послезавтра решает судьбу писем Пушкина и стихов Лермонтова. Я не уверен, что он решит правильно. Нужна твоя помощь, поэтому, пожалуйста, бери первый же самолет…
– Погоди, Женя. У меня же нет паспорта, визы… Я не получу ее сразу… Надо ждать, это нереально… Тем более я добился полета в Лондон, перелопачивать поздно…
– Перелопачивать? – Ростопчин вздохнул. – Хороший русский – мое успокоение, как маслом по сердцу, этого слова в годы моего детства я не слышал.
– Нравится?
– Очень.
– Я рад. Придется тебе съездить к Лифарю одному, Женя. Или с господином Розэном…
– Кто это?
– Тоже, вроде тебя, буржуй. Только он из шахтеров, а не аристократ. Я передам ему трубку, а потом мы с тобою договорим, ладно?
– Ах, как это все ужасно! – Князь вздохнул. – Визы, паспорта, границы… Как его зовут, этого господина?
– Иосиф Львович.
– Хорошо, что не Виссарионович, – улыбнулся Ростопчин, – а то б мне пришлось стать по стойке «смирно».
Степанов протянул Розэну трубку, тот откашлялся, словно ученик у доски, и сказал:
– Здравствуйте, ваше сиятельство, это Иосиф Львович… Мне очень приятно говорить с вами! Я заочно познакомился с вашей деятельностью, и она кажется мне благородной… Вот…
«Долго, видно, готовил фразу, – подумал Степанов, – все то время, пока мы ехали, не иначе. Такого рода торговый человек нам не помешает, у него глаза ледяные, уж если что решил, то не отступит».
– Я не скажу, что у меня куры не клюют «бабки», – продолжал между тем Розэн, – но пару десятков тысяч я готов внести для первого раза. Мистер Степанов рассказал об аукционе в Лондоне… Я не смогу там быть, но я полечу в Нью-Йорк через Цюрих, позвоню вам сразу же…
Паша посмотрел на Степанова; лицо его было, как у мальчика – нескрываемо-радостно; он поднял большой палец, накрыл его ладонью, а после «присыпал солью»; так в детстве мы выражали высшую форму радости, вспомнил Степанов; Паше, наверное, лет тридцать, он ближе к моей Бэмби, чем ко мне, странная проблема тяготения поколений, водораздел памяти, чертовски интересно; хотя говорят, что в старости очень хорошо помнится детство, все возвращается на круги своя; жаль только, что круг – последний…
Запись телефонного разговора Степанова и Розэна с Ростопчиным была переслана представительством в Цюрихе («Юридическая контора Мэнсона и Доу») в Гамбург, Фолу, той же ночью; его, однако, там уже не было, вылетел в Лондон; отправили вдогонку утром, шифрограммой, с пометкой «спешно».
В десять часов Фол прочитал телеграмму, попросил отправить запрос на Розэна, «находящегося в настоящий момент в Москве, но базирующегося на Панаму, какой-то бизнес, подробности неизвестны», и отправился на Нью-Бонд-стрит, 34, в фирму «Сотби».
IV
«Милостивый государь, Николай Сергеевич!
Нехорошо, конечно, злорадствовать, но можно ли считать злорадством справедливость, которая не всегда благостна, но зато разит грешника?
Вы, наверное, слыхали уже, что Надежда Забелла-Врубель, забрюхатев, перестала петь, отошла от театра, и заработок в семье декадентского Юпитера сильно поубавился, пришлось жить только от продажи картин. Увы, не перевелись еще аристократы (не могу взять в толк их поступки, оригинальничанье, что ль? Или детская безответственность?), которые покупают в свои коллекции отвергнутого императорскими музеями Врубеля. Ладно б торговцы, в них не наша гниль, юркость в них, заимствованная на Западе, из чуждых нам палестин, а то ведь прекрасных родов дворяне дают ему деньги, а он все малюет, малюет, малюет…
Сказывают, работал он денно и нощно, чтобы ублажить свою брюхатую, чуть не по восемнадцать часов, даже при электричестве, без естественного света (оттого такая мазня), кое-как сводил концы с концами, много скандалов было с его “Демоном”, – не услыхал Господь наши мольбы, чтоб не прикасался к Лермонтову, да тут родился ребенок, нареченный конечно же Саввой, хм-хм, Савва Врубель, чисто по-русски, чтоб ни у кого сомнения не было, что, мол, лях или какой-то литовец. Кстати, его любимая игра называется “Оргия”, да, да, именно так, верные люди сказывали, что еще на хуторе у старика Ге они устраивали Оргию Роз, но ведь от Роз до чего иного один шажочек, слово-то “оргия” определенный в себе несет смысл…
Так вот, Савва Врубель младенцем почил, простудившись в дороге.
Конечно, нельзя по-человечески не сострадать отцовскому и материнскому горю. Глядишь, эта жертва, как возмездие, очистит его и отторгнет ото всего того, что приводит нашу православную публику в негодование, столь же справедливое, сколь откровенно, без обиняков, выражаемое.
Мой удар по его “Демону” доставил декаденту ряд неприятных минут, он ведь не один уж был, а с семьею, заботы житейские стали понятны ему, не все витать в эмпиреях да жить за счет Мамонтовых и Морозовых, пора и своим трудом, своей головушкой думать.
Посмотрим, куда его понесет теперь. Удар был силен, как очистительная гроза с молнией. Кто знает, может, вернется в Лоно? Я первым тогда протяну ему руку, первым напечатаю статью, потому что не злоба двигала мною или зависть, но лишь скорбь о попранных традициях, о насилии над светлыми идеалами Православия…
Поживем – увидим.
Милый Николай Сергеевич, был бы бесконечно Вам признателен, посодействуй Вы отправке моего гонорара за пятый и четвертый номер, да и аванс не дурнехонько б получить, мы с Танечкой решили поехать на воды в Виши, а там курс весьма дорог.
Сердечно Вас обнимаю, оставаясь Вашим покорным слугою,
Гавриил Иванов-Дагрель».
6
– Вообще-то любовь наказуема, – сказал Фол мистеру Джавису, ведущему эксперту фирмы «Сотби» по вопросам европейской живописи. – Особенно родительская. Стоит детям понять всю безграничность отцовской или материнской любви, и они потеряны; появляется ощущение собственной непогрешимости и вседозволенности – особенно если родители живут поврозь. Об этом моему старшему брату сказал Хемингуэй, они вместе рыбачили на Кубе, я согласен с такого рода концепцией.
Фол отошел в угол темного зала. «Сотби», как и всякая престижная фирма, располагалась в старом здании восемнадцатого века; второй этаж, где состоятся торги, был заставлен русской живописью. Фолу показалось, что в этом старом сине-красно-деревянном зале русским было холодно. Он еще раз посмотрел врубелевский набросок лица мальчика; сидит в колясочке; рубашонка фиолетовая, щеки висят; странно раздвоенная верхняя губка; глазенки умные.
Осмысленность карапузов не понята еще учеными; они живут своим миром, не познанным взрослыми; Мечников написал этюды о старости, но ведь это так субъективно; папа рассказывал, вспомнил Фол, что его дед, Грегори Джозеф, каждый день сочинял про себя разное; семья была большая, собирались каждый вечер на большой кухне старинного фермерского дома, ели овсяные хлопья с сыром, пили кофе с желтыми сливками, и дед, возглавлявший по традиции стол, нес такую околесицу про всех и вся, что уши вянули. Он же, однако, был убежден в своей непререкаемой правоте, хотя был кругом не прав; как же можно безоговорочно верить дедам и бабкам, брать их всерьез? Они, видимо, существуют не в прожитом, а в придуманном ими мире. Только младенцы – подданные мира реального. Фантазии старости – осознанная ложь, примочка от страха, а вот пора младенческого «агу-агу» – высшее таинство человечества; нечто вроде эпохи майя, – знать знаем, а постигнуть изначальную тайну – таланта не хватает, а может, и ума.
– У вас нет детей? – поинтересовался Джавис.
– Нет, – ответил Фол. – Или есть такие, о существовании которых мне неизвестно.
(У него было трое детей от Дороти – мальчики и девочка: Дэниз, Эл и Кэтрин; девятнадцать, десять и семь лет; все кончилось – и с их матерью, и с ними, когда он понял, как брезгливо и отстраненно она не любила его; протестант, сухарь; ах, Боже, стоит ли вспоминать об этом; один, совсем один; да здравствует свобода, надмирное одиночество, постоянный взгляд в зеркало!
Когда они разошлись, Фол начал пить. Потом подумал: да о чем я? У них – и у Дороти с ее торговцем, и у старшего сына Дэниза с его таиландкой – своя жизнь; вырастет Эл, заведет себе француженку или русскую; что ж, его право; потом Кэтрин – не иначе как порадует евреем или негром. Я нужен им как гарант их благопристойной жизни, возможность делать субботние траты; путешествия, загородный дом, горничная; пусть это счастье продолжается как можно дольше; поэтому-то я обязан выжить, а не сломаться на семейных сценах, будь они прокляты, не стать алкоголиком или наркоманом; каждое утро массаж; теннис, пробежки; в женщин – с той поры, как развелся, – не верил, считая их всех шлюхами.)
– Этот младенец – сын Врубеля? – спросил Фол.
– Мы не располагаем литературой о художниках. Затрудняюсь дать вам точную справку.
– У вас нет литературы только о русских?
– Нет, практически обо всех. Кроме, конечно, Мике-ланджело или Ван Гога.
– Как же можно работать?! – Фол удивился. – Ведь вы главный эксперт по живописи!
– Совершенно верно, – подтвердил Джавис. – Но вы не совсем верно трактуете понятие «эксперт». В нашей фирме задача эксперта заключается в том, чтобы выяснить истинную стоимость вещи, подготовить буклет для предстоящего аукциона, составить каталог, оповестить мир людей, занятых нашим бизнесом, проследить за тем, чтобы все ждали событие и готовились к нему… Видимо, вам это неинтересно?
– Очень интересно! Я никогда еще не писал о торгах.
– Вы штатный сотрудник журнала или свободный журналист?
– Да, я работаю по договору… На Америку, Австралию… Очень хорошо меня покупают в Новой Зеландии, – заметил Фол. Он не лгал; статьи журналиста, чью визитную карточку он использовал для беседы в Сотби, действительно хорошо шли на задворках мира, тамошним пастухам в них нравилось что-то. – А кто будет вести торги?
– Я и мой коллега, мистер Адамсон.
– Ах вот так?! Очень интересно… Вы уже имеете информацию о том, кто приедет сюда?
– Мы имеем исчерпывающую информацию, нельзя полагаться на приблизительные сведения.
– А кого вы ждете на аукционе? Я имею в виду имена, которые сами по себе вызовут сенсацию…
– Видимо, будут сражаться американцы с французами. Две уважаемые семьи из Лондона поручили вести торг своим брокерам. Я жду баталий… Имен мы не называем… Как правило, в зале работает телевидение, так что из выпуска последних известий страна узнает, кто был на торгах…
– Будет много американцев?
– «Фонд Сэлливэн», Институт театра, финансируемый Меллонами, и темная лошадка с Западного побережья, мистер Кэббот. Он состоялся на новых видах цветных упаковок для прохладительных напитков, интересная идея, минимум затрат рабочей силы; их в деле было всего девять человек, а взяли за три года более семи миллионов…
– Более девяти, – поправил Фол. – Я знаком с Кэбботом. Наш журнал брал у него интервью…
– Интересно! – Джавис остро глянул на собеседника. – Как вы думаете, он будет биться за русскую живопись?
– Смотря кто его консультирует. Если Кэбботу докажут, что это серьезное вложение капитала, что, купив сейчас за двадцать тысяч, он через три года получит за эту же картину сорок, – будет биться.
– Это крайне интересно, благодарю вас. А еще мы ждем мистера Софокулоса. Он работает на эмиров, на Востоке оседают интереснейшие вещи, новый Лувр.
– Скажите, а чего можно ждать, если на аукционе выяснится, что к продаже выставлена ворованная картина?
– Этого не бывает в Сотби. Я готовлю аукцион почти полгода именно для того, чтобы такого рода неприятности не произошло. Как вы понимаете, мы работаем в тесном контакте с полицией и страховыми компаниями, нет, нет, такое просто-напросто исключено.
– Последний вопрос, мистер Джавис. Отчего фотоальбомы балетов Дягилева и Лифаря так баснословно дороги, дороже, чем рисунки Пикассо и Дали?
– Вполне объяснимо! За эти альбомы уплатят не менее ста пятидесяти тысяч, хотя отправную цену для торгов мы обозначили всего в тридцать тысяч. На фотографиях вы имеете костюмы и декорации лучших балетных постановок Дягилева. Не менее двадцати единиц. Если балеты решат восстановить, придется заказывать большим художникам новые декорации и костюмы. Это будет стоить по крайней мере пятьсот тысяч, а то и больше, несмотря на то что сейчас в театральной живописи нет особенно больших имен. После Коровина, Бенуа, Кокто, Головина, Пикассо мир обеднел.
– В какую сумму выльются торги?
– Как вы понимаете, вопрос преждевременен. Впрочем, не для публикации: полагаю, мы доведем страсти зала до семисот тысяч фунтов…
Фол снова посмотрел на врубелевский портрет мальчика.
– Интересно, что из него получилось? Все мы поначалу были очаровательными младенцами, забавой для родителей, а потом…
– Ах как верно вы заметили! Простите, я должен идти, приехала госпожа Прокофьева, подруга великого русского пианиста, она, видимо, намерена биться за ряд его партитур. Буду признателен, если вы пришлете мне вырезку из вашего журнала. До свидания, благодарю вас. – И Джавис отплыл к маленькой женщине, окруженной молодыми мужчинами, говорившими по-русски; Фол отметил сразу же, что их русский был очень хорошим, не консервированным, настоящим.
…Отель «Кларидж» был рядом, пять минут хода; Фол снял номер по соседству с тем, который забронировали для князя Ростопчина; довольно рискованно полагаться на «братские» службы; аппаратура прослушивания в лондонском представительстве концерна АСВ великолепна, но разумнее пользоваться своей. План проработан, Ростопчину не позволят спуститься в холл, к Степанову; его задержат в номере; позвонит Зенон, они знакомы с тех пор, как вместе сражались в маки, под Лионом; о том, что Ростопчин приехал в Лондон, Зенону скажет Харви, они дружат; предлог для звонка мотивирован, Ростопчин великолепно знает все, связанное с бизнесом по текстилю на регион Среднего Востока, как не ответить на вопросы старого приятеля! Сразу же после того как он кончит говорить с Зеноном, позвонит сам Харви и начнет рассказывать о коллекции русской живописи, которую он обнаружил в Канаде; Ростопчин не может этим не заинтересоваться; Степанов – судя по его психологическому портрету – не станет ждать в холле, а поднимется в номер к другу, – что и требуется! Он обязательно поднимется в номер; Фол тщательно изучил документы, собранные на русского, набросал штриховой характер, проверил на ЭВМ – в основном совпадало; следовательно, накануне торгов он, Фол, будет в курсе всего того, что замышляют приятели, операция с Золле – следующий этап того же вечера; развязка наступит девятого мая в Сотби; молодец, Фол, все-таки голова у тебя работает отменно.
Полковник Бринингз, возглавлявший секретный отдел специальных исследований британской страховой корпорации «Долл», связанной с американским концерном ДТ-АСВ, принял Фола лишь на следующий день после того, как тот попросил о встрече; был сух; смотрел сквозь; говорил цедяще, лениво:
– Мне довольно трудно понять ваш замысел, мистер Фол… Меморандум, который прислали ваши коллеги, страдает определенной недосказанностью, лишь общий абрис, ничего конкретного…
– Я готов ответить на ваши вопросы, полковник.
– Благодарю вас, это очень мило. Итак, первое: является ли, по-вашему, мистер Степанов секретным агентом своего правительства или же он подвержен утомительной болезни коллекционирования?
– Я не могу ответить однозначно.
– Если джентльмен намерен приехать в Лондон, чтобы вместе со своими друзьями, – полковник посмотрел на бумагу, придавленную яйцеобразным минералом из Парагвая, и, чуть коверкая, произнес имена, – мистером Золле и князем Ростопчиным присутствовать на аукционе Сотби, я не вижу в этом ничего предосудительного. Кабинет Ее Величества всегда следовал и будет следовать духу и букве Билля о правах человека. Я не отделяю себя от кабинета Ее Величества, мистер Фол.
– Я также полон уважения к кабинету Ее Величества, полковник, но мне бывает обидно, когда доверчивостью и благородством джентльменов пользуются недостойные люди.
– Своим главным пороком, мистер Фол, я как раз считаю излишнюю недоверчивость. Что делать, сорок три года в секретной службе. Итак, я позволю себе повторить вопрос. Лишь исчерпывающий ответ понудит меня занять определенную позицию.
– В таком случае я в достаточно сложном положении, полковник. У нас нет полной уверенности, что Степанов связан с площадью Дзержинского, хотя я глубоко убежден, что все, кому Кремль разрешает выезд за железный занавес, так или иначе отслуживают своим хозяевам…
– Мне было бы крайне интересно узнать, каким образом отслуживает миссис Плисецкая? Или мистер Мравинский? – Полковник Бринингз холодно усмехнулся и впервые за весь разговор посмотрел своими совершенно недвижными глазами в зрачки собеседника. – Если человек нашей профессии ощущает в себе страх перед каждым, кто живет в другом обществе, следует подавать в отставку, мистер Фол. Страна свободы, обнесенная колючей проволокой предубеждений, рано или поздно превратится в концентрационный лагерь.
– Сердечно признателен за ваш совет по поводу отставки, полковник. Я не премину обсудить вашу точку зрения с президентом моей корпорации. Тем не менее мне нужна помощь, и я намерен получить ее – в тех пределах, естественно, какие вы посчитаете разумными.
– Вы получите помощь, если убедите меня в том, что она необходима – с точки зрения моей профессии…
– С точки зрения моей профессии, – Фол усмехнулся, – она совершенно необходима. Я постараюсь сформулировать смысл нашего интереса более грубо: мне и моим коллегам не очень-то нравится трогательное единение красного с аристократом, живущим в Швейцарии, и с исследователем из Федеративной Республики; демонстрация этого «единения людей доброй воли» – так, кажется, пишут московские газеты – произойдет не где-нибудь, а в Лондоне, и не просто в Лондоне, за столом второразрядного ресторана, а на Нью-Бонд-сгрит, где будут шельмовать престиж Сотби, а затем в театре на Пикадилли, арендованном сегодня на одиннадцатое мая неким сэром Годфри, ведущим самые представительные шоу с политиками, журналистами и бизнесменами. Сэр Годфри уже разослал триста приглашений в газеты, журналы, на телевидение, в музеи, туристские фирмы и компании, вкладывающие деньги в культурный бизнес.
– Где вы получили эти данные? У моих сотрудников? Кто именно посмел передать вам эту информацию?
Фол понял, что попал в западню; лгать старой мумии бесполезно; ас, все поймет сразу; говорить, что у него в Лондоне есть свои источники информации, тоже нельзя, – британские амбиции, «непотопляемый авианосец», «бастион свободы» и все такое прочее.
– Я не думал, что вы так крепко держите руку на пульсе. – Фол заставил себя улыбнуться. – Вы меня поначалу так запугали, что я решил, будто вы совершенно выпустили из-под контроля судьбу коллекции, застрахованной в вашем женевском филиале.
– Вы не ответили на мой вопрос, мистер Фол.
– В общем-то, я не обязан отвечать на все ваши вопросы, полковник. Вы можете обратиться в Нью-Йорк, и если мой шеф согласится с вашими доводами, я стану отвечать на все то, что вас интересует. Я ведь тоже чту Билль о правах, сэр…
– Мистер Фол, вы опять-таки не ответили на мой вопрос, слишком много эмоций… Вы находитесь в Лондоне, и я имею все резоны узнать, кто осведомляет вас о событиях, которые происходят в столице Британского содружества наций…
– Все возвращается на круги своя, воистину, – вздохнул Фол. – Вы же понимаете, что я ни в коем случае не открою вам имен тех, кто помогает мне в моем деле, полковник. Задавая такого рода вопрос, вы попросту делаете невозможным наше сотрудничество… В этом, конкретно в этом, мероприятии…
– Чье это мероприятие?
– Нашей фирмы.
– Но оно начато по вашей инициативе, не правда ли? Вы не очень-то похожи на тех, кто бездумно выполняет приказ. Как мне кажется, вы относитесь к племени фантазеров. Я отчего-то убежден, мистер Фол, что именно вы предложили своему шефу и моему старому другу самолично провести это дело в Лондоне.
– Вы правы, полковник. К счастью, у нас очень не любят иерархию как принцип организации разведывательной системы. Чем больше ступеней, тем больше возможностей для того, чтобы исказить правду. Да и потом те, – Фол посмотрел на огромный стол полковника, – которые занимают ключевые позиции на вершине, редко считаются с рекомендациями рядовых работников. Вот и получается, что информацию подгоняют под требования боссов во имя видимого сохранения единства взглядов…
– Благодарю вас за то, что вы ознакомили меня с вашей концепцией, невероятно интересно, очень ново; в таком случае, полагаю, вы наберетесь терпения и выслушаете меня. Я очень плохо отношусь к тем в нашей службе, кто единственной целью разведки – в стране конкурентов ли, врагов ли, друзей – полагает сбор информации. Я за прогнозирование в разведке, мистер Фол. Тот, кто противится этому, является антиинтеллектуалом. Ставка на одни лишь операции недальновидна. К тому же культ секретности несет в себе угрозу для качества информации, являясь серьезным препятствием для перемещения собранных данных от одного эксперта к другому, ибо автор секрета дорожит им, как мать – ребенком. Чрезмерная секретность службы Его Величества сыграла с нами злую шутку, когда мы недооценили Гитлера; отсутствие прогнозов и неуправляемый страх перед большевизмом не позволили нам сделать верную ставку, мистер Фол, и началась Вторая мировая война.
– А мне отчего-то казалось, что Вторая мировая война началась из-за того, что Сталин заключил договор с Гитлером.
– Видимо, у вас не было времени прочитать воспоминания сэра Уинстона Черчилля, мистер Фол. Он очень не любил большевизм как идейное течение, однако сэр Уинстон весьма уважительно относился к такому явлению, каким была, есть и будет Советская Россия. Если бы на Даунинг-стрит в тридцать девятом году жил сэр Уинстон, а не сэр Невиль, уверяю вас, пакта Сталина с Гитлером не было бы, был бы пакт Сталин – Черчилль…
– Что-то похожее я читал в коммунистической прессе, полковник.
– В коммунистической прессе работали Маркс, Ленин, Бухарин, Люксембург, Тольятти, Торез, Пик; впрочем, в свое время Бернард Шоу, Ромен Роллан, Теодор Драйзер и Уолтер Липпман также обвинялись в подверженности красным влияниям. Я бы не рекомендовал вам сбрасывать со счетов коммунизм, мистер Фол, это достаточно серьезная доктрина.
…Вечером в клубе, где полковник Бринингз обычно ужинал, он встретился с сэром Мозесом; своим правом приглашать сюда знакомых он не пользовался, если уж клуб, то лишь для своих; каждый знает каждого, абсолютное доверие друг к другу, – после девяти часов в кабинете, где работа заключается в том, чтобы не доверять, здесь можно наконец расслабиться и по-настоящему отдохнуть.
Мозес Гринборо был кадровым сотрудником разведки; вышел в отставку двадцать лет назад: по-прежнему играл в теннис (но с тренером уже, боялся перегружать себя чрезмерным передвижением по корту; мера, во всем должна быть мера), раз в неделю посещал одну из своих приятельниц (советовался с врачом; тот сказал: «Чтобы любить, надо любить постоянно; если вы сломаете руку и будете ходить полгода с гипсом, вам придется полгода развивать мышцу; то же и в любви; простите за цинизм, но, воистину, все вещи в труде»), летом уезжал в Норвегию, рыбачить; он там воевал в сороковом; остались еще друзья, однако же воспоминаний бежали, считая их горьким уделом старости; нельзя стареть, это – Дюнкерк, поражение, сдача.
Как правило, полковник никогда не говорил с Гринборо о делах; раз ты вышел из предприятия, раз принял решение отойти от дела, ты сам себя обрек на определенного рода отчуждение.
Так же, как и полковник, сэр Мозес был страстным поклонником Черчилля, – оба имели счастье работать в ту пору, когда тот возглавлял кабинет Его Величества; речь в Фултоне расценили как грандиозный маневр политика, который уступил Соединенным Штатам право на конфронтацию с Кремлем, выиграв, таким образом, для Британии право арбитра, высшее право в политике; не его вина, что последователи не смогли воспользоваться тем, что он так гениально придумал; беда последователей как раз в том и заключается, что они последователи, а он был личностью мирового масштаба, такие рождаются нечасто.
Так же, как и полковник, сэр Мозес был сторонником европейской тенденции; полное растворение в Америке открыто называл «нецелесообразным»; твердость по отношению к Москве они никогда не отождествляли с неразумным упорством; гибкость полагали серьезным инструментом политики; прогнозировать мир исходя из точной даты крушения режима в Кремле считали детством; история научила их реализму; выступления в парламентах или статьи в журналах – одно дело, а практическая каждодневная работа во имя Британского содружества наций – совершенно иное.
Именно в этот вечер, изменив правилам, полковник легко поделился с сэром Мозесом кое-какими соображениями по поводу того, что младший брат начинает развивать чрезмерную активность на Острове; очевидна тенденция; да, вполне возможно, что некий русский связан со спецслужбами, но это надо доказать; попробуем; в этом направлении наши друзья работают, причем весьма активно; однако же меня не устраивает главный посыл: сейчас, когда в мире все трещит, совершенно неразумно, более того, рискованно мешать контактам на уровне университетов, живописи, литературы, музыки, журналистики; в конце концов это такие мосты, по которым потом пойдут политики; князь Ростопчин совершенно нейтрален, истинный русский барин, вполне вжившийся в наш мир, очень, кстати, странно, не находите? Немец из Бремена являет собою образчик совершеннейшего архивного червя, он, кстати, помог нашим друзьям найти поразительные материалы об активности гитлеровской разведки в Шотландии, да, да, он охотился за человеком, который, служа в штабе рейхсляйтера Розенберга, был при этом офицером Шелленберга; к мистеру Золле обратились наши люди, и он сразу же передал свою документацию, совершенно открытый человек, доверчив и благороден… По-моему, если кто и должен быть заинтересован в нарушении такого рода контактов, так именно Красная площадь, не правда ли?
– Вопрос не однозначен, – ответил сэр Мозес. – В каком-то смысле Площади тоже выгодны такого рода контакты.
– Вы совершенно верно заметили: «в каком-то смысле». Но в каком? Здесь случай беспрецедентен: аристократ, лютеранин и красный. По-моему, Степанов опирается на моральную поддержку мистера Шагала, так что круг разрастается. Если бы мистер Шагал был коммунистом, я бы забил тревогу. Однако в данном конкретном случае, – если только мистер Степанов не проявит себя соответствующим образом во время визита, – я склоняюсь к тому, чтобы не мешать ему. Более того, было бы славно, найди мы силы, оградить его от чрезмерной активности наших младших братьев. Как вы отнесетесь к такого рода препозиции?
– Это тот самый случай, когда я не готов к ответу, полковник, – ответил сэр Мозес после долгого молчания. – Может быть, в этом и есть симптом старения?
– Старость – это память. А вы продолжаете помнить имя сэра Годфри, не так ли?
– О да, блистательный журналист, мастер всякого рода шоу, я порою играю с ним партию в Уимблдоне, очень хорош в обороне… Он вас интересует?
V
«Дорогая!
Мне кажется, что вдохновение – это страстный порыв неопределенных желаний, душевное состояние, доступное всем, особенно в молодые годы; у артиста, однако, оно несколько специализируется, ибо направлено на желание воссоздать нечто.
Пар двигает локомотив, но не будь строго рассчитанного, сложного механизма, недоставай в нем хоть крохотного и дрянного винтика, – пар растает в воздухе, уйдет! Огромной силы, заключенной в нем, как не бывало, пшик!
Трогает меня, что Репин превозносит мой акварельный прием. А рисую я задумавшуюся Асю. На столе серебряный двусвечник рококо, гипсовая статуэтка Геркулеса, букет цветов и только что сброшенная осенняя шляпа, отделанная синим бархатом; сзади белая стена в полутоне и спинка дивана с белым крашеным деревом и бледно-голубоватой атласной обивкой с цветами а-ля Луи Пятнадцатый. Это этюд для тонких нюансов: серебро, гипс, известка, окраска и обивка мебели, голубое платье – нежная и тонкая гамма; затем тело теплым и глубоким аккордом переводит к пестроте цветов, и все покрывается резкой мощью синего бархата шляпы…
Твой Врубель».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































