Текст книги "Аукцион"
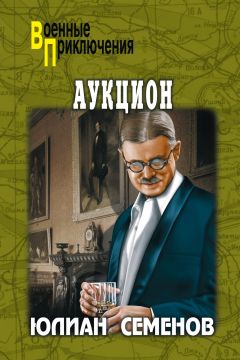
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
7
Назавтра в девять пятнадцать сэр Бромсли – лично, а не через секретаря – позвонил полковнику Бринингзу и попросил его приехать в резиденцию к одиннадцати пятнадцати: «Если вам придется подождать пять минут, надеюсь, извините меня, принимаю коллегу из Бонна; как правило, самое главное немцы говорят лишь в конце беседы, полагая, что первые сорок пять минут они изучают собеседника, разминают и готовят к главному; мистическая нация».
Тем не менее сэр Бромсли принял полковника точно в назначенное время: обменявшись в дверях прощальным рукопожатием с боннским заместителем министра, он здесь же, не сходя с места, дружески приветствовал своего старого знакомца, пригласил его к маленькому столику, который секретарь, мисс Призм, уже успела убрать после первого визитера и накрыть к приходу Бринингза (ветеранов службы сэр Бромсли выделял, оказывая им заметное для всех почтение), сам налил ему чаю; только что прислали из Пекина, совершенно поразительный аромат; заметил, что немца он угощал кофе; «этот жасминный экстракт здоровья я берегу только для своих», и лишь после этого, в обычной своей манере – абсолютная прямолинейность в разговоре с асами – сказал:
– Нью-Йорк обижен, полковник. Я получил телеграмму от наших младших братьев, они обескуражены вашей позицией…
– Я ждал этого, сэр. Вы в курсе того, о чем они просят?
– Да, но лишь в общих чертах.
– Я благодарен судьбе за то, что великий англичанин сэр Сомерсет Моэм дарил меня своей дружбой… Нет, нет, он тогда уже не сотрудничал с вами… Он член моего клуба, мы встречались только там, и однажды он пригласил меня провести два благословенных дня в его замке на Ривьере. Помните его великий роман «Скелет в шкафу»? О писателе, его очаровательной ветреной жене, о том, как он чувствовал правду, не зная ее, и лишь поэтому писал такую правду, которая потрясает.
– Это когда жена литератора – после смерти их девочки – не может быть дома и уходит в гульбу, отдается какому-то актеру, а потом возвращается домой, а он той же ночью уже написал все то, что с нею произошло?
– Именно это я и имел в виду, сэр… Прежде чем ответить мистеру Фолу – в таком смысле, в каком я ему ответил, – мне пришлось провести довольно кропотливое исследование… Я проанализировал досье, нашел кое-что о князе Ростопчине, он был в маки, в тех группах, которые сотрудничали с нашими людьми, отзывы о нем самые лестные: мужествен, высокодостоин, неподкупен; никакой тяги к коммунизму, да и откуда ей взяться…
– Простите, полковник, но русский граф Игнатьев, военный атташе императора в Париже, кончил свою жизнь генерал-лейтенантом Красной армии…
– Полковник разведки Генерального штаба царской армии Борис Шапошников кончил свою жизнь в ранге маршала Красной армии, сэр, ближайший сотрудник Сталина. Смыкание русской идеи с коммунизмом – далеко не изученная тема; мы не вправе руководствоваться в нашей государственной деятельности эмоциями непризнанных русских гениев, которые они столь ядовито излагают в своих безответственных радиокомментариях, вещающих на Россию из Мюнхена.
– Это довод. Простите, что перебил вас…
– Я противник монологов, – улыбнулся Бринингз, глаза из льдистых сделались голубыми, морщины на лбу разошлись, и желтоватая, нездоровая бледность сменилась чуть заметным румянцем на скулах. – Диалог предполагает два голоса, он демократичен, и я, как старый консерватор, более всего ценю демократию, сэр.
– Браво! Я весь внимание… Еще чаю?
– Да, благодарю. Он восхитителен. Итак, князь… Я внимательно посмотрел все то, что мы смогли собрать на него. Он состоялся без помощи каких бы то ни было сил извне. Причем, любопытно, он не занимался спекуляцией, не имел покровителей со средствами, не получал наследства. Это меня насторожило. Я опросил наших ветеранов – тех, кто еще жив… Кого мы парашютировали на связь к маки… Князь – его кличка у партизан была Эйнштейн – отличался любопытным качеством… При том, что он был балагур, много болтал и поэтому на тупоголовых производил впечатление ветреного молодого человека, князь отличался врожденным качеством холодного, скрупулезного аналитика… Перед началом операции командование маки запирало его в блиндаж, и он просчитывал все возможные варианты успеха и провала, замечая самые, казалось бы, незначительные мелочи… Кстати, поначалу кличку свою не любил, потому что до войны, как и вся эмиграция первой волны, евреев не жаловал, считая их повинными в революции. Только после того как воочию увидел, что делают наци с евреями, с русскими пленными, с французами партизанами, он сам стал называть себя Эйнштейном. Если бы все немцы при Гитлере имели возможность посетить концлагеря, думаю, они бы свергли бешеного сами…
– Если мы стоим на позиции диалога, то я позволю себе не согласиться с вами.
– Несогласие собеседника лишь подстегивает к тому, чтобы быть еще более доказательным в посылах, – улыбнулся Бринингз. – Словом, князь Ростопчин нажил состояние лишь потому, что имеет поразительно аналитический ум… Никакой поддержки извне, тем более с площади Дзержинского… После войны он поставил на почтовые марки… Да, да, у него было множество друзей-художников, все они помогали маки; он создал концерн голодных живописцев и предложил издателям серию марок, посвященную истории Второй мировой войны. В дело вошли люди лорда Бивербрука, этим объясняется то, что марки разошлись ураганным тиражом, – кстати, и по Соединенным Штатам. После этого князь купил землю в Австрии; тогда, после войны, это было нетрудно, доллар открывал все двери; причем, верно просчитав тенденцию, он купил те земли, где стояли разрушенные во время войны отели для горнолыжников; все коммуникации были в сохранности; затем он задешево приобрел значительный пай в фирме канатных дорог во французских Альпах, которая ранее принадлежала коллаборационисту… А потом все покатилось: он продал половину земель в Австрии американцам, на полученные деньги отремонтировал два отеля, прибыль обратил на то, что вошел в туристический бизнес Кении; на этом сейчас и стоит…
– А когда и с чего началась его деятельность по возвращению русским их культурных сокровищ?
– Первые симптомы интереса начались после того, как Москва запустила спутник. Да-да, именно так, спустя двенадцать лет после окончания страшной войны, та страна, где он родился, первой вышла в космос. Я могу понять его гордость, сэр. Пятьдесят седьмой год, сорок лет после большевистского переворота, до которого мы, Германия и Франция по праву считались суперсилами Европы, а Россия была на задворках, царство тьмы и лени… А в пятьдесят седьмом вышла на первое место на Евроазиатском континенте. Увы, это истина, которую многие не хотят брать в расчет… Жаль… Теперь по поводу мистера Степанова. Я попросил подобрать на него все, что можно. И выяснилось: его читают в России, довольно широко читают, и хотя он, к сожалению, пишет по кремлевским рецептам, слово этого человека значимо в их стране… Когда наши младшие братья за океаном называют мистера Степанова агентом КГБ, я спрашиваю себя: неужели разведка такая легкая работа, что ею можно заниматься вполсилы, оставляя главный заряд энергии на литературу? Я с большим уважением отношусь к профессии, сэр. Наш с вами друг военной поры Ян Флеминг начал писать веселого Джеймса Бонда после того, как ушел в отставку из «Интеллидженс сервис»; то же – Грэм Грин. А Ле Карре? Великий Моэм говорил, что литература – самопожирающа, она требует на свой алтарь всего человека, без остатка. И вот, представьте, мы начинаем помогать нашим младшим братьям в комбинации против этого русского, к которому двести пятьдесят миллионов его сограждан относятся с истинным респектом… Кому это принесет пользу? Нам? Не уверен. Наоборот. Мы дадим повод, искомый повод, русским начать ту пропагандистскую кампанию, в которой они так ныне заинтересованы… В начале нашей беседы я не зря вспомнил сэра Сомерсета Моэма и его роман «Скелет в шкафу», где поразительно подан провидческий дар литератора. Если русские – в отличие от наших младших братьев – считают Степанова писателем, а у них все же были кое-какие писатели, во вкусе им не откажешь, то мистер Степанов может написать такое, что будет совершенно невыгодно тому делу свободы, которому все мы служим. Конечно, мы поставим наблюдение за мистером Степановым, поскольку русские воистину мистическая нация; более того, я вполне допускаю, что визит мистера Степанова может быть двузначным, и если мы получим факты, тогда ударим! Мы тогда ударим крепко… Если же он действительно намерен заниматься здесь своими картинами – пусть, мы не должны ему мешать, наоборот, он обязан убедиться в нашей непредвзятости: терпимость ко всем идеологиям, право каждого делать то, что он хочет…
– Не преступая при этом грань закона, – улыбнулся сэр Бромсли. – Ну, хорошо, я снова обязан согласиться с вами, и мне, поверьте, это доставляет радость. Что вы можете сказать по поводу немца из Бремена?
– С ним достаточно хватко поработала бременская резидентура младших братьев. Видимо, они готовят его к скандалу, да и не только его одного, мне кажется. Они замышляют свою операцию как некую мелодраму, сплошные сцены, заламывание рук, сведение денежных счетов… Посмотрим. Я не очень-то убежден, что у них получится так, как они задумали… Итак, господин доктор Золле… Занятно, немцы умудряются умещать в одном значении два титула: «господин профессор доктор Золле». Этот человек ясен мне совершенно. Когда ответ на вопрос ищет математик и находит его, он на определенное время успокаивается, наступает расслабление: Эйнштейн музицировал, Жолио-Кюри ловил рыбу, а интересовавший нас русский академик Тамм занимался альпинизмом. Лишь после хорошего отдыха ученый начинает новую работу. В то время как коллекционер ежечасно сталкивается с таким количеством загадок, что мозг его в постоянном звенящем напряжении, одному ему никак не справиться: либо он должен иметь аппарат помощников, развернуть свое дело в предприятие, либо он кончит трагедией, захлебнется в документах, сойдет с ума. Это подобно алхимии – еще один опыт, и золото наконец будет получено. Господин профессор доктор Золле – человек безупречной репутации… Но он глубоко несчастен. Из такого конгломерата разностей – аристократ, красный литератор и одержимый исследователь – не построишь сеть, это фантазии молодых людей из-за океана, сэр.
– Я вполне удовлетворен вашим объяснением, полковник, благодарю вас. Что же, по-вашему, мы ответим нашим юным братьям?
– Мы ответим, что нам доставило большое удовольствие ознакомиться с их материалами. Однако мы не считаем их до конца аргументированными. Если бы они внесли предложение по поводу того, как нашим людям можно войти в дело князя, каким образом подвести агентуру к Золле, чтобы его информация – прежде чем уйти к красным – прошла нашу обработку, если бы они сформулировали возможность нейтрализации мистера Степанова, то есть тщательно продумали, как можно содействовать тому, чтобы его активность в Москве стала менее весомой, как поссорить его с властями, – чем меньше читаемых писателей вместе с Советами, тем нам выгоднее, – тогда мы готовы принять участие в этой комбинации.
– Я был бы весьма признателен вам, полковник, если бы вы нашли время составить телеграмму именно в том смысле, какой только что был столь блистательно вами сформулирован… А я прошу службу дать визу мистеру Степанову, поскольку, как я понял, вы готовы взять на себя ответственность за это дело. Еще чаю?
8
Ростопчин попросил шофера выгнать из подземного гаража спортивный «мерседес»; двигатель – восьмерка; хоть полиция ограничивает скорости до ста тридцати километров – даже на трассах, – придется жать и двести, возможен штраф, обидно, конечно; убыток, зато сэкономлено время: до Лозанны необходимо добраться за четыре часа; там Лифарь; разговор будет трудным; надо успеть вернуться обратно этой же ночью, завтра встреча, которую нельзя отменить, а там и Лондон…
Он сел за руль звероподобного красавца, выехал на пустую трассу, нажал; включил радио, нашел итальянцев, время серенад, пусть себе, только б не последние известия, нет сил слушать, пугают друг друга, как мальчишки. Только те играли в «казаков-разбойников», а сейчас предстоит сыграть в «ракеты-убежища», победителей нет, шарик в куски, разлетимся, как пыль; жаль.
К счастью, полиции не было; промахнул четыреста километров за три часа; после Лозанны, правда, скорость пришлось сбросить, – узенькая дорога ввинчивалась в горы; подъем в Гийон; самый престижный отель, Лифарь есть Лифарь, вся жизнь в отелях, никогда не имел дома; но разве дашь ему восемьдесят два? Поджар, быстр, скептичен:
– Ну, полноте, князь, вам все прекрасно известно; да, видимо, стану продавать пушкинские письма, судьба… Как достались они мне шально, так и уйдут…
– А как они вам достались? Газеты писали, что их приобрел Дягилев…
Лифарь рассмеялся хорошо поставленным актерским смехом и заговорил (в чем-то неуловимо похоже на Федора Федоровича, те же акценты, раскатистое «р», мхатовская школа), увлекаясь своим же рассказом:
– Меня Дягилев тогда с собою взял, в Лондон… К великому князю… Его дочка породнилась с британским двором, жила в замке, отца поселила на мансарде, раньше там слуги жили… Поселила там неспроста: пил старик, людей стыдно… Вот он-то нас к себе и зазвал, палец к губам приложил, шепнув: «На красинькое не хватает. Уступлю реликвию, письма Пушкина, а вы мне деньги тайком от дочки передайте, спаси бог, узнает – отымет!» Шутник был. В молодые годы, когда Кшесинская танцевала, дробь на сцену кидал – ревновал к государю, что правда, то правда… Назавтра мы получили пушкинские письма, положили реликвии в банк, понеслись в Монте-Карло – там была наша балетная труппа, а наутро после радости Дягилев умер. Министр просвещения Франции предложил мне выкупить письма, дал рабский контракт, чтоб денег заработать; я танцевал, как приговоренный. А там – война. В день, когда Париж был объявлен открытым городом, меня вызвали американский посол Буллит и его испанский коллега, попросили срочно поехать в Виль-де-Пари, в префектуру; там заседает человек двенадцать, все в полнейшей прострации, а по городу уже конные немцы ездят, молоко раздают детишкам, там все было не так, как в России. Принимают меня: «У нас к вам большое уважение, поэтому мы и обращаемся к вам». – «К вашим услугам». – «Если сегодня Опера не будет возглавлена кем-либо из наших, немцы ее конфискуют. Дирекция бежала, в городе никого нет. Мы желаем, чтобы вы ее заняли… Даем вам карт-бланш на все ваши аксьон. Деньги, фонды – все в ваших руках». Что ж, я принял эту миссию, гран онёр[7]7
Гран онёр (фр.) – большая честь.
[Закрыть]… Никто тогда не знал, на сколько дней или недель взят Париж; я должен был решиться. Иду в девятый арондисман[8]8
Арондисман (фр.) – район.
[Закрыть], где помещалась Опера, мне вручают банковские счета и ключи, отправляюсь к себе, в директорский кабинет, и сразу же делаюсь вахтером, танцовщиком, пожарным, машинистом сцены… Я правил Опера четыре года… И если де Голль вернул французам родину, то я создал им балет! Шварц, Анье, Гебюсси – это все мои ученицы, чьи же еще?! На второй день стали приходить машинисты сцены, пожарники, оркестранты. «Можно аванс?» – «Конечно. Сколько?» – «Да хорошо б тысячи три». – «Десять хочешь?» – «Хочу!» – «Бери!» – «А что делать?» – «Ничего! Приходить на службу и делать вид, что работаешь!» А уж и на Эйфелевой башне свастика, и на Кэ д’Орсе; все, что плохо лежало, немец немедленно прикарманивал… И вдруг в Опера раздается телефонный звонок… Это было так странно – телефонный звонок в Опера, в моем кабинете. Звонил первый комендант Парижа фон Гроте из отеля «Ритц», где был штаб оккупантов. Вызывают туда… «Вызывают» – это если полицейские приезжают на открытой машине, если в закрытой – значит, арестовывают. Смешно, в «Ритце» раньше самые богатые буржуа Америки останавливались… Вхожу в апартаман, поднимается генерал с моноклем и говорит на чистейшем русском: «Сергей Михайлович, как мы рады вас здесь встретить!» Каков подлец, а?!
Ростопчин знал, что этих стариков нельзя торопить, пусть выскажет то, что на сердце; свидетельства очевидцев помогут потом отделить правду от лжи; к главному надо подходить постепенно, в самом конце, после того, как размякнет…
«Когда я стану таким же? – подумал он. – Лет через пять. Мне тоже есть что вспомнить о первых днях немецкой оккупации Парижа, только я был в подполье, а он – в Опера».
– Я опешил, – продолжал между тем Лифарь. – Такой прекрасный язык, такой петербуржский, то есть ленинградский… «Вы – русский?!» – «Нет, немец, но служил в лейб-гвардии Его Императорского Величества! Я знаю все ваши балеты, обожаю французскую культуру, купил виллу под Парижем!» Ушам не верю! «Мы пришлем вам в театр из рейха молодого ляйтера, он возьмет на себя бремя хозяйственных забот, чтобы вы целиком отдались искусству!» – «Так, значит, все-таки берете театр? Кто же будет править – вы или я?» – «Нет-нет, вы! Не хотите ляйтера – не дадим. Обращайтесь ко мне по всем вопросам, к вашим услугам!» Я поклонился – и к двери, а он меня останавливает: «Сергей Михайлович. У вас будет секретная миссия, и вы должны ее принять!» – «В чем же она заключается?» – «Вы сегодня должны остаться ночевать в Опера». – «Почему?» – «Потому что сегодня в Компьене подписывают мир. А после этого Хитлер пожелал быть в Опера». И – при слове «Хитлер» – вскидывает руку. «Отвечаете за все вы, вопрос жизни и смерти». Я бегом к моему министру эдюкасьон насьональ[9]9
Народного просвещения.
[Закрыть]; тот выслушал; «все на вашей ответственности, вы приняли полномочия, только, молю, никому ни слова!». Но я решил дезертировать – первый раз в жизни… Зашел в Опера, дал пожарнику на красненькое, «оставляю тебя на ночь», и со страху отправился в еврейский дом – нашел убежище, а?! Хочу обо всем этом написать в моих «Мемуар д’Икар»[10]10
Мемуары Икара.
[Закрыть]… С первым метро лечу в театр, а мой пожарник рассказывает рабочим сцены, как ночью в зал ворвались немцы, много немцев, а с ними был один с усиками, очень хорошо знал про Опера, рассказывал остальным, где и что. «Я решил, что это немецкий певец, – продолжает мой пожарник. – Когда он спросил, где президентская ложа, я ответил: «А черт ее знает, их столько у нас, этих самых президентов». Певец с усиками рассмеялся и похлопал меня по плечу, а я – его. Когда все уходили, певец велел дать мне денег за экскурсию, но я отказался, – «от бошей не берем». Рабочие стали его бранить, деньги не пахнут, а я спросил, как звали того певца. «А черт его знает. Рулер или Фулер». – «А он был в военной форме?» – «Да». – «С усиками?» – «С усиками. Как у Шарля Чаплина». – «Так это ты Гитлера по плечу хлопал!» Пожарник – бах и в обморок! Увезли в больницу, он там и умер от шока… Представляете?! Не от пули, но от одного имени Гитлера! Да… Я бегу в телефон, соединяюсь с префектурой: «Алло, знаете новость, в Опера был Гитлер!» Звоню всем друзьям и знакомым: «Гитлер в Париже!» Я ж таким образом хотел сообщить в Лондон, что он здесь, пусть действуют! А через три дня французское радио передает из Англии: «Серж Лифарь принял в Опера Гитлера! За это он приговаривается к смерти!» У меня волос дыбом! Но и немцы это радио слушали, и они были убеждены, что я принимал Гитлера, и поэтому не я им кланялся, а они мне. А скольких я спас грузинских пленных, когда ставил балет «Шота Руставели»?! О, сотни! Да… Однажды на репетицию приходит страшный, небритый кавказец и говорит: «Ну, здравствуй, товарищ!» Рядом сидит Кокто, настроение у всех приподнятое, союзники идут на Париж… Но ведь есть и коллаборанты, осведомители! Я подмигнул музыкантам, те как бабахнут на барабане! А этот грузин закричал: «Огонь! Пли!» Воцарилась мертвая тишина… И тогда этот грузин – его звали князь Нижерадзе – спросил так, что всем было слышно: «Ты кому делаешь балет? Гитлеру?» А я – не думая ни секунды: «Почему Гитлеру, а не Сталину?» Тогда он падает на колени, достает из своего грязного пальто револьвер, протягивает его мне и говорит: «Убей меня, ты – мой брат!» Да… А пришли союзники – и во всех газетах статьи: «Лифарь с немецкими миллиардами удрал в Аргентину!» Я к генералу Леклерку; тот: «Держись, мы тебя не дадим в обиду!» А в театре суд: «Лифарь – друг Гитлера, приятель Абеца, – к расстрелу! Он танцевал для немцев!» А судья: «Вы уверены, что он танцевал для немцев?» – «Конечно». – «Наверное, вы пользуетесь слухами… Сами-то что делали в то время?» – «Как что? Ставил Лифарю декорации! К расстрелу его!» – «Погодите, но получается, что вы тоже работали на Гитлера, если ставили Лифарю декорации?» Я вернулся в театр только через два года… А спустя тридцать девять лет Миттеран наградил меня «Почетным легионом»…
– Вы рассказали новеллу, – заметил Ростопчин. – Сценарий фильма.
– Мое умение рассказывать сюжетно первым отметил Шаляпин, – улыбнулся Лифарь. – На моей Пушкинской выставке он предложил: «Сережа, давай откроем с тобою драматическую студию, а?!» Но ведь он был великий артист и, как все великие, хотел, чтобы его постоянно славили… А это так трудно… Он ведь отчего заболел, знаете?
– Нет.
– Ну как же… Поехал в Китай, в Харбин… А там его русская эмиграция в штыки встретила: «Продает белую идею, с красными встречается, советский павильон на Всемирной выставке посетил!» Свист в зале, крики. Он это так переживал, что заболел раком крови… Я его на вокзале встречал: уехал – могучий, громадный, сильный, а вернулся, словно жердь. С трудом довез его до дома, – он ведь целый дом купил, – у него там и студия была, окнами во двор выходила, он мне здесь в былые-то времена по памяти «Моцарта и Сальери» читал… Как раз там я его и попросил бесплатно выступить для моей Пушкинской выставки. «Ишь чего хочешь! Бесплатно только птички поют! Ха-ха-ха!» – «Но у меня денег нет, чтоб вам уплатить!» – «Заработай!» – «Как?» – «Играй со мною Моцарта. А я – Сальери!» – «Но я же не драматический актер!» – «Научу! Эй!» Тут к нему мальчишка-слуга со всех ног. «А ну, графинчик нам!» Вот мы водочку-то клюк-клюк, пошло хорошо, он и начал читать «Моцарта и Сальери» на два голоса. А как кончил, я весь холодный, и волос дыбом торчит… Да… За два года до его смерти это было. А в тот день прихожу его навестить… Как обычно, семья чай пьет, дочки сытые такие, веселые, а возле его постели два доктора, Залевский и Васильев… А Федор Иванович рвет на себе сорочку и хрипит: «Эх, не звучит, не звучит, не зву-у-у-учит». Потянулся на подушках и замер. Залевский пощупал пульс, говорит, скончался… Я первым об этом в «Фигаро» напечатал, они единственные вышли. А хоронить? На что? Ведь еще тело не остыло, как начали делить имущество… А Борис с Федором, главные Шаляпины, в Америке… Вот и пошли мои денежки на похороны… Отправился к директору Опера, к министру, – надо ж устроить проезд катафалка по городу, следует организовать государственные похороны. «Нет, он не наш, он русский, мы только Саре Бернар делали такое». Подавленный и униженный, обращаюсь к префекту полиции месье Маршану… Почему меня к нему занесло? Наверное, оттого, что Шаляпин был жалован командорской степенью Почетного легиона… «Как, командору не дают права проехать в последний раз по Парижу?! Городом управляю я! Всех ко мне!» Ну, и поехали мы по бульвару Осман, а я уж хор нашего Афинского заказал… Процессия остановилась, и грянуло русское пение… Больше такого никогда не было… И памятник Феде я поставил… Двадцать лет спустя… Ничего я за это не хочу, счастлив, что смог сделать…
– Как было бы прекрасно, сохрани вы письма Пушкина для России… Это был бы еще один ваш подвиг, Сергей Михайлович…
Лифарь закрыл глаза:
– Я знал, что вы этим кончите… Я не стану их продавать на нонешнем аукционе, обещаю… Но и бесплатно Москве не верну… Федор Иванович учил: «Только птичка бесплатно поет», а я добавлю: «И комарик – танцует».
…На берегу темного Женевского озера – после трудного трехчасового разговора с Лифарем – Ростопчин остановил машину, спустился к берегу и долго сидел без сил, не мог ехать дальше, прижало сердце…
Степанов посмотрел на часы; боже ты мой, опаздываю к Савину Александру Ивановичу; Розэн ждет на улице; вот он, симптом подкрадывания возраста, – неумение контролировать время, раньше оно тикало во мне, я мог не смотреть на стрелки, угадывал с точностью до пяти минут, даже если просыпался ночью; бросился к телефону; пролистал книжку; номера «Космоса», где остановился Розэн, не было; похолодел оттого, что надо вертеть «09»; девицы с норовом, кидают трубку не выслушав, да здравствует демократия и права рабочего человека, – можно подумать, что я рантье, да и все те, кто к ним звонит за справкой, стригут купоны со своих банковских счетов, а не занимаются таким же, как они, общегосударственным делом… Дозвонившись наконец до администратора отеля, он представился; по счастливой случайности администратор читал его книги; пошел на улицу, к выходу, искать маленького человечка в дымчатых очках, туфли крокодиловой кожи, стоит где-нибудь возле колонны, он всегда норовит спрятаться, этот малышок, такая уж у него странная натура, вы ему скажите, что я опаздываю, пусть ждет.
…Да, конечно, да здравствует сервис на Западе! И красивая архитектура деревушек, и эстетический вкус законодателей мод текстильной промышленности, которая ежегодно – без понуканий центральной печати, а сама, лапушка, полностью меняет ассортимент тканей, кофточек, колготок, и обилие бензоколонок, где не надо простаивать по часу в очереди, чтобы получить свои десять литров, – это все прекрасно, но где кроме как у нас можно ощутить столь заботливое отношение человека, самых разных людей, когда тебе нужна помощь?! И кроме того, отношение к тому, кто сделал взнос обществу – то есть достиг чего-то в области музыки, литературы, хирургии, театра, космонавтики, кино, живописи, – у нас куда как более уважительное, чем где бы то ни было.
Савин принял их в громадном кабинете, отделанном деревянными панелями, пригласил двух заместителей; выслушал Степанова, который объяснил, что визит его обусловлен двумя исходными позициями: во-первых, мистер Розэн занимается продажей наших станков на Западе, и хорошо этим занимается, бизнес его растет, вполне престижен, и, во-вторых, поскольку мистер Розэн хочет войти в дело по возвращению русских ценностей, он, Степанов, не мог не привести его к своему другу, союзному министру; у бизнесмена есть кое-какие вопросы; целесообразно решить сразу же, на самом высоком уровне…
Розэн побледнел еще больше, уровень был для него неожиданным; сцепил свои маленькие пальчики на груди, грустно улыбнулся:
– Спасибо…
– Спасибо потом будете говорить, – заметил Савин. Войну он кончил лейтенантом, за три дня до Победы получил приказ захватить вокзал; отступали эсэсовцы, шли напролом, на запад; ему тогда было двадцать, очень хотелось жить, всем было ясно: не сегодня-завтра наступит мир; из сорока человек, которые держали оборону, осталось в живых семь; он потом год валялся по госпиталям; Звезда Героя нашла его в Крыму, в Мисхоре; закончил университет, поступил в заочную аспирантуру и уехал в Воркуту, мастером; за семь лет вырос до главного инженера комбината; повздорил с начальством; схарчили; защитил докторскую; назначили начальником строительства нового завода; сдал в срок; перевели в Москву, заместителем министра; три года работал в Госплане; оттуда – в этот кабинет.
– Да, но визит к вам – инициатива мистера Степанова, – осторожно заметил Розэн. – Я благодарен объединению, у меня прекрасные отношения со всеми работниками ваших фирм; компетентные, доброжелательные специалисты…
– Значит, ко мне и моим коллегам у вас просьб или пожеланий нет? – уточнил Савин. – Что ж тогда Дмитрий Юрьевич панику наводил?
– Конечно, какие-то проблемы есть, – испуганно посмотрев на Степанова, сказал Розэн, терзая свои маленькие руки, – но они так незначительны, что я даже не знаю, можно ли вас ими тревожить…
– Если пришли – тревожьте, – сказал Савин, глянув на Степанова с неким подобием улыбки.
– Да, но это никак не должно бросить тень на работников вашего объединения, господин министр, речь идет всего лишь о сроках платежей.
– Вы хотите иметь резерв во времени, чтобы получать определенные процентные отчисления со всей суммы?
– Нет, нет! Процентные отчисления меня не волнуют! Только резерв во времени!
– Странно, – сказал Савин, обернувшись к Степанову. – Первый бизнесмен, которого не интересует прибыль, даже нас вопросы прибыли стали наконец заботить…
Степанов повернулся к Розэну:
– Иосиф Львович, я предпочитаю, – да и Александр Иванович с коллегами тоже, – чтобы карты были открыты. Конечно, вас интересует прибыль, хотя и резерв времени вам нужен, необходим прямо-таки. Так что называйте кошку кошкой…
– Да, но господин министр может подумать, что я жалуюсь! А те господа, с которыми я имею дело, вправе на меня обидеться. – Розэн был явно испуган происходящим; уровень не тот, понял Степанов; как всегда, я принимаю желаемое за действительное, малышка привык работать ползуче, эдакий вкрадчивый коробейник, он, наверное, не понимает, почему литератор дружит с министром, это не по правилам, у них такого нет, все живут по своим сотам, как пчелы.
– Александр Иванович не подумает, что вы жалуетесь, – сказал Степанов, не скрывая раздражения. – Сформулируйте свои пожелания. Все вопросы можно обговорить прямо сейчас, детали решите в объединении…
– Да, но я просто хотел сказать, что мне очень приятно… – Розэн совсем смешался. – Такое внимание… Если бы еще можно было как-то помочь со сроками платежей… Станки идут очень хорошо, их поставляют по графику, но когда я получу резерв во времени и – в результате этого – лишний процент, можно будет построить хорошие складские помещения, появится маневренность в торговых операциях.
Савин сразу же спросил:
– Вы купите землю под склады? Или намерены арендовать?
– Конечно, купим, – ответил Розэн, – на аренде пущу по миру моих детей, никаких гарантий.
– Разумно. – Савин обернулся к одному из своих заместителей, попросил: – Евгений Васильевич, свяжитесь с нашими банкирами, надо, чтобы они проработали этот вопрос с господином Розэном… Как ваш советский содиректор? – поинтересовался Савин. – Понимает толк в работе? Или краснобай?
– Замечательный работник, – ответил Розэн. – Им можно гордиться, такой он компетентный…
– Еще что? – спросил Савин. – У вас только один вопрос? Больше ничего?
– Ну, я, конечно, хотел бы, если вы не возражаете, затронуть вопрос о цене на станки…
Савин рассмеялся:
– С этого бы и начинали, мил человек… Я все ждал, когда вы к главному подойдете, боялся, не успеете, у меня через десять минут совещание… Если гарантируете хорошие рынки, цену мы поднимать не станем, хотя вы наверняка знаете, что японцы и французы пересмотрели ставки на аналогичные машины. Зависит от вас: дадите хорошую конъюнктуру – поддержим, могу обещать. Что будет через год, отвечать не берусь.









































