Текст книги "Борис Зайцев"
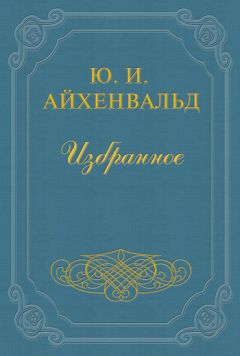
Автор книги: Юлий Айхенвальд
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
* * *
Необычайно любовное, ликующее и тесное – теснее нельзя – приближение к природе и человеку – простому, маленькому, незаметному человеку, которого хочется благословлять уже за то, что он живет и дышит: вот что у Зайцева. В наши хмурые дни он поет и пьет солнце, и на сеть лучей похожи его рассказы. Юной радостью бытия, тихим восторгом счастья наполняет он, переполняет чашу своего дарования. Опьяненный солнцем, он вливает его в наши утомленные души. Как не полюбить вместе с автором полковника Розова, который, впрочем, даже не полковник, а только капитан в отставке и который только и делает, что копается в грядках, охотится, пускает змея с мальчишками? В огромном мире какое крошечное место занимает добрый старичок, но Зайцев его заметил и так обласкал. Это – потому, что для него нет малого, и какие-то связи, золотые солнечные паутины ткет он и проводит между частью и целым, между полковником Розычем и космосом. Вот Ока легла «вольным зеркальным телом, как величавая молодка. И от нее ветер уже не тот – древний, спокойный, великий ветер» – так сказал Зайцев, и сразу раздвинулись от Оки перспективы в мир, в пространство, в вечность. Вот сидит толстый сыровар, и хохочешь над его лысиной, и «вдруг поднимаешь глаза выше, не так особенно, а выше, и увидишь его звезду». «Даже странно подумать: от нас, от убогой избенки полковника, этих бедненьких редисок… вверх идет бездонное», – звезды продолжают землю с ее Розычами и редисками. От нас идет бездонное: это глубоко чувствует Зайцев, и оттого он молится космосу, молится солнцу. Вот оно взошло: «точно шелковые одежды веют в ушах, и кажется, побежишь сейчас прямо, навстречу, и всего беспредельно пронзят эти ласкающие лучи, волосы заструятся по ветру, назад, будто от светлого плывучего тока. О, взять арфы и стать на колена и долго, в исступлении петь на восток», – откуда восходит солнце, то солнце, которое стелет под ноги людям свои «голубовато-золотистые ковры». В наше старое и усталое время Зайцев смеет, умеет восторженно идти навстречу вечно молодому солнцу с игрою всех его многообразных освещений.
Нежной и целомудренной мелодией звенит у Бориса Зайцева его «Сестра» – веет «ласковый ветерок любви и дружбы», грустит обиженное сердце оттого, что уходит жизнь; но сильнее грусти и смерти любовь, и, когда молодая мать склоняется над своею девочкой, такое чувство наполняет, переполняет ее кроткую и простившую душу, что этого нельзя сказать словами, – нужно молчание и молитва. Оттого, когда эта женщина, эта Маша, сразу всем ставшая сестрою, свешивает свою белую руку, брат целует ее в ладонь, – «благоговейно, будто прикладывается к золотой ризе». Она, Маша, «очень устала в жизни», и самая жизнь куда-то уплыла, все передвинулось, и все неуклонно движется к смерти, которая, верно, в такую непробудную ночь «тихо разгуливает по всем нашим службам и старым „личардам“, и около тети Агнии она гуляет и все тянется дать ей свою чашу: темную чашу гибели».
Вообще, трудно передавать содержание зайцевских рассказов, – да его и нет, этого обыденного «содержания», а есть человеческая музыка, и хочется только читать и выписывать все эти ласкающие слова. «Вот ты мне и скажи: так, родились мы с тобой, жили сестрой и брагом, и любили друг друга, и люди мы ничего себе, а, однако, главным образом, страдаем… и умрем, над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе, зря или не зря?»… Беспомощные, робкие дети мира, они прижимаются друг к другу, и брат хотел бы ответить сестре, – но какой брат знает наверное ответ на эти вопросы, кто может обещать и сказать что-нибудь – утешающее или безутешное? И они сидят в недоумении и тоске, но потом чувствуют себя правыми перед жизнью и смертью, потому что они любили: «это ничего, что нам плохо, право, это ничего». «Ну, пусть, пусть мы умрем все, но мы так любили, так любили». И в душе, в усталой, но любовной душе зарождается человеческий псалом: «Да будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль, неугасимым пламенем и с спокойной печалью умереть; отойти в вечную обитель ясности. Это непреложно, и это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь, не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце».
«Аграфена», глубокая повесть Зайцева, – своего рода «Жизнь человека», жизнь женщины, испытавшей «многие скорби», обычные женские скорби: в любви, замужестве, материнстве. От ее юности, когда на «дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле ранней весной», и до старости, до смертного часа следит за нею автор и рассказывает о ней в свойственном ему стиле углубления и лирической возвышенности. Он так передает эпопею своей простой героини, что каждая обыденная страница ее существования принимает мистическое озарение, и невольно возникает у читателя мысль, что вся жизнь есть нечто священное, что мы не столько живем, сколько богослужение совершаем. И крупное, и деталь Зайцев неуклонно вплетает в универсальное целое, и при таком мировоззрении из мира исчезает мелкое: все важно, все значительно, все свято. Когда Аграфена встретилась с кучером Петькой, она из огненной чаши пила, долго, жадно. И на сеновале, когда приходил он к ней, были «пламень объятий, любовная борьба, торжественное, буйное богослуженье: на алтаре жизни». Это впечатление космичности еще усиливается тем, что автор биографию или, лучше, житие Аграфены соединяет с событиями природы; не безразлично для нашей судьбы, краснеет ли май, юный отрок года, «пролетая в огненных зарях, росах», подошли ли Святки, «бело-тихие, точно приплыли по безбрежным снегам», день ли сияет, или «великие панихиды ночи простираются завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком», или заходящее солнце «прощально золотит дубовый венок – лавры смерти».
Хотя вся повесть написана в таком повышенном тоне молитвословия («Он пришел, пришел черный Аграфенин день… пусть будет рассказано об этом»), – но чарами своего таланта, одновременно и сильного, и нежного, Зайцев сумел спасти свой рассказ от однообразия и утомительности. Такая чистота проникает его страницы, такой лиризм обвевает его, что нельзя противиться идущему отсюда светлому настроению пантеистической примиренности и религиозной тишины. Звучит у Зайцева акафист человеческой душе, например этой тете Люце, которая возносит к небу свои «многоопытные молитвы» – многоопытные от частого общения с Богом, от частой потребности возносить Ему свои молитвы и скорби.
Не все эпитеты у автора сразу естественны, сразу понятны (морщины – «как мудрые овраги»), но он умеет называть вещи; они все для него живы, как эта луна, «предводительница звездных караванов», и своим сердцем приникает он к их сердцам. «О ты, родина! О, широкие твои сени – придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утомительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными и поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать».
Как жизнь Аграфены, так и смерть ее была внутренне благолепна и священна. «Монахиня подала ей руку, она взяла ее, медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: „Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни“».
Таковы эти звуки торжественные, не строки, а больше оратория: свою Атрафену, как и дочь ее, утопившуюся девушку Анну, которая, «как всегдашняя Офелия, сидит у пруда», Зайцев точно не пером написал, а сыграл на органе, в храме готическом.
Ибо каждый человек достоин этого; не только святые, но и все имеют право на нимб; каждый человек – мистерия, и все мы, бедные Никандры и Аграфены, должны помнить это и в этом черпать утешение во многих скорбях своих.
* * *
На коротком протяжении, в форме какого-то лирического протокола, с удивительной сжатостью, в глубоком тоне мудрости дает Зайцев в «Елисейских полях» нечто поистине чарующее. Рассказанная им человеческая биография неотразимо действует на всякого, потому что, в иных комбинациях, с другими признаками, она может быть отнесена ко всякому. В ней сквозь местные подробности светит вечное содержание. В ней сказывается присущее автору чувство Москвы, но далеко за Москву уносятся мысль и чувство читателя. Эти переезды героя с квартиры на квартиру, с Тверской на Кисловку и с Кисловки на Арбат, эти обиды и поздний лавровый венок, положенный в гробу, эта обманувшая любовь на печальном закате и даже то, что он, обманутый, поседевший, не был талантлив, а был посредствен, – все это растрогивает и глубоко проникает в душу. Трудно даже объяснить, что в художественной эпитафии «Елисейских полей» так волнует и потрясает, но зато и трудно не отдаться ее необыкновенным чарам. Меняют жилища, переезжают с Молчановки на Собачью площадку, пишут книги, ищут славы, любви, находят горечь, равнодушие, и, наконец, с какого-нибудь Сивцева Вражка уж навсегда, как в последнюю обитель, переходят в Елисейские поля: такими чертами набрасывает писатель жизнь человека, и свой эскиз, нет, свою законченную поэму, человеческую мистерию он завершает изумительным аккордом: «Вероятно, царство теней, к которому всю жизнь летел он, было теперь для него раскрыто. И он оставлял нас – всех, кто, быть может, знал его и любил, – лететь, как и он, сквозь тусклые дни, к этой туманной и зыбкой стране». От этих обобщающих слов является чувство родственности с тем, о ком поведал Зайцев, чувство единой людской участи, и в тусклые дни, в наши бедные происшествия входит что-то важное, торжественное, единственно серьезное. Покрывая все шумы жизни, звучит орган. И вообще каким-то органистом во храме нашей словесности является Борис Зайцев.
* * *
В дымке ненавязчивой меланхолии движутся тени и силуэты Зайцева. Дыхание «земной печали», светлой печали испаряется от его страниц, и как бы ложится на них голубой свет месяца – «небесного меланхолика: бледный, тонкий, он напоминал агнца». И на этом фоне – Россия, Москва, ему любезная, столько раз им тепло и ласково воспетая, Москва в «тихом мрении куполов золотых», улица святого Николая – Арбат, русская деревня, «благоухание, данное Господом Богом мужицким полям», лес с брусникой и черникой, лес, навевающий воспоминания об Ивиковых журавлях: «Милый, бедный Ивик! Он шел по такой же тропинке, среди леса, он был чист сердцем и невинен». Ранняя весна, когда по бледно-зеленому мартовскому небу, в часы заката, ложатся «пряди розоватых облаков, всегда говорящих о неизъяснимо прекрасном»; тянет с поезда, из вагона, где собралась «простенькая, ситцевая Россия», – в лес; если бы пойти в него, «он был бы полон весеннего шума вод; малые ручьи шуршали бы мягко, а вдали, как чудесный аккомпанемент басов, гудели бы голоса великих вод». И все это весеннее, но вечернее образует «меланхолически уходящий пир природы».
В тонах этой меланхолии, еще более просветленной юмором и тою важной, серьезной и спокойной интонацией, с которой Зайцев, и нарочно и естественно, говорит о малом и смешном, он без тяжелой тщательности вырисовывает свои фигуры – легко, сквозисто, не нажимая пера: поистине тонкие намеки делает он в своем светлом творчестве. Читатель их понимает, принимает; ясно, например, что значит выражение: «детские воспоминания, образы, делающие человека влажнее и добрей». Психологически-музыкальный, осторожный в своих словесных прикосновениях, Борис Зайцев скорее недоговорит, чем скажет лишнее. Впрочем, есть у него и исключения из этого прекрасного правила: так, в конце рассказа «Маша» молодой женщине Лизе, чья не удалась жизнь, любовь и замужество, не следовало бы в повествовании об этой неудаче идти дальше желанно-неопределенных, читательской догадке простор оставляющих слов: «нам с Александром Иванычем не удалось… не вышла наша жизнь». И в этом же рассказе (как и в «Петербургской даме») есть у автора другого рода длиннота, так сказать, длительная длиннота: там две героини, и Маша нисколько не центральнее Лизы; в фокусе – одинаково обе, и удвоена, и повторена одна и та же, по существу, элегия женской судьбы, по двум параллельным колеям поведен один и тот же, по существу, жизненный кортеж; а петербургская дама в восприятии читателя сливается с петербургской барышней, Маргарита – с Лизой, и один образ повторяет другой, – во всяком случае, в Лизе предваряется Маргарита. Может быть, в этом сказалась общая замедленность писательской поступи у Зайцева, ровное настроение его духа как беллетриста, совсем не порывистый темп его души. Хотя он, как мы только что видели, вовсе не многословен, он в то же время не спешит и часто останавливается. Показательна в этом отношении одна внешняя деталь у него: знак остановки, знак препинания, запятую он ставит там, где грамматика на это его не уполномочивает. Зачем, например, отдыхать писателю и читателю, зачем медлить обоим перед столь маленьким и нетрудным мостиком, как «и», в сочетаниях: «было солнечно, и тепло», «прекрасная жизнь, и любовь», «милый, и грустный звук», «пахло духами из комода, и липовым цветом», «она все приняла, и поняла», «славный, и кроткий русский вечер»? На таких коротких расстояниях запятые как будто неуместны; но всякий почувствует, однако, что ими осуществляемые паузы – не пустоты, которых боится природа и искусство, а наполнены они каким-то душевным содержанием, имеют свой психологический смысл.
Медлительность писательских реакций и нестрастность акварельной души, разумеется, нисколько не обрекают автора на равнодушие. Он внимателен и ласков к своим героям – хотя бы к этому представителю любимой зайцевской московской богемы, художнику Шалдееву с золотисто-козлиной бородой: получив три рубля взаймы, он с этой «трехрублевкой у сердца, с душой, полной туманных бредов, зашагал по Бронным. Земля казалась ему недостаточно почтительной, и слишком грубой для поступи его, преемника великого Веласкеза». Борис Зайцев умеет и презирать, легкими касаниями своими губить (это испытал на себе его пошлый студент Фомин из «Кассандры»), – но больше всего знает он чуткую, хоть и не громко выражаемую приветливость к людям и понимает их тонкие, иногда застенчивые боли. Он видит, как в темноте холодными тяжелыми слезами плачет г-жа Переверзева, «смуглая сорокалетняя дева», честная, целомудренная, суровая, «безусловная», но при всех этих «честных качествах и достоинствах» жизнью забытая и пренебреженная. А студент Матушин, такой добродушный и простой! Он и умер просто, заразившись тифом на голоде в деревне. Перед смертью написал он два письма и, кончив второе, вдруг заплакал. Затем сдержанно проговорил: «Вот и смерть пришла. Двадцать шесть лет. Стало быть, Москвы не увижу». А потом в полубреду, сводя последние счеты с жизнью, стал записывать на бумажке свои долги, свои студенческие долги: «Богемия… за биллиард шесть, Ефимову три, в пивной Алексею десять»… Необидную жалость к человеческому сердцу, к историям его любви, надежд и разочарований соединяет Зайцев с даром философских раздумий, и для него характерно, что, относясь ко всякому из своих героев очень серьезно, он от мелочей их конкретной жизни, от любого пункта ее, невольно и неискусственно переходит к обобщению, к синтезирующей мысли, так что бедные подробности существования сразу загораются важным и глубоким светом. Так, мельком набросанная история одной усадьбы, недалеко от которой находится древний курган, неодолимо настраивает автора на элегически-философский лад, и от этой крохотной точки русской земли раскрываются горизонты во всю даль, во все стороны жизни и мироздания; и мы не без волнения читаем эти старые и вечно новые размышления: «Ныне усадьба населена. В ней есть старые, средние, молодые и крошечные люди. Старые знают, что уж никуда отсюда не уйти; средние свыкаются с монотонной, уединенной жизнью; молодые рвутся в столицу; крошечные блаженствуют среди садов, грибов, лошадей. Но судьба всех, живущих здесь, в конечном счете еще неясна. Их летопись не записана. Смутным августовским вечером, в сумерках, при желтеющем жнивье и светло-зеленых зеленях, глядя на вечный, таинственный круговорот вселенной, проходя в полях по давно знакомой меже, человек может вспомнить дикого скифа, успокоившегося в кургане; мысленно взглянуть на русских монахов, гнездившихся в лощине; с улыбкой – и насмешливой, и сочувственной, – окинуть взором толпу чудаков, именуемых русскими помещиками… Легкий ветер времени, тоже как бы с улыбкой, играет всем этим, завевая былое легендой. Философ же давно свыкся с мыслью о разлуке с земным. Давно привык видеть пустынную, и светлую вечность. Все же безмерно жаль земного! Жаль неповторимых черт, милых сердцу, жаль своей жизни и того, что в ней любил. Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, тоже с усмешкой подумаешь, что, быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок. Тогда летописец скажет слово и о твоей жизни. Какое это будет слово? Кто знает?»
«Легкий ветер времени», сметая все, неприкосновенными оставляет некоторые слова. Пролетая над Россией, он, несомненно, среди других, более мощных и жгучих слов пощадит и прекрасные, в своей тихости печальные, хрустальные, лирические слова Бориса Зайцева.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































