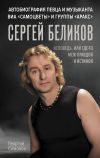Текст книги "Время Волка"

Автор книги: Юлия Волкодав
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– О, как моего любимого певца Утёсова! Ты знаешь Утёсова?
Утёсова Лёня не знал.
– Ну а петь ты любишь? – допытывался боец. – Может, ты нам песню споёшь?
Лёня недоверчиво посмотрел на него. Издевается? И так же все смеются. Но раненый заговорщицки ему подмигнул:
– Бьюсь об заклад, петь у тебя получается лучше, чем читать. Правда?
– Н-н-не знаю…
Пение никогда его особенно не интересовало, он и песню-то знал всего одну.
– А ты попробуй! Если получится, подарю тебе пряник.
Слово «пряник» Лёня знал очень хорошо – на Новый год папа прислал ему из Москвы кулёк пряников. «Спецпайковых», как сказала бабушка, твёрдых, будто камень, но очень вкусных, и он грыз их, макая в чай и прикрывая глаза от счастья.
– Какую ты песню знаешь? – продолжал допытываться боец.
– Со-со-союз нерушимый…
– Ого, репертуарчик! – уважительно протянул тот. – Ну давай вместе, я тебе подпою. Союз нерушимый…
– Республик свободных, – неожиданно легко подхватил Лёня, – сплотила навеки великая Русь…
Он пел громко, стараясь перекричать своего помощника, – ему вдруг показалось, что тот поёт неправильно, и у Лёни возникло ему самому непонятное желание выправить мотив, чтобы было так, как передавали по радио.
Все в палате притихли. Смеяться никто и не думал. А воодушевлённый успехом Лёня пел всё громче и громче. Он понятия не имел, о чём поёт, про какие такие республики, и почему союз создан волей народа. Но совершенно точно повторял мелодию, без единой фальшивой ноты.
Его не перебивали, и Лёня благополучно допел до конца. А потом чуть не свалился с табуретки от накрывшего его грома аплодисментов.
– Ай да пострел! – веселились раненые. – А как чисто поёт-то! И с каким чувством! Парень, да у тебя настоящий талант.
– И ты не заикаешься, когда поёшь, ты это понял? Держи, вот твой пряник!
Честно заработанный пряник перекочевал к Лёне, а со всех сторон ему уже тянули кусочки сахара.
– Чтобы не заикаться, тебе нужно петь, понимаешь? – убеждал его раненый с перевязанной рукой. – Говорить нараспев, растягивая слова.
– А ведь верно говорит Серго! – крикнул кто-то с дальней койки. – Как ты догадался-то?
– Так я знал, – улыбался Серго. – У меня вот в роте старшина тоже заикался, контузия. Так он пропевал то, что хотел сказать, и нормально было. Мы его так и звали – певун!
До самого вечера Лёня «репетировал», пытался петь то, что хочет сказать, мечтал о том, как удивит бабушку. Иногда получалось, иногда не очень. Но когда Серафима Ивановна, еле живая после четырёх проведённых подряд операций, ввалилась в сестринскую забирать внука, он встретил её заготовленной фразой:
– Ба-а-бушка, а-а та-ак я не за-а-икаюсь!
В сестринской шумели медсёстры, которые как раз передавали смену, и бабушка мало что поняла из этой полупропетой-полусказанной фразы, но кивнула:
– Молодец. Собирайся, пойдём домой.
С тех пор Лёня стал постоянным участником госпитальных концертов. Бойцы его знали, выздоравливающие рассказывали о маленьком певце вновь прибывшим, и Лёню были рады видеть в каждой палате. К гимну скоро добавились новые песни – кто-то из солдат напел ему «Синий платочек» и «Идёт война народная», не поленился разучить с мальчиком слова. Слова для Лёни были самым сложным, а вот мелодию достаточно было услышать один раз, потом он мог безошибочно её повторить. Каждое выступление заканчивалось аплодисментами и сладостями. Бойцы специально откладывали сахар «для Лёнчика», как они его называли. Случалось, что он и обедал из одной миски с каким-нибудь сердобольным солдатом. Но выступал Лёня не из-за этих гонораров. Главным было то тёплое чувство, которое неизменно рождалось в груди, когда он становился на табуреточку и десятки взрослых смотрели на него, внимательно его слушали.
* * *
Из дневника Бориса Карлинского:
Сначала я его, конечно, побил. Ну а как его было не побить, хлюпика? Так получилось, что мы все оказались в одном классе – ребята с Курортного переулка. А он с Ворошиловской. У нас своя устоявшаяся компания, свои союзы и конфликты. Я во главе одного лагеря, Васька Рябой во главе другого. И тут он, ни к селу ни к городу. С парусиновым портфельчиком и в штанах на одной пуговице. С этой пуговицы всё и началось.
– Эй ты, мелкий, карман застегни! – посоветовал я ему, проходя мимо. – А то вывалится!
Он смешно захлопал руками по карманам штанов, так и не поняв, что я говорю про ширинку.
– К-к-кто вы-вы-вывалится? – пробормотал он.
Ну и тут началось. Эту фразу услышали остальные ребята, тут же столпились вокруг него.
– Смотрите, так он ещё и заика!
– Голодранец и заика!
– Заика, заика!
Откровенно говоря, все мы были тогда голодранцами. А кем ещё мы могли быть? Только что закончилась война, страна старательно зализывала раны. Даже карточки ещё не отменили, одежду купить невозможно. К первому сентября родители постарались нас приодеть, но что это были за наряды? Мне мать сварганила рубашку из своей старой кофты, светло-бежевой, почти белой, но, если приглядеться, на правом рукаве можно было увидеть бледно-розовый цветочек. Это мне ещё повезло, что цветочек приходился на подмышку, и никто его не замечал. А обувь почти у всего класса чиненая-перечиненная. Подмётку пришивали до тех пор, пока она не стиралась до дыр. А потом её заменяли на деревянную. У меня дед умел выстрогать такую, тонкую-тонкую, и приладить так, что от родной и не отличишь. При этом мы ботинки носили только в школу, а по двору чуть не до января босиком бегали.
В общем, такие же мы были голодранцы, как и он. И, видимо, нам очень хотелось почувствовать своё превосходство хоть над кем-нибудь. А тут такая мишень – и штаны у него не застёгнуты, и заикается.
– Я-а не за-а-икаюсь! – вдруг выдал хлюпик нараспев.
И все засмеялись ещё больше от этого его полузаикания-полупения. В общем, мы его побили. Не очень сильно, так, я толкнул его, он упал, кто-то наподдал сзади. Но в этот момент в класс вошла учительница, и мы тут же разбежались по местам, он один на полу в проходе остался. Ну, думаю, сейчас закатит истерику, нажалуется. Но он на удивление быстро собрался и юркнул за последнюю парту, учительница ничего и не заметила. Чем тот день закончился, я уже и не помню. Всё-таки пятьдесят с лишним лет прошло. Но иначе, как заикой, его в классе не называли. Хотя на самом деле он мог говорить и не заикаясь, нараспев. Он так и у доски отвечал потом, а все со смеху покатывались. Он краснел, нервничал, сбивался и снова начинал заикаться. Учительница ругалась на нас, но эта сцена повторялась снова и снова.
А дружба? С чего же началась наша дружба? Кажется, с моей свинки. Да, точно, со свинки. Где я умудрился ею заразиться, понятия не имею. Температура поднялась, морду раздуло так, что я правда на свинью стал похож. Лежу дома, болею. Первые дни даже радовался: в школу ходить не надо, мамка вокруг бегает, вкусненьким угощает, даже банку тутового варенья открыла, которую для особого случая берегла. А потом скучно стало одному. У нас же какое детство было? Ни телевизоров, ни компьютеров этих с интернетом. Это сейчас дети в три года сами себе планшет включили, мультики нашли и смотрят. А у нас телевизор был один на три дома, и для детей там передавали одну программу в неделю. В общем, я заскучал. Друзья меня не навещали, им родители строго-настрого запретили. Свинка – она ведь не просто заразная. Говорят, на мальчиков может так подействовать, что потом детей не будет. И все друзья, запуганные ужасными последствиями свинки, обходили мой дом за километр.
И вот на третий день появляется это недоразумение. Мама ему дверь открыла и давай руками махать:
– Иди, иди, мальчик, нельзя к Боре, заразишься.
А он на удивление внятно и так рассудительно ей:
– Не-е бо-ойтесь, Вера Иса-аковна, я уже бо-олел свинкой! У ме-еня им-му-ни-тет!
Так и сказал: иммунитет! И даже не споткнулся на умном слове. Это его бабушка Сима научила, конечно. Мама моя дар речи потеряла от такого чуда. А он продолжил:
– Я-а Бо-оре до-омашнее за-адание при-и-нёс!
Я хотел выскочить в коридор и дать этому хлюпику по шее. Додумался, тоже мне! Лучше бы чего хорошего принёс, а то – домашнее задание! Но почему-то не выскочил. И когда Лёнька вошёл ко мне в комнату и достал тетрадки, стал вместе с ним делать задание и спрашивать, что там в школе. Мы разговорились и, странное дело, теперь меня его замедленная манера говорить уже не раздражала. А потом мама поила нас чаем с «пирожными». О, это был особенный деликатес послевоенного детства! Кусочек хлеба мазался тончайшим слоем масла, а сверху посыпался сахарным песком. Пирожное нужно было есть «правильно», растягивая удовольствие: сначала слизать языком сахарный песок, потом масло и только потом съесть хлеб.
Лёнька никогда до этого пирожные не пробовал, и я научил его, как надо с ними обращаться. И мы сидели за столом, накрытым белой (и не дай бог чем-нибудь на нее капнуть!) льняной скатертью, болтали ногами и слизывали сахар, прихлёбывая горячий чай.
Так он ко мне две недели ходил, пока я не выздоровел. А когда наступило время идти в школу, я всё утро думал, как быть. Лёнька считал меня теперь если не другом, то хотя бы приятелем. В классе он наверняка подойдёт ко мне, начнёт что-то говорить. Как к этому отнесутся ребята? В общем, я думал, мучился, пока не дошёл до школы и не поднялся на второй этаж, где был наш класс. Только дверь открыл – ко мне все мои пацаны кинулись. Обнимают, пихают, чего-то орут. И я забыл про Лёньку.
После второго урока нас кормили. Не бог весть чем, но мы все ждали второй перемены, чуть ли не ради неё в школу ходили. Ну а что с нас взять, вечно голодное поколение. Мы спускались в столовую и выстраивались в очередь перед раздаточным столом, а тётя Надя выдавала каждому его порцию. Обычно давали кусок хлеба и стакан чая, но иногда, в сезон, нам перепадало по яблоку или мандаринине. В тот день как раз давали мандарины, и ажиотаж у стола был бешеный. Все пихались, не соблюдали очередь. Во-первых, вдруг не хватит? Во-вторых, нужно было как можно скорее получить свою порцию, чтобы потом, устроившись у окна например, с наслаждением, не торопясь смаковать каждую дольку, сначала обгрызать белые остатки шкурки, потом аккуратно, чтобы не порвать, стаскивать зубами тонкую плёночку, обнажая мякоть, а потом съедать её медленно, разделяя на волокна, смешивая яркий вкус сока со слюной.
Лёнька всегда был быстрый, юркий, как-то у него получилось одним из первых просочиться в столовую и встать в очередь. Я зазевался на лестнице и оказался человек через пять после него. Ну стою себе и стою, на него даже внимания не обращаю. И тут в столовую заходит Сенька, один из моих приятелей. Окидывает взглядом очередь, хмыкает и направляется к Лёньке.
– Эй ты, Заика, уступи место старшему.
Лёнька на него глаза свои серо-стальные поднимает и смотрит в упор. Что меня всегда в нём поражало, так это глаза. Потом-то, конечно, когда он уже стал Волком, этот взгляд вполне сочетался с его образом. И на сцене, когда он комсомольские песни пел, и за кулисами, когда на звукорежиссёра орал. Но когда хлюпик, от горшка два вершка, пронзает взглядом крепкого такого и не чурающегося рукоприкладства Сеньку, смотрится это жутковато.
– В-в-вста-ань в о-о-очередь!
– Что ты сказал?!
Сенька мгновенно вышел из себя. Схватил Лёньку за плечо и выдернул из очереди, замахнулся, но ударить не успел. Я даже не знаю, в какой момент принял решение, всё само собой произошло. Перехватил руку Сеньки и влепил ему в живот коленом. Честно говоря, последнее было уже лишним, но инстинкт! Мы же, пацаны, чуть не каждый день во дворе дрались и друг с другом, и с чужими, только повод дай.
– Ты чего? – Сенька с трудом разогнувшись, смотрел на меня оторопело, даже не думая сопротивляться, слишком был ошарашен. – Это же Заика!
– Встань в очередь, – буркнул я. – А то мандаринка не достанется.
С того дня Лёньку в школе не били. Ну а кому охота со мной связываться? Хотя мне больше не приходилось его защищать и я даже не рассказывал никому про наше странное сближение во время моей свинки. Все сами как-то признали, что он тоже человек.
Но по-настоящему дружить мы стали позже. Впрочем, об этом в другой раз. Я и так сегодня что-то расписался. Однако, бумагомарательство – такая же зараза, как звукоизвлечение. Лёнька мне всегда говорил, что пение – это наркотик. Однажды научившись получать от него кайф, потом не можешь остановиться. Вот и с писательством то же самое. Зря я, конечно, сравниваю, он всю жизнь поёт, а я писать начал только недавно и вряд ли могу считать себя профессионалом. Но должен же я написать о нём правду! Иначе потом другие напишут такое, что мало не покажется. Взять хоть Оксанку сумасшедшую. Эта последние мозги пропившая дура горазда на откровения. Или Натали вдруг перемкнёт издать мемуары. Да и сколько всяких писак, желающих заработать денег на имени Волка! Нет уж, лучше я сам. А что? Писатель Борис Карлинский! Звучит не хуже, чем доктор Борис Карлинский…
* * *
Из дневника Бориса Карлинского:
Была у меня одна тайна, которую я тщательно скрывал в школе. Что, заметьте, было весьма сложно: город у нас небольшой, а дружили в те времена между собой не только дети, но и взрослые, соседи по двору, коллеги по работе. Если учесть, что почти все наши матери и бабушки с Курортного переулка обслуживали санаторий имени Орджоникидзе, кто в качестве нянечки, а кто, как незабвенная Серафима Ивановна, и в качестве врача, то я вообще поражаюсь, как мне удавалось так долго сохранять свой секрет. Как моя мама не похвасталась никому на работе, что «наш Бобочка – таки настоящий Рихтер», и в классе не узнали, что «Бобочка» ежедневно мучает ненавистный инструмент! А другим словом этот процесс и назвать было нельзя.
Уж не знаю, кто решил, что ребёнку обязательно нужно заниматься музыкой, но факт остаётся фактом: в нашей семье на пианино играли и мама, и дед, и все предки, которых я никогда в глаза не видел, но о которых постоянно слышал. Причём, по словам мамы, выходило, что чем более далёким был предок, тем виртуознее он обращался с клавишами. И ему, конечно, было бы очень стыдно, если бы он услышал, что вытворяю на почтенном инструменте я.
Инструмент и правда был почтенный. Чёрное фортепиано с пожелтевшими, цвета кофе с молоком, клавишами занимало целую стену нашей небольшой «парадной» комнаты. Мне всегда казалось, что фортепиано уделяется слишком много места в доме, весьма скромном, потому что, кроме комнаты, где спали мы с дедом, оставалась ещё крохотная спальня мамы и такая же крохотная кухня. Пианино было немецким, дореволюционным. О немецком его происхождении я догадывался по непонятной надписи BECHSTEIN на крышке, а о дореволюционном – по двум бронзовым подсвечникам, которыми сейчас, конечно, никто не пользовался.
Пианино было единственной дорогой вещью, которую мама привезла в Сочи, когда её направили по распределению на тогда только начавший отстраиваться курорт. Могу себе сейчас это представить: голые стены, матрасы на полу, вместо обеденного стола – ящик из-под бутылок. И пианино с бронзовыми подсвечниками! Но надо знать мою маму! Она уже тогда, наверное, знала, что у неё родится мальчик и его обязательно нужно будет учить музыке. Или девочка, какая разница!
Одним словом, меня учили музыке. Частным образом, потому что в музыкальную школу я отказался ходить категорически, такого позора я бы не перенёс. Старенький преподаватель три раза в неделю появлялся у нас дома, и я люто ненавидел те часы, которые проводил в его обществе. В те же дни, когда он не приходил, мне всё равно нужно было час отсиживать за инструментом, раз за разом отрабатывая какой-нибудь этюд.
В такой момент меня Лёнька и застал. В школе он по-прежнему держался отстранённо. Мы здоровались, могли переброситься парой фраз, признаюсь, я и списать у него мог, учился-то он прилично. Но в наших классных проказах Лёня участия не принимал, да его просто и не звали. На переменах он сидел за партой и что-нибудь рисовал. А домой ко мне иногда приходил, под благовидным предлогом – сделать вместе сложное домашнее задание или подготовиться к контрольной. Мама моя всячески наше общение приветствовала, считая, что Лёня – подходящая компания, в отличие от тех оболтусов, с которыми я обычно шатался. Да и я не был против его визитов, с Лёнькой-то уроки учить или к контрольной готовиться куда сподручнее. Но при Лёньке я на пианино никогда не играл и всячески показывал своё пренебрежение к инструменту, который непонятно зачем тут стоит.
А в тот раз он меня застукал. Вошёл в комнату, когда я играл. Я захлопнул крышку, едва не прищемив пальцы, но было поздно – он всё видел. И слышал.
Я с вызовом посмотрел на него, мол, ну давай, смейся. Но он не смеялся. Стоял зачарованный и смотрел своими невозможными серыми глазами серьёзно-серьёзно.
– Привет, – буркнул я, отодвигаясь от пианино. – Чего припёрся?
Он пожал плечами:
– За-автра ди-иктант. А у те-ебя че-ередующиеся гла-асные хро-омают.
До всего ему дело есть! Ну хромают, зато не заикаются. К тому моменту я уже научился его понимать, привык к этому полупению.
– Ладно, давай разберём эти твои гласные, – проворчал я.
– Бо-орьк, – протянул Лёня. – А мо-ожно я то-то-то-оже по-по-попробую?
Я даже не сразу сообразил, про что он. Но, судя по усилившемуся заиканию, Лёнька был сильно взволнован.
– Что попробуешь?
– По-по-поиграть. По-по-покажи!
Ёлки зелёные, нашёл развлечение! Но мне жалко, что ли? Открыл крышку, придвинул второй стул.
– Ну вот, смотри. Это упражнение, песенка. К каждому слогу своя нота, я так лучше запоминаю. Играешь и подпеваешь, можно про себя. «Как под гор-кой под го-рой тор-го-вал му-жик зо-лой».
Я чёртову песенку уже полтора месяца мучил. А это недоразумение заикающееся один раз послушало, два раза посмотрело, как я играю, и вдруг выдало, без единой запинки: «Кар-то-шка мо-я, ты под-жа-рис-тая!»
Руки он, конечно, неправильно держал, не «яблочком», а параллельно клавишам, но не ошибся ни разу! И тут же ещё раз сыграл, с самого начала.
– Боря, ну наконец-то! – раздался из кухни страдальческий голос мамы. – У меня уже изжога от твоей «картошки»!
Она вошла в комнату и увидела Лёньку, в третий раз играющего «картошку».
– Боже, я так и знала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Лёня, ты тоже занимаешься музыкой?
Недоразумение отрицательно помотало головой.
– Нет? Но это же ты сейчас играл?
– Он, он, – мрачно подтвердил я. – Я один раз ему показал, и он сыграл.
– Так у ребёнка же талант! – воскликнула мама. – Тебе нужно учиться! Я обязательно скажу твоей бабушке!
И, ещё что-то причитая, она убежала на кухню, где подгорала, судя по запаху, как раз картошка.
– Доигрался, Лёнька. Теперь тебя тоже заставят музыкой заниматься!
– Ты-ты-ты се-ерьёзно та-ак ду-умаешь?
У него аж глаза засияли! Вот ведь дурень! Не понимает, на какую каторгу подписывается!
– У на-ас пиа-анино не-ет!
– Боюсь, мою маму это не остановит, – вздохнул я, прекрасно зная маман и её неукротимую энергию.
И оказался прав.
* * *
С самого начала Лёня в успех этого предприятия не верил. Бабушка была во всех отношениях человеком сугубо практичным, двумя ногами стоящим на земле. А музыка – занятие без конкретной практической пользы, да ещё и требующее затрат. У Борьки-то вон, пианино есть, да ещё и преподавателю они платят. Бабушка, уж конечно, не согласится покупать пианино и оплачивать уроки. Да Лёня и не решился бы просить ее об этом. С раннего детства он твёрдо усвоил, что «мы – люди небогатые, на других не смотрим и радуемся тому, что имеем». Эту фразу бабушка произносила, когда Лёня приходил с разодранными штанами или пробовал заговорить о велосипеде. Серафима Ивановна покупала только то, что было действительно необходимо, а новые штаны, когда старые ещё не сносилось, и тем более велосипед необходимыми вещами не считались. Даже на мороженое, восхитительные кругляши застывшего молока между чуть раскисшими от постоянной сочинской влажности вафлями, или холодный терпкий квас, который летом продавали в Сочи повсюду, у Лёни никогда не было денег. И эти лакомства были бы для него недоступны, если бы не Борька. Его мама считала, что у ребёнка обязательно должны водиться деньги, как у них дома говорили – «на карманные расходы». Лёня один раз стал свидетелем того, как Боря с совершенно будничным видом подошёл к матери и попросил денег на завтра. И Вера Исааковна так же спокойно, словно это было нечто само собой разумеющееся, открыла сумку, достала кошелёк и отсыпала ему мелочь. Для Лёни это была фантастическая картинка. Но, к чести Бори, он всегда угощал купленными на карманные деньги лакомствами кого-нибудь из приятелей, оказавшихся рядом, и чаще всего этим кем-нибудь становился Лёня.
Когда Вера Исааковна успела поговорить с бабушкой, Лёня не знал. Но через несколько дней после того случая в доме Борьки Серафима Ивановна, пораньше освободившаяся с работы, высунулась в окно и как обычно рявкнула на весь двор:
– Леонид, домой зайди немедленно!
Лёня иногда представлял, что на своих пациентов бабушка так же рявкает и они только от этого и выздоравливают – как по команде. Пришлось бросить начатое занятие – он сосредоточенно обдирал финиковую пальму. Финики у них всё равно не вызревали, а недозревшие плоды были отличными боеприпасами для рогаток. Домой явился грязный, весь обсыпанный пальмовой требухой.
– На что ты похож! – всплеснула руками бабушка. – Мыться немедленно! Мы пойдём в одно важное место.
Пока Лёня полоскался под рукомойником, он гадал, в какое такое важное место они с бабушкой должны пойти. Если бабушка надевает пиджак с наградами, значит, место действительно важное.
Он начал догадываться, когда они свернули с Ворошиловской и стали спускаться вниз, к Курортному проспекту, но не смел поверить своему счастью. И только когда впереди показалось жёлтое двухэтажное здание, он спросил:
– Ба-аб, а мы что, в му-узыкальную шко-олу идём?
– Идём, – буркнула бабушка. – Постарайся не заикаться. Если тебя будут о чём-то спрашивать, говори медленно, спокойно.
Но говорить ему особенно и не пришлось. С преподавателем, смешным коротышкой с торчащими во все стороны седыми волосами, тоже фронтовиком, беседовала бабушка за закрытыми дверьми. Потом коротышка позвал Лёню, маявшегося в коридоре. В комнате стояло пианино, совсем не похожее на Борькино, коричневое, полированное, как бабушкино трюмо, перед которым она причёсывалась. Эта полировка очень Лёне не понравилась, она как-то упрощала инструмент, делала его обычным предметом мебели.
– Ну иди сюда, Лёня Волк, – доброжелательно проговорил коротышка. – Скажи, ты хочешь заниматься музыкой?
Лёня кивнул.
– Отлично, отлично, – потёр коротышка руки. – Когда у ребёнка есть желание, это самое главное. Вы понимаете, Серафима Ивановна, они все сейчас хотят играть в войну и купаться в море. Никто не хочет играть на инструменте. А вот раньше, я помню…
Но он сам себя оборвал, решив не ударяться в воспоминания.
– Лёня, я прохлопаю тебе ритм, постарайся повторить.
И смешной дяденька несколько раз ударил в ладоши с разным интервалом. Лёня подумал, что над ним подшучивают. Но коротышка вопросительно на него смотрел и ждал. Пожав плечами, Лёня без малейшего усилия повторил хлопки. Он искренне не понимал, какое они имеют отношение к музыке.
– Замечательно! – Коротышка прямо расцвёл. – Ну, петь я тебя не прошу, да? Как же нам слух проверить?..
– Я-а лю-юблю пе-еть, – неожиданно подал голос Лёня. – Я-а в го-оспитале пе-ел.
Дяденька растерялся. Серафима Ивановна уже успела ему рассказать, что мальчик заикается, но не упомянула, что он может петь. Не сочла нужным. Она вообще с неохотой вспоминала Лёнины концерты в госпитале, считая их баловством.
Всё это время Лёня не сводил глаз с пианино. Оно хоть и было неправильное, не такое, как у Борьки, но на нём ведь тоже, наверное, можно играть? Ему очень хотелось попробовать.
– Ну, спой нам что-нибудь, – предложил дяденька. – Какую песню ты знаешь?
– Про ка-артошку, – выдал Лёня. – Мо-ожно с му-узыкой? Та-ак кра-асивее.
– Хорошо, давай я тебе подыграю.
Дяденька собрался было сесть за инструмент, но Лёня его опередил.
– Я са-ам.
Ему хотелось проверить, получится у него ещё раз сыграть «картошку» или нет. Вроде вот с этой клавиши начинается.
– Как под гор-кой под го-рой тор-го-вал му-жик зо-лой.
Руки проворно перемещались по клавиатуре, и от того, что получалось, Лёня сам приходил в восторг. Одна нотка закралась неправильная, забыл, какую клавишу нужно нажимать, но, услышав не тот звук, Лёня мотнул головой и тут же исправился.
– Так, а что же вы мне говорите, что ребёнок никогда не играл? – возмутился дяденька.
– Да у нас даже инструмента нет! – Серафима Ивановна и сама была поражена. – Это он у соседского мальчика набрался.
– Все бы так набирались! – хмыкнул коротышка. – Занятия по средам и пятницам, Лёня, с четырёх часов. Найдёшь класс Ильи Степановича, это я. Запомнил? И нотную тетрадь принеси.
Нотной тетради у Лёни не было, но по дороге домой они зашли в магазин «Канцтовары» и купили тетрадь. Обычную, в клеточку, нотной в магазине не нашлось. Но потом, дома, он аккуратно, по линеечке начертил нотный стан, а в начале каждой строчки старательно вывел скрипичный ключ – скопировал по памяти из тетрадки Бори. А ещё Лёне купили мороженое, которое бабушка вручила ему молча, но он понял, что это она его похвалила как могла.
Леонид Витальевич подзабытым, а когда-то таким привычным движением размял кисти, ладонью одной руки отгибая назад пальцы другой, насколько хватило растяжки, а потом начал «играть» на одеяле полонез Огинского. «Прощание с Родиной». Руки помнили, перед глазами возник нотный лист, исписанный убористым почерком, – ноты в его детстве были великой ценностью, одна отпечатанная книжка на класс, и ученики переписывали новое произведение, которое предстояло разучить, каждый себе в самодельные разлинованные тетрадки. Впрочем, ему это было даже удобно – он так лучше запоминал. Потом стоило пару раз сыграть, и он уже знал мелодию наизусть. Оставалось только отработать технику, сложные места.
Сейчас с техникой уже проблемы. Музыка ревнива и измен не прощает. Если не заниматься хотя бы несколько месяцев, теряешь львиную долю наработанных навыков. А сколько лет он уже не играл? Аккомпанирование себе не в счёт, три аккорда современной песни может сыграть и второклассник музыкальной школы.
«Па-ра-ра-ра-ра ра-ра-ра-ра, та-да-та-там та-та-та-там…» Мелодия звучала в голове, а вот напеть он её не мог. Прямо как тогда, в детстве. Нет, ещё хуже.
В музыкальной школе его постоянно хвалили. Илья Степанович нарадоваться не мог на талантливого ученика, приводил его в пример неуспевающим: вот, мол, мало того что пришёл в середине года и вас, неучей, догнал, так ещё и без своего инструмента умудряется заниматься.
Своего инструмента у Лёни не было до четвёртого класса, поэтому он приходил в музыкальную школу не только по средам и пятницам, но и по всем остальным дням. Илья Степанович всегда находил для него свободную аудиторию, и на очередной казённой «Ласточке», морщась от плоского звука конвейерного, «доступного для народа» инструмента, Лёня разучивал какую-нибудь фугу Баха. Зато настоящим удовольствием было сыграть выученное на «Бехштейне» в доме Карлинских. Вот там был настоящий звук, там Бах звучал в полную силу на радость Вере Исааковне, тайком утирающей слёзы умиления. Что интересно, Борька не завидовал, искренне радовался успехам приятеля. А ещё больше радовался, что его собственные занятия музыкой прекратились – мама просто махнула на него рукой, видимо, почувствовав разницу потенциалов. И за это Борька был особенно Лёне благодарен.
В такой ситуации естественно было бы загордиться, начать задирать нос. Но Лёня относился к своей внезапно обнаруженной одарённости спокойно, прежде всего потому, что музыкальная школа и дом Карлинских были единственными местами, где его хвалили. Бабушка никак не комментировала его успехи, хотя оба дневника – и школьный, и для музыкалки, проверяла исправно. И если что не так, получал Лёня по полной программе. Бабушка никогда его не наказывала, но отчитывала так, что запоминал он надолго. Неприятности случались обычно с устными предметами. Поняв, что учителя не спешат его вызывать к доске, а если и вызовут, то дело всё равно кончится тройкой, Лёня просто перестал готовить уроки. И если вдруг преподавателю приходило в голову спросить его, Лёня поднимался и покаянно говорил:
– Я не-е вы-у-чил.
Ему и правда было проще получить двойку, а потом закрыть её хорошей оценкой за письменную работу, чем мучиться у доски под хихиканье всего класса. И смысл при таком раскладе учить?
Вскоре его равнодушие перешло и на другие предметы, так что в обычную школу он ходил просто отбывать повинность. В музыкальной он тоже друзей не нашёл. На общих уроках сольфеджио старался молчать, долгое время ему даже удавалось скрывать от одноклассников своё заикание. Но потом всё открылось, над ним опять стали смеяться, дразнили и он замкнулся, переехал на последнюю парту, на урок старался приходить последним, чуть не со звонком, когда все уже рассядутся, а уходил первым, срываясь с места, как только учитель их отпускал. На хоровые занятия он приходил так же. Хормейстер сначала хотел его от этих уроков освободить, но Лёня во время пения не заикался, что и продемонстрировал преподавателю. А так как пел он чистым и звонким мальчишеским дискантом, как и в игре на пианино не позволяя себе ни одного фальшивого звука, то вскоре стал не просто полноправным членом хора, но и солистом.
Вот в таких противоречиях он и жил. Они же не позволяли ни зазнаться, ни окончательно впасть в уныние. А в четвёртом классе у него появилось собственное пианино.
* * *
Позже в памяти Лёни неразрывно связались эти два события: приезд отца и покупка пианино. Отец навещал их нечасто, пару раз в год, и каждый его визит оказывался тяжким испытанием для Лёниной психики.
Первый раз он появился в сорок пятом, сразу после войны. Лёня с утра ждал похода на море – бабушка всю неделю обещала, что, когда наступит выходной, они пойдут на пляж. Лёня уже предвкушал, как будет бултыхаться в прохладной воде, прыгать на волны и воображать себя морским царём, резвящимся в своих владениях. Но бабушка вдруг заявила, что на море они сегодня не пойдут.
– К нам приедет очень важный гость! – сказала она.
Тут только Лёня обратил внимание, что бабушка со вчерашнего дня какая-то не такая, хмурится больше обычного, наводит везде порядок и за тесто взялась, пироги печь.