Читать книгу "Родственники"
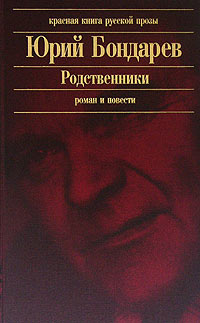
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
2
В полутемном коридоре Никита вытер пот со лба и закурил размятую сигарету. Ни шороха шагов, ни покашливания не было слышно из кабинета; ни одного отчетливого звука не доходило до него из других комнат этой огромной, как пустыня, квартиры. Только за стенами отдаленно катился сложный шум улицы.
«Что же это? – подумал Никита. – Значит, Георгий Лаврентьевич – мой родной дядя?»
Никогда раньше мать не говорила ему об этом, никогда она не получала ни от кого писем (он не видел их) и никогда на его памяти не общалась ни с кем из своих родственников. И Никита опять вспомнил день приезда, многозначительные, что-то понимающие взгляды незнакомых ему, но, видимо, когда-то давно встречавшихся с матерью и потом забывших ее людей, которых вчера за ужином представила Ольга Сергеевна, и весь этот непоследовательный, раздерганный разговор с профессором Грековым – и вдруг почувствовал стыд от этого своего нового, унизительного положения объявившегося в Москве родственника. Он вспоминал фразу: «Вера просила», – но он сам в кабинете у Грекова не нашелся толком возразить, зачем-то стал невразумительно объяснять причины жилищного уплотнения, хотя и совсем не намерен был говорить о деньгах.
«Как же это? Неужели получилось так, что я искал из письма матери какой-то выгоды?» – подумал Никита с отвращением к себе, и испарина выступила на лбу, и тесная, надетая утром ковбойка неприятно и жестко сдавила под мышками. Он стоял в нерешительности и, точно сжатый душной тишиной квартиры, видел, как в конце коридора, в проеме двери солнечно, ярко, пусто блестел паркет. Там была столовая, где вчера вместе с молчаливыми гостями сидел и он.
Его комната была в той стороне квартиры.
И сейчас, чтобы попасть в дальнюю комнату, ему нужно было пройти через эту просторную столовую, мимо других комнат, но он опасался встретить там Ольгу Сергеевну с ее участием, с ее ласково-скорбным взглядом, он не знал, что сказать ой.
«Только бы они не чувствовали, что чем-то обязаны мне после смерти матери, – подумал Никита. – Только бы не это!»
Он подождал немного и быстро пошел по коридору.
Все окна столовой, светлой и горячей, были распахнуты в сверкание полуденного солнца, в оглушительно радостное, летнее чириканье воробьев, возбужденно трещавших крыльями где-то под карнизами, и этот базарный воробьиный крик звенел не за окнами, а в самой столовой, длинной и пустой, как ресторанный зал по утрам. Никита прищурился от белизны солнца, и сейчас же рвущийся, как при настройке приемника, свист, потрескивание, короткие строчки музыки вплелись в воробьиный гомон. Боковая дверь в столовую распахнулась, звуки музыки хлынули оттуда и оглушили хаосом, свистом разрядов.
– Привет, родственник! – услышал он обрадованный голос. – Хинди, руси, бхай, бхай!
На пороге стоял высокий парень с забинтованной шеей и в спортивных кедах, узкое лицо загорело, белокурые волосы очень коротко подстрижены ежиком, яркие глаза насмешливо и смело оглядывали Никиту. Парень этот наугад крутил настройку транзистора. Транзистор свистел, гремел музыкой, скользили нерусские голоса, взрывы смеха, кто-то речитативом выкрикивал под всплески аплодисментов мелодию шейка. Не выключая приемника, парень дурашливо-церемонно поклонился.
– Я вас горячо, родственничек! Не успел представиться: был на дачах, – сказал он сиплым, ангинным голосом, подмигивая Никите. – Заходи ко мне. Садись. Будем, что ли, знакомиться. Валерий. Сын уже известного тебе Георгия Лаврентьевича. А ты – Никита?
– Да, не ошибся.
– Виноват! – ворочая забинтованной шеей, воскликнул парень, с любопытством разглядывая яркими глазами Никиту. – Даю сразу задний ход: по рассказам родительницы, вообразил тебя тютей! Накладка! Ты похож на юного медведя с флибустьерского брига, пожалуй! Ну, ладно, обмен нотами, мир, давай лапу!
Он, улыбаясь, крепко стиснул неохотно протянутую руку Никиты и бесцеремонно втянул его, шагнувшего неуклюже через порог, в маленькую комнату, блещущую, жаркую от натертого паркета, от сплошных, во всю стену, стекол книжных полок. Здесь было тесно от широкой тахты, покрытой полосатым пледом, где грудой валялись магнитофонные кассеты, от низких кресел возле красного журнального столика, на котором стоял раскрытый магнитофон, и было пестро, светло, даже ослепительно от многочисленных цветных репродукций в простенках, от большого зеркала, вделанного в дверь, от множества стеклянных пепельниц, предупредительно расставленных повсюду. И тут не веяло запахом теплой пыли, сухим ветерком запустения, как в комнате, где поселили Никиту, – все было протерто, вычищено, все пахло уютной чистотой.
– Садись, что ли. А, к черту эту хламидомонаду! – весело сказал Валерий и, подтолкнув Никиту к креслу, бросил невыключенный транзистор на тахту среди магнитофонных кассет. – Туповато и дико настраивается. Трещит, как обалдевший жених на свадьбе. Наивно думал, что приобрел модернягу, а бессовестно всучили в комиссионке дубину времен Киевской Руси. Не транзистор, а летопись. Располагайся, покурим. У тебя какие?
– «Памир».
– Самые дешевые? Ясно. Это что, широкий демократизм? Это тоже модно. Предлагаю «Новость», – выщелкивая из пачки сигарету, просипел простуженным горлом Валерий.
Он стоял перед креслом Никиты, был мускулист, худощав, дешевые брюки обтягивали «дудочками» длинные прямые ноги, цветная рубашка навыпуск, на тыльной стороне запястья поблескивали на широком ремешке плоские часы – весь поджарый, гибкий, похожий на баскетболиста.
– Можно выключить? – сказал Никита, кивнув в сторону транзистора. – Эту летопись…
– О, удержу нет! Обнаглели!
Валерий кудахтающе засмеялся, выключил транзистор – воробьиный крик сразу заполнил тишину – и сел в кресло напротив Никиты, удобно и вольно вытянув ноги, кеды его были в пыли и довольно поношены.
– Извини за дворницкий хрип, – сказал он, улыбаясь, и оттянул бинт на горле. – Ты никогда не болел детскими болезнями?
– Не помню. А что?
– Хватил неделю назад колодезной воды на Селигере, и горло сказало «пас». Не приходилось бывать в этих русских местах?
– Нет.
– Какую обещаешь подарить стране профессию?
– Геолог, если получится. А в чем дело?
Валерий округлил рыжие, выгоревшие брови и сипло закашлялся, заговорил с оттенком удивления:
– Ладно. У меня к тебе детективный вопрос: ты где откопался, в Ленинграде? Почему я не знал, что ты существуешь? Просто археологическая находка!
– Тоже не знал, что существует такой остроумный парень, – сказал Никита. – Привет, познакомились.
– Н-да, нет слов, – пожал плечами Валерий. – Чрезвычайно интересно. Значит, тебя поселили в комнате Алексея?
– А кто такой Алексей?
– Не знаешь? Неужели?
– Нет.
– О, черт! Представь, что это твой двоюродный брат. Это тебя радует? – Валерий покачал длинной ногой, обутой в кед, повращал кедом, потом не то вопросительно, не то иронически прищурил один глаз на Никиту. – Что, был разговор со стариком? Была какая-то просьба с твоей стороны?
– Я ничего не просил, – резко сказал Никита.
– Ото! – Валерий оттолкнулся от спинки кресла, пощелкал пальцем по сигарете, стряхивая пепел. Вся поза его, глаза, подвижное лицо выражали насмешливое и нестеснительное любопытство, и Никита почувствовал раздражение к его ангинному голосу, к этой его самоуверенной манере держать сигарету на отлете.
– Я ничего не просил, – спокойнее повторил Никита. – А что я должен просить?
Валерий развел руками.
– Этого, представь, не знаю. И не хочу знать: у каждого свое. В чужую жизнь стараюсь нос не совать. Как тебе понравился старик? Речи не произносил?
– Он рассеян, – ответил Никита и замолчал, намеренно не желая продолжать этот разговор.
– Ну, я Георгия Лаврентьевича знаю чуть получше тебя, – сказал Валерий добродушно. – Старик любит МХАТ. Это та рассеянность, когда человек приходит в одной галоше в институт, но другую держит в портфеле. Причем завернутую в газету. Но, в общем, он добрый малый, твой маститый родственник.
Никита, нахмурясь, сказал:
– Я рад был узнать, что в Москве у меня оказалось столько родственников. Больше, чем надо. Но просто не знал, что всем необходимо считать меня бедным сиротой из провинции, а я, собственно, ничего не прошу! Я привез письмо матери. Это была ее просьба.
Валерий загасил сигарету в пепельнице, запустив руки в карманы брюк, начал подрагивать длинной ногой, узкое, с облупившимся от загара носом лицо стало сонным.
– Милый! Сейчас все хотят друг другу трясти руки и все в поте лица суетятся, размахивая категориями добра. Никто не хочет быть, так сказать, черствым в наше время. Для тебя это новость?
– В какое наше время?
– В противоречивую эпоху переоценки некоторых ценностей, – ответил Валерий смеясь. – Улыбки, вежливость, демократическое похлопывание по плечу – модная форма самозащиты. Люди изо всех сил хотят оставить о себе приятное впечатление. Надо знать это, не надо быть наивным. Реализм не должен убивать прекрасную действительность.
– Валя… Вале-рий!.. – послышался из столовой ласково-певучий голос Ольги Сергеевны, и потом легонько, будто ногтем, два раза стукнули в дверь. – У тебя Никита, голубчик? Прости, пожалуйста. Я жду тебя. И отец ждет. Прошу тебя, прошу, милый. Извините, пожалуйста, Никита, я вам помешала?
– Иду, иду, уважаемая мама! Одну минуту! – вставая, крикнул Валерий в тон ей так же ласково-певучим голосом и, наморщив обгоревший на солнце нос, сказал Никите: – Вот видишь, моя мама, добрейшая женщина, опасается очень, что ты обидишься. Мир соткан из условностей, Никитушка. Ну ладно, я должен ехать с уважаемой мамой в Столешников и как любящий сын изображать грузчика – таскать сухое вино и укладывать в машину. У нашего старика какая-то дата – именины или полуюбилей, понять невозможно. Это знает один он.
Валерий посмотрел на себя в зеркало, поправил бинт на горле.
– Ну, скоро увидимся. Всегда делай допуски: плюс – минус. Тогда средняя продолжительность жизни будет соответствовать статистике. Покеда! Располагайся у меня, полистай прессу и учти: в холодильнике на кухне – холодное пиво. Впрочем, не хочешь ли прокатиться с нами?
– Нет.
3
«Сейчас я поеду на телеграф и позвоню…»
Как только он вышел из подъезда старого шестиэтажного дома, вышел на солнце, на дующий жаром светоносный воздух летнего дня и как только увидел в тени деревьев, на троллейбусной остановке нежно-белые островки тополиных сережек, с невесомой легкостью летевший над тротуаром пух, Никита почувствовал облегчение, как будто что-то кончилось. Он знал, что впереди был длинный свободный день и до вечера не нужно было ни с кем разговаривать, против воли испытывая какую-то новую возникшую зависимость, неприятную ему, видеть вынужденное сочувствие, подчеркнутую скорбность, объяснять то, что не мог никому объяснить.
Вся противоположная сторона заарбатской улицы с шершаво-облупившимися домами была в коридоре сплошной тени. В густоте летнего зеленого полусумрака тополей темнели арки ворот, прохладно отблескивали стекла старинных подъездов, и в просачивающихся радиусах солнца проступали белыми пятнами под полуразваленными балкончиками мощные торсы кариатид. И веяло от каменных арок, от затененных листвой окон устоявшимся покоем, какой-то размеренной, уравновешенной жизнью тихой, отдаленной от центра улицы.
Троллейбус показался в глубине улицы, шел с мягким шумом, почти касаясь дугами веселой нависшей зелени, и Никите было приятно видеть по-летнему открытые окна, локти людей в них и видеть, как на круглых синеватых стеклах, стеклах аквариума, слепяще вспыхивали, перебегали солнечные искры, брызгавшие сквозь листву.
Троллейбус, весь запыленный, остановился, жарко дохнул пылью; теплый ветер от колес поднял с мостовой тополиный пух, облепил брюки Никиты, и он вскочил в пневматически разъехавшиеся двери.
…На многоголосом, душном, наполненном движением людей, беспрестанно звенящем вызовами звонков телеграфе на улице Горького Никита заказал срочный разговор с Ленинградом и, томясь в ожидании вызова, стоял возле названного номера кабины.
В тесной кабине потный, распаренный духотой мужчина – на затылок сдвинута соломенная шляпа, – начальнически выкатив глаза, угрожающе стучал кулаком по столику; шляпа его съезжала с круглой обритой головы; он поправлял ее плечом, сиплым голосом кричал в трубку:
– Я т-тебе не сделаю, я т-тебе не побегаю, Курышев! Ты у меня попьешь водочки в номере! Не-ет, я не из базы звоню, на свой счет из телеграфа звоню! Теперь-то досконально все понял. Я тебе враз распомидорю характер дурацкий!.. Ты у меня другие арии запоешь!
Около соседней кабины высокая девушка с распущенным на затылке хвостиком черных волос вынула из сумочки зеркальце, серьезно всматриваясь, провела мизинцем по растянутым, подкрашенным губам и вдруг, услышав сиплый крик из будки, фыркнула смехом в зеркальце, взглянула на Никиту черными смеющимися глазами, но сейчас же отвернулась, независимо тряхнув хвостиком волос. Он успел улыбнуться ей, как знакомой, и в то же время подумал:
«Но я могу не застать ее дома. Она не знает, что я в Москве».
В тот день после кладбища он, как в темных провалах, шел по Дворцовой набережной, подняв воротник пиджака, щекой прижимаясь к жесткому ворсу, – дуло предвечерним холодом от Невы, его знобило, и он еще физически ощущал мертвый холодок материной щеки, к которой в последний раз прикоснулся губами, как сделали другие и сделала Эля, перед тем как все должно было быть кончено и двое незнакомых людей с лопатами, подойдя, равнодушно стали смотреть вниз.
Он смутно видел свежую землю, край чего-то узкого, темного, с покачиванием уходящего вниз, и, понимая, зачем эта земля и это темное, прикусив губы, поднял голову и на миг встретился с огромными, умоляющими глазами Эли.
После какая-то золотистая мгла была в небе над Васильевским, там расплавленно горели окна в размытых закатом силуэтах домов, вспыхивали стекла еле видимых трамваев на далеких мостах, тонкими палочками равномерно и стеклянно взмахивали длинные весла гоночных лодок на Неве, и все буднично говорило о том, что ничего не изменилось в городе, а он слышал за собой то отстающий, то догоняющий цокот каблуков, знал, что все время от кладбища сзади шла Эля, но не окликала, не останавливала его.
Потом он, замерзая, облокотился на парапет, стал упорно смотреть на враждебно покойную багровость воды, боясь взглянуть на Элю. Она замедлила шаги, приблизилась, совсем неслышно переводя дыхание, облокотилась рядом и молчала, не шевелясь, как будто ее не было здесь.
С неотпускающей спазмой в горле он из-за поднятого воротника посмотрел, и Эля сразу почувствовала это – чуть-чуть дернулись брови, и она сказала шепотом:
– Ты только ничего не говори… И я не буду, если тебе не помешаю…
– Ты мне не мешаешь, – ответил он с усилием.
– Почему люди любят смотреть на воду? – тихо спросила она. – И еще на огонь… В детстве я любила, когда вечером топили голландку. Открывала дверцу и садилась к огню.
– Ты мне не мешаешь, – повторил он.
– Смотри, сколько чаек на Васильевском, – сказала она и заплакала, и Никита увидел, как она пальцем со страхом тронула прыгающие губы.
Тогда он, дрожа от озноба, подумал, что она тоже все время помнила тот тленный холод материной щеки, и он почти судорожно обнял ее, прижал к себе родственно, словно хотел защитить от того, от чего не мог защитить себя.
– Этого не надо, – сказал он охрипшим голосом.
– Нет, нет… Я не плачу.
– Мы уже ничего не можем.
– Ну нет, нет, просто подумала… Не обращай внимания. Больше этого не будет. Я в первый раз была на кладбище. Я не знала…
И, все не подымая глаз, осторожно положила ладонь ему на грудь, провела, потрогала его пуговицы, потом сказала так уверенно, точно они были знакомы не шесть месяцев, а шесть лет:
– Если ты хочешь, мы можем пойти к тебе. Делай, как считаешь лучше.
– Мы не можем ко мне.
– Тогда, если хочешь, пойдем к нам. Я скажу, и мои все поймут.
– Я не знаю твоих.
– Они поймут, они должны понять, – сказала она.
– Нет. Они не знают меня.
– Тогда пойдем по набережной? – сказала она, но не тронулась с места и все гладила ладонью его пуговицы на груди успокаивающими движениями; он старался сдержать дрожь озноба, и эта дрожь передавалась и ей.
…Она училась на первом курсе филологического факультета в том же университете, в котором учился и он, но Никита ни разу не встречал, не видел ее в коридорах, даже в студенческом буфете, до того как зимой они случайно познакомились в автобусе.
В тесноте близ механической кассы она стояла в облепленном снегом пальто и, сдернув перчатку, дуя на ладошку, ждала мелочь – сдачу – и на остановках жалобно смотрела на двери. «Не опускайте, пожалуйста, копейки!» Но – видимо, к счастью, – мелочи ни у кого не было, и Никита из-за спин видел ее взмахивающие, влажные от растаявшего снега кончики ресниц и влажные длинные брови. И тогда, набравшись решимости, он сделал вид, что не брал билета, достал мелочь, позвенел ею в горсти, смело протискиваясь к кассе; а она, как бы поняв, благодарно улыбнулась ему.
На остановке против университета они сошли вместе.
– Пятнадцатый, срочный, Ленинград, вторая кабина.
Высокая девушка, которая только что подкрашивала губы, уже разговаривала в соседней будочке, задумчиво чертила пальцем по стеклу; и не было того распаренного, потного, в соломенной шляпе мужчины, сипло кричавшего в трубку, эта кабина была свободна, – и Никита понял, что вызывали его.
Он вошел в кабину, густо надышанную после множества разговоров, захлопнул за собой дверцу, поспешно схватил трубку, шумевшую слабыми шорохами пространства. На том конце пространства несколько секунд молчали.
– Молодой человек, говорите! Ленинград, говорите!
– Москва, Москва…
– Говорите…
– Эля…
– Да, да, кто это?
Ее голос вдруг приблизился, задрожал в текучих шорохах, он был еще бестелесен, странно отъединен от нее, от выражения ее лица, глаз, губ, но звук этого голоса снова приблизился и повторил:
– Кто это? Кто это?
– Здравствуй, Эля, – проговорил Никита и нахмурился, заторопился, уловив упавшую тишину на том далеком конце провода. – Это я. Никита. Здравствуй. Не думал застать тебя дома. Хорошо, что я тебя застал. Мне повезло.
– Кто это? Никита? – обрадованно и близко вскрикнул ее голос и заговорил изумленно: – Ничего не понимаю, куда ты исчез? Тебя плохо слышно! Откуда ты звонишь? Москва, при чем здесь Москва?
– Я звоню из Москвы.
Она испуганно спросила:
– Ты не в Ленинграде? Я так и подумала, что ты уехал. Но ведь тебя освободили от практики. Ты давно уехал?
– Нет.
– Ну зачем же ты в Москве?
– Мне нужно, Эля.
– Хорошо, я не буду спрашивать. – Никита ощутил ее дыхание сквозь посторонний шелест. – Что ты делаешь сейчас?
– Стою в кабине на Центральном телеграфе на улице Горького. И разговариваю с тобой. А что ты делаешь?
– Я ужасно обалдела после экзаменов, лежу на диване и читаю «Трех мушкетеров». И слушаю Эдит Пиаф. По радио…
– Значит, у тебя все хорошо?
Никита не услышал ответа, лишь невнятный шорох тек по разделяющему их пространству, которое он мгновенно почувствовал по ее молчанию. Сжимая трубку, он ждал, когда прервется это долгое молчание.
– Эля, ты меня слышишь?
– Да, Никита, я в августе уезжаю в колхоз. Весь наш курс посылают куда-то в Ивановскую область. Когда ты приедешь?
– Скоро, Эля. Я тебя еще застану в Ленинграде.
– Когда?
– Не знаю. Но я скоро приеду. Видимо, через несколько дней. – И Никита незанятой рукой почесал нос. – Знаешь, это все-таки неплохо – лежать на диване и читать «Трех мушкетеров». В этом есть смысл. И, знаешь, я рад, Эля, что в нашем двадцатом веке существует все-таки телефон.
– Вы говорите три минуты, – сквозь щелчок в трубке вмешался в разговор, прервал их чужой голос. – Заканчивайте.
– До свидания, Эля, – быстро сказал Никита. – Уже три минуты…
– До свидания, Никита! До свидания, Никита.
– До свидания, Эля. Я рад, что застал тебя дома. Спасибо «Трем мушкетерам». До свидания. Я скоро приеду. Скоро.
Он повесил трубку, вытер пот со лба.
После этого короткого разговора с Элей, выйдя из темноватого и гулкого телеграфа на улицу Горького, горячо овеянный парным воздухом раскаленного асфальта, зажмурясь от острого, высокого солнца, Никита вздохнул с чувством внезапного освобождения от чего-то.
На улице, широкой и людной, все в этот час было оживленно, шумно, все было по-июльски жарко и пестро: добела выцветшие над витринами полотняные тенты; сверкающие стеклами газетные киоски, заваленные журналами; настежь открытые двери в глубине прохладных кафе, где перед зеркальными стенами люди пили соки и ложечками ели мороженое; металлические автоматы на тротуарах, бьющие в граненые стаканы струями газированной воды; повсюду короткие платья, обнажающие загорелые ноги женщин, белый цвет одежды, потные лица, и везде духота и та особая, кажущаяся праздной московская толчея, которая говорила о городе большом, шумном, перенаселенном.
Никита шел в этой толпе мимо переполненных кафе, мимо нависших тентов и подстриженных лип, мимо железных автоматов, возле которых четверо спортивных молодых людей, весело толкаясь, передавали друг другу стаканы с газированной водой; рыжеволосая девушка в узких брючках взяла стакан, кипящий пузырьками, и стеснительно отпила глоток, встретясь с Никитой суженными от прямого солнца глазами. И он с какой-то нежностью видел, как она, не допив, захлебнулась и водой и смехом, скосив чуть раскосые монгольские брови на загорелого, как будто только с юга, молодого человека, передразнивающего ее; сделав томный вид, он показывал, как она пьет, держа стакан двумя пальцами, оттопырив мизинец.
– Оставь, Володька! – притворно сердясь, крикнула девушка. – Я захлебнусь. Ты будешь отвечать…
– Мечтаю о медали «За спасение утопающих», – ответил парень, улыбаясь.
Были ему приятны эти летние голоса и летние лица, встречный скользящий мимо витрин водоворот людей, смешанные запахи открытых парикмахерских, разогретого бензина, веселая, солнечная испещренность тротуара, одежды; и весь этот разнообразный шум улицы властно вбирал в себя Никиту, растворяя его в своем ритме; и появилось ощущение, что это давно знакомо ему, что он давно живет здесь, но одновременно было приятно думать, что все-таки скоро он уедет отсюда…
Никита подошел к уютно блещущему пластиком табачному киоску, достал деньги, бросил их на резиновый кружочек в затененный полукруг окошечка. В эту секунду что-то толкнуло его, – и точно в пустоту упало, остановилось сердце… Он, задохнувшись, не поняв, что произошло, с мгновенной испариной быстро повернул голову, как будто рядом случилось несчастье и его звали на помощь.
«Мама!..» – с ужасом мелькнуло у Никиты.
Сбоку скользящей по тротуару толпы маленькая женщина шла в тени лип несколько расслабленной, утомленной походкой, как ходят пожилые, не совсем здоровые люди. И бросились в глаза: сахарно-седые волосы, с аккуратностью сколотые в пучок на затылке, наивный, кружевной, как у девочки, белый воротничок на темном платье и в худенькой опущенной руке кожаная сумка, тяжесть которой ощущалась…
Но, сопротивляясь самому себе, говоря самому себе, что все это похоже на наваждение, он чувствовал, что не хочет, не может этому сопротивляться, и в тот момент, еще не увидев лица женщины, как подталкиваемый, в слепом порыве, вдруг пошел за ней с желанием зайти вперед, посмотреть ей в лицо, но в то же время боясь увидеть его.
«Это же не она, нет… – говорил он сам себе. – Этого не может быть!»
Он то отставал, то шел в трех шагах от женщины, теперь особенно отчетливо различая заколки в чисто-седой белизне волос, тонкие синеватые жилки, проступавшие на руке, и угадывал необъяснимо родное, слабое в ее худенькой спине, в шее, в плечах, в ее маленьких ушах, видимых из-за этих собранных на затылке волос. И казалось, даже вдыхал запах ее платья, теплый, мягкий запах одежды.
Тогда, в мартовский вечер, мать вошла к нему в комнату, накуренную, холодноватую. Он сидел за столом, свет настольной лампы падал на развернутые конспекты, на пепельницу, полную окурков, но ничего не сказала и мягко, неслышно опустилась на стул возле окна, застыла там в тени, долго смотрела на него, руки на коленях, голова чуть наклонена, а ему стало неспокойно и как-то стесненно от ее взгляда.
Окна были не занавешены, чернели огромно, высоко, как провалы, среди сплошной черноты слабо белел неподвижный силуэт ее головы, и потому, что она молчала, ему вдруг представилось, что мать бестелесно растворяется в этой тьме, невозвратимо уходит куда-то за черные стекла.
– Мама! – позвал он и вскочил, зажег свет, шагнул к ней с охватившим его чувством опасности, оттого, что мать так долго молчала, так долго, незащищенно глядела на него, и тут увидел: в глазах ее, не проливаясь, блестели слезы. – Мама, ты что? – повторял он. – Ну не надо.
– Тебе никогда, сын, не бывает страшно… одному в комнате? – спросила она, по-прежнему не вставая, и ему стало жутковато оттого, что мать спросила это.
– Не понимаю, о чем ты?
– Страшно ведь быть совсем одному, правда?
– Я не хочу об этом думать.
– Да, конечно, конечно.
И мать встала и исступленно, сильно прижала его голову к груди, так внезапно сильно, что пуговица на ее кофточке больно врезалась ему в щеку. А он, обняв ее, боясь пошевелиться, снова увидел черный провал окна и почему-то редкие капли вечернего тумана, косо ползущие по стеклу, и слышал ее вздрагивающий голос, как будто она подавляла рыдания:
– Ты у меня один… совсем…
– Нас сейчас двое, мама… – прошептал он с грубоватой мужественностью. – Я уверен, все будет хорошо.
– Ты мягок, сын… Ты не можешь ничего скрыть в себе.
Она отпустила его голову и испытующе, точно хотела разгадать нечто неясное, незнакомое ей, вглядывалась в его лицо, ладонями сжимая его виски. И ему почудилось – от нее запахло вином. Но в эту минуту мать пыталась улыбаться ему сквозь слезы, а они все блестели в ее неправдоподобно напряженных и синих сейчас, как васильки, глазах, и она договорила странно:
– Скажи, ты снисходителен к людям? Ты им прощаешь?
– Мама, зачем ты говоришь это? – сказал он, понимая, что не имеет права раздражаться на нее, и пошел к столу, с минуту постоял там, потом сдержанно сказал: – Я не люблю давать себя в обиду… У меня достаточно крепкие кулаки. Не божий одуванчик, мама.
– Кулаки? – слабым криком отозвалась мать. – Никита… Мальчик ты мой!..
И она опустилась на стул, качая из стороны в сторону головой, прижимая пальцы к глазам; затем выпрямилась.
– Прости, пожалуйста, – чужим голосом сказала мать.
А он с тревожной ясностью вспомнил о периодических приступах ее болезни в последнее время и о том, что она уже неделю проходила обследования у врачей, и его испугал этот ставший фальшивым ее голос.
– Мама, что они сказали?
– Прости меня, пожалуйста, – повторила мать тем же измененным голосом и, непонятно зачем торопясь, пошла к двери в свою комнату, а когда закрывала дверь и оглянулась в сторону Никиты, на лице ее мелькнуло выражение обнаженного страха.
– Прости меня, – разбитым голосом повторила она в третий раз, за прикрытой дверью, и скрипнули пружины дивана: она, видимо, легла. – Я отдохну немного. Я как-то устала. Не входи, пожалуйста, я разденусь.
Никита стоял перед дверью, прислушиваясь к скрипу пружин, к ее дыханию, и в бессилии ожидал возможного приступа болей, с которыми теперь боролась мать, и представлял, как она лежит там, в своей комнате, на диване, в окружении книжных стеллажей, возвышающихся над широким письменным столом, на уголке которого белели мелко исписанные листки, – здесь вечерами она всегда писала конспекты к своим лекциям.
– Мама, – твердо сказал Никита, – почему ты все время уходишь от разговора? Ты ни в чем не виновата ни передо мной, ни перед кем! Что тебе сказали?
– Ради бога… – отозвался из-за стены высокий захлебнувшийся голос матери. – Ради бога, Никита!..
Это «ради бога» словно умоляло не продолжать разговора, не напоминать о том мучительном и противоестественном физическом ее состоянии, которое она всеми силами скрывала в течение последнего года, а он уже обо всем догадывался.
Иногда ночью его будили заглушаемые подушкой стоны из-за стены, внятный, но осторожный скрип пружин, шаги, еле уловимое в тишине позвякивание ложечки о пузырек, полоска света желтела под дверью. И тогда он тихо, настороженно окликал ее: «Мама, ты что?» Все смолкало в той комнате, гасла полоска света под дверью, и потом чрезмерно спокойный голос матери отвечал: «Совершенно замучила бессонница, извини, если разбудила». Но после повторявшихся пробуждений Никита подолгу не мог заснуть, в беспокойстве ждал, что мать все-таки позовет, попросит лекарства или грелку, попросит, наконец, открыть форточку в ее комнате. Никита знал, что у нее не бессонница, а что-то другое, серьезное, потому что мучения ее стали повторяться все чаще, были все длительнее, однако мать, перетерпев приступ, говорила со слабой улыбкой, что хроническую бессонницу современная медицина не научилась лечить. Она обманывала и себя и его, оттягивала время, не хотела показаться врачам, боялась вернуться от них с приговором.
Раз ночью, разбуженный стонами за дверью, каким-то мычанием, как под пыткой, он вскочил с постели и, не зажигая у себя свет, вошел к ней. Мать, прозрачно-бледная, в ночной пижаме, сидела, отклонясь к стене, на диване, белой дрожащей рукой наливала в большую рюмку водку, дверца тумбочки была открыта, горела настольная лампа на краю стола, под светом белела развернутая книга, исписанные листки бумаги; стеллажи в полутьме уходили к потолку. Увидев Никиту, его непонимающие глаза, мать вздрогнула, отставила рюмку и каким-то обнаженным, пронзительно-синим, полным боли взглядом посмотрела на него снизу вверх. Будто умоляла его ничего не говорить, ни о чем не спрашивать. И он, впервые до спазмы в горле захлестнутый страхом, осознанно, молча смотрел на ее по-девичьи тонкую руку, на рюмку, на этот болезненно исходивший от ее взгляда синий свет, лучащийся молчаливей мукой. И, готовый не поверить, что именно так каждый раз мать чудовищно обманывала свою боль, так ложно успокаивала ее, Никита лишь сумел выговорить:
– Мама… ничего… выпей, если это помогает тебе… выпей.
Опустив веки, мать отвернулась, чтобы он не видел ее лица, не видел, как она пьет, поднесла рюмку к губам и сквозь сжатые зубы, с отвращением выцедила водку. Потом, откинув голову, попросила слабым движением губ:
– Выйди, Никита… Не хочу, чтобы ты подумал не так… У меня всегда хватало сил. Но сейчас – нет…
И он, впервые оголенно прикоснувшись к непоправимому, к тому, что происходило с матерью, прошептал:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































