Текст книги "Март"
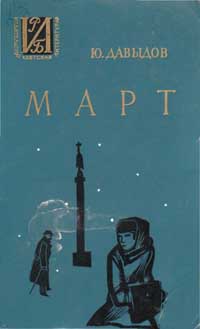
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Посреди заседаний, обсуждений, распоряжений и указаний Михаил Тариэлович не забывал некое обстоятельство, которое ему действительно забывать не следовало.
Идею Верховной комиссии высказал цесаревич. И цесаревич прочил себя в диктаторы. Следовательно, на него, Лориса, хотя он и ни при чем, могли затаить гневливую обиду. Отец тоньше сына в прямом и переносном смысле. Но у последнего куда больше характера. Если, конечно, понимать под характером желание валить валом, не ведая сомнений… С одной стороны, задача: обрести благорасположение Александра Александровича, выказывая ему преданность и якобы дожидаясь именно от него, наследника, указаний. С другой стороны, задача: не вызвать ревнивого неудовольствия Александра Николаевича. Милютин прав: забравшись на вышку, лучше различаешь соотношение предметов. Все смертны, все под богом, а государь-то еще и под Исполнительным комитетом… И граф Лорис-Меликов не оставлял своим вниманием цесаревича. Вот и нынче хлыщеватый майор, ординарец Лориса, поскакал в Аничков дворец с записками начальника Верховной распорядительной комиссии:
СЧИТАЮ ДОЛГОМ ПОЧТИТЕЛЬНО ДОЛОЖИТЬ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, ЧТО СЕГОДНЯ СЧЕЛ НЕОБХОДИМЫМ ОПРОСИТЬ ПОДРОБНО ДЕЖУРНОГО ПО КАРАУЛАМ И ДРУГИХ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ПРОПУСКА ВО ДВОРЕЦ ЛИЦ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВЕДОМСТВ ПОДРОБНОСТИ ЭТОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ ЛИЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ МОИ БУДУ ИМЕТЬ ЧЕСТЬ ДОЛОЖИТЬ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ.
НЕДАВНО ПОЯВИЛИСЬ БЫЛО ЛИСТКИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ», ОТПЕЧАТАННЫЕ НА РУЧНОМ СТАНКЕ И В ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. НАДЕЮСЬ, С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ, РАЗДЕЛАТЬСЯ В САМОМ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И С ЭТОЙ НОВОЙ ПЕЧАТНЕЙ РЕВОЛЮЦИОНИСТОВ
ПРИ СЕМ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЭКЗЕМПЛЯР ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫХ ПОКАЗАНИЙ ГОЛЬДЕНБЕРГА, ЭКЗЕМПЛЯР ЭТОТ СОСТАВЛЕН ДЛЯ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА И ПОЭТОМУ, ВОЗВРАЩЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ, ЯВЛЮСЬ СЕГОДНЯ В 8 ½ ВЕЧЕРА
Глава 13 В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЮ ВЕЧЕРА
Отставные офицеры в потертых сюртуках вспоминали Плевну, молодецкие штыковые и, вспоминаючи, уже изрядно насандалились. Бородатые студенты Академии художеств цедили пиво в компании со слушателями Медико-хирургической; будущие лекари стриглись ежиком и носили пенсне, хотя многие в нем и не нуждались. За другими столиками хлопали рюмку за рюмкой приказчики Гостиного двора – великие знатоки коммерции, галантные женишки толстоногих купецких дочек.
Ресторан при Пассаже был из числа «общедоступных», но не относился к заведениям «низшего разбора». Для Дениса был он хорош всегдашним своим многолюдством, наличием нескольких зальцев, кабинетиков, выходом на две улицы.
Денис дожидался Клеточникова.
«Ангел-хранитель» был тем человеком, из-за которого Волошин после московского взрыва ездил в Симферополь и Ялту, сводил знакомства с адвокатом, мировым судьей, канцеляристами. И вот именно он, Клеточников, согласился служить в Третьем отделении ради Михайлова, ради «Народной воли». Услуги неоценимые, в практике революционной невиданные, но, сам не разобравшись отчего, Денис с первой встречи не проникся к Николаю Васильевичу особой приязнью. Правда, Денис пытался стать с ним на дружескую ногу, но как-то все неловко получалось, и оба заняли позицию строгих, чисто конспиративных отношений. Отношения эти, видимо, тяготили Клеточникова, и он однажды дал понять Волошину свою обиду на то, что его держат вдалеке от организации, ни во что не посвящают, ото всего как локтем оттирают…
Клеточников, щурясь, бочком пробирался между столиками. «Черт возьми, – дернулся Денис, – какая лимонная физиономия. Ну болен, ну чахотка, и, должно быть, действительно противно торчать в доме у Цепного моста, но, однако ж, эта постоянная тревога, пасмурность…»
Они поздоровались. У Клеточникова горячо влажнела рука. Он сел, снял очочки в серебряной оправе, глуховато покашлял.
– Вам нехорошо? – вежливо осведомился Волошин.
Клеточников закраснелся:
– Нет, спасибо, ничего-с.
Стали ужинать. Николай Васильевич ел нехотя, уши у него двигались, и это раздражало Дениса.
В прошлый раз Клеточников не обрадовал: сказал, что политический сыск в столице отныне будет вершить не только Кириллов, но и секретное отделение градоначальства, а стало быть, он, Клеточников, не всегда и не во всем сумеет упредить Исполнительный комитет. Потом Николай Васильевич сказал, что толком ничего еще не вызнал об «известном арестанте», ибо предписание о заточении в «нумер пятый» до сих пор, хоть и минуло семь лет, хранится в кабинете управляющего Третьим отделением, куда Николай Васильевич доступа не имеет.
Судьба «известного арестанта» не слишком-то занимала Дениса. Михайлов недоумевал: кто бы это мог быть? Сошлись на том, что в Алексеевской – не товарищ по «Народной воле». Припоминали, припоминали, ничего не припомнили.
Впрочем, нынче Клеточников не об этом узнике заговорил, но о другом, и Денис, услышав «Гольденберг», тотчас навострил уши.
(Гришу видел Денис в домике «Сухорукова». Потом Гольденберг поехал в Одессу. И больше его не видели и видеть не могли, потому что Гришу дорогой арестовали, посадили в Одесский тюремный замок и начали следствие. Михайлов не делился с Волошиным своими опасениями, выдержит ли Гришка одиночное заключение и угрозу смертной казни, которая ему «полагалась» за убийство губернатора Кропоткина. Но Михайлов всегда спрашивал, не сообщил ли Клеточников чего-нибудь про Гольденберга.)
– Утром мне было велено, – говорил Николай Васильевич, – перебелить экстракты его показаний. Перебелял трижды – для государя, для Лориса и для наследника. Вот-с и запомнил почти слово в слово.
– Да-да, слушаю, Николай Васильевич.
– Делом его занялся прокурор Добржинский, – продолжал Клеточников с какой-то особенной раздумчивостью. – Вам это звук пустой, а у нас он известен безмерной хитростью и – как бы это? – и отсутствием даже намека на юридическую порядочность.
Волошин нетерпеливо пошевелился.
– Пожалуйста, но торопитесь, – сухо заметил Клеточников. – Я хотел бы… Мотивы Гольденберга…
– Какие мотивы?
Клеточников закашлялся, брызгая слюной.
– Выдает? – прошептал Волошин.
– Мне… мне не хотелось бы так. Но, к сожалению, называет имена.
– Какие? Кого?
– Пожалуйста, не торопитесь, – отчужденно повторил Клеточников и опустил глаза. – Понять его надо, вот что. Понять, а потом судить. Вот они там, жандармы… они не хотят понимать, да им и нет нужды, а нам надо. Они все его рассуждения, мотивы то есть, к черту… Так вот. Вы уж слушайте, пожалуйста. В одиночном заключении жизнь, говорят, останавливается, нет больше волнений текущей жизни, и человек сосредоточивается, размышляет.
– Николай Васильевич… – перебил Волошин.
– Хотите слушать – слушайте, – вспыхнул Клегочников. – А не хотите, пусть Петр Иванович. Да-да, Петр Иванович.
Он с расстановкой произнес «Петр Иванович», и Денис опешил: Клеточников не знал Михайлова, а знал Петра Ивановича, но теперь… теперь, кажется, знает, что Петр Иванович не кто иной, как Михайлов.
– Извините, Николай Васильевич, – осторожно сказал Волошин, – я вас слушаю. Но… но и меня понять ведь тоже можно?
– Конечно, – смягчился Клеточников. – Вы не сердитесь. Я просто… Если бы речь о шпионе, о филере, то я б не стал. Но тут другое. Ведь это не шпион, тут один из «стаи славных». И вот поэтому я и не хочу сказать. Он начал с того… Он начал защитой товарищей. Говорил, что движут ими не личные выгоды, а глубокие гражданские убеждения, что они хотят полного развития каждой отдельной личности и свободного развития всего народа. Говорил, что спокойно мог бы умереть на виселице, если б его смерть, личная-то его смерть, была искуплением. Но все наши устремления, говорит, приводят к гибели всё новых, все новых, а самым главным деятелем сделается в России… Фролов.
– Фролов? – не понял Денис.
– Палач Фролов, – мрачно пояснил Клеточников. – Да… И вот он, Гольденберг, считает: фракция террористов – на ложном пути, движение будет раздавлено.
Денис, облокотившись о стол, сжимал лицо ладонями. «Трус, негодяй, – думал Денис, – а этот еще нюни разводит, оправдания ищет…»
– И вот тут корень, – запинаясь и будто с самим собою рассуждая, говорил Клеточников, – Он решается… Это, заметьте, когда почти полгода в одиночке, а вокруг так и вьется, так и вьется Добржинский… Решается на новый подвиг самоотвержения… Так, заметьте, и расценил: самоотвержения. И призывает своих товарищей…
– К чему? – Денис все сильнее сжимал запылавшие щеки.
– А к тому, чтобы сложить оружие. Для блага молодежи, для блага родины… знаете, невозможно, ну совершенно невозможно не верить его искренности. В моей-то передаче оно не так, но когда читаешь… Нет, нет! Я знаю толк в почерках. Тут рукой если и нетвердой, если и дрожащей, но рукой водит сама искренность, тут кровь, чистая слеза угадывается. Тут такое… – Голос у Клеточникова пресекся, его опять ударил кашель.
Денис залпом выпил водки.
– Он говорит… – Клеточников трудно дышал. – Он считает своим высшим долгом доказать правительству, что фракция террористов не так страшна, что правительство может избрать иные средства борьбы, не казни, которые лишь производят тяжелое впечатление и ведут к барьеру новых. Вот они, его мысли. Понимаете?
– Я только одно понимаю… – медленно и злобно сказал Денис.
– Нет, нет, не надо, – заспешил Клеточников, – не надо так. И потом… Забыл! Совсем забыл! В камеру к нему посадили еще одного, и Гольденберг ему доверился, а тот…
– Дурак! – ахнул Денис. – Еще и дурак к тому же.
– А Добржинский знаете что? – Николай Васильевич сплел испачканные чернилами пальцы. – Добржинский-то успел убедить его в важности борьбы с террором и в том, что исполнит, непременно исполнит просьбу Гольденберга, чтобы ни один волос не упал с головы его товарищей.
– Боже мой, боже мой, – чуть не простонал Денис, – и на такую мякину клюют!.. Но кого же, Николай Васильевич?.. Я все понял, все заметил. Спасибо. Но кого же он?
– Себя первого. И про Харьков, как Кропоткина убил, и про подкоп в Москве. Об этом подробно: всех, кто был.
Денис выпрямился и опять припал к столу.
– Михайлова назвал, – сказал Клеточников. – Про Михайлова он много. И, знаете, в высшей степени уважительно, сердечно. Да ведь и как же про него иначе? И Перовскую назвал. Одного какого-то не знал по имени. – Клеточников посмотрел на Дениса долгим взглядом. – Имени не знал, но приметы… ваши. Да-с, приметы… Но больше других о Михайлове. – Он помолчал. – Скажите непременно… Петру Ивановичу.
– Я все передам, все передам, – будто из-за стены ответил Денис.
– Еще про Воронежский съезд открыл. И как все устроено: Исполнительный комитет, агенты… Ну, вы знаете. Да, вот и еще: есть, говорит, некий Желябов – личность гениальная, в высшей степени развитая.
– Одесских тоже? – безнадежно, как бы издалека спросил Денис.
– Да. Динамит, признался, получал у Колоткевича.
– И приметы?
– Не только приметы, но интимное… – Клеточников косо поднял плечо. – Тут уж, верно, как с горы полетел. Связан, говорит, большим, сердечным чувством с какой-то Гесей. Да-с, вот как.
Денис чувствовал странную пустоту, изнеможение, будто вся кровь из жил. И когда после долгой паузы Клеточников стал говорить об «известном арестанте», о том, что узник Алексеевского равелина прислал каталог с пометками, какие книги ему нужны, и что по этим пометкам, если показать старым деятелям, может быть, удастся установить его имя, – когда Клеточников стал все это рассказывать, Денис лишь тупо теребил оборки скатерти.
Глава 14 ЗАТИШЬЕ
Дорогу на Кронштадт замело. Если б не жердины на обочине, ничего бы не стоило увязнуть в перекатных сугробах Финского залива. Лошади ступали, низко нагибая головы, будто принюхиваясь. В сумятице метели звонил колокол, пособляя держать направление.
Возок поравнялся с будкой. Из будки вышел часовой-звонарь, окликнул:
– Ваше степенство, простите великодушно. Нет ли покурить? – и засеменил в своем долгополом тулупе рядом с санями.
Желябов выпростал папиросы, фосфорные спички.
– Благодарствуйте, ваше степенство. Чистое дело околеть можно: ни зги, один в поле воин.
Часовой отстал.
Андрей уткнулся носом в воротник, барашковую шапку посунул ниже, на брови, прислушался к отдалившемуся колоколу. «Один в поле воин»… И вспомнил: «Один в поле не воин». Был такой роман Шпильгагена. Гимназисты читали запоем, из рук рвали, и они с Мишкой Тригони тоже читали там, в Керчи. Ужасно жалели Сильвию и Лео… Керчь, Крым – хорошее время. И Соня тоже жила в Крыму. В Севастополе Соня жила, на Северной, говорит, стороне, где балки, виноградники, песчаный берег. Вот поди ж ты – оба жили в Крыму, да только не знали друг друга, годы понапрасну минули… А Саша – решительный противник любви. Эта, говорит, грамота не про нас писана. Пожалуй, он прав. Сами взвалили на плечи превеликую ношу. А когда грузчик, согнувшись и напружившись, тащит по трапу пудовые грузы, лицо его искажается. Так и нравственный облик: он искажен отказом от радостей жизни, отказом от красоты ее. Но разве Геся перестала быть нашей Гесей оттого, что любит Колоткевича? И разве Колоткевич переменился оттого, что любит Гесю? Ты не прав, Михайлов… Но если по чести, то мне уж не до того, прав ты иль нет. Совсем не до того мне, милый ты наш придира. И уж как ты там хочешь, а я люблю ее, и баста.
Ветер, плавно сдвинув тучи, повел пургу к Невскому устью. Небо над заливом посветлело, холодно и чуждо засветилась Вега.
Кто-то из древних сказал: «Что мне до звезд, когда на земле я вижу кровь и рабство». И вот Николу Андрей застал однажды у окна; в отрешенном раздумье Кибальчич созерцал петербургское ночное небо: «Когда-нибудь люди…» В звездах, в фантазиях тоже радость жизни, как и в любви. А древний философ? Быть может, не прав, как не прав Михайлов? Или не совсем прав? Желябов опять подумал о Соне и о том, что вот и ему, оказывается, есть дело до звезд.
К морякам Кронштадта Желябов ехал не впервые. Началось все знакомством с лейтенантом Сухановым. Знакомство завязалось просто. У Сони в Петербурге обнаружилась старинная, по крымскому еще житью, приятельница – Ольга Зотова. Суханов, флота лейтенант, приходился ей родным братом. У Зотовой и повстречались.
Желябов еще в Одессе приметил черту, свойственную многим офицерам военного флота: они были славные ребята, крепкие в дружестве, без армейской фанаберии и притом, что самое главное, весьма свободомыслящие. «Такие уж, – шутили, – по традиции мы». И это неискоренимое презрение к Третьему отделению… Как-то заподозрили жандармы одного мичмана, сообщили командиру корабля – мол, присматривайте за ним, а командир, не будь плох, зазвал в каюту мичмана и говорит без предисловий: «Я, слава богу, моряк, а не сыщик, но вы, сударь, осторожнее…» А недавно Суханов рассказывал: какой-то болван-прапорщик сдуру, что ли, а может, с тяжкого похмелья напросился в Отдельный корпус жандармов; офицеры перестали подавать ему руку, за один стол не садились; мало того, потребовал прапорщика адмирал, глянул на него презрительно да и огрел: так вот, дескать, какой вы огурчик, честный офицерский мундир на мундир шпиона меняете?!
Тут, конечно, не осознанная враждебность к монархии, а брезгливость – доносительство, тайный сыск противны кодексу порядочного человека. У Суханова это серьезнее, основательнее. Он еще в Морском училище замешан был в «историю», кое-как потушенную начальством, а на Сибирской флотилии, где начинал службу, сошелся с политическими ссыльными.
Да, у Николая Евгеньевича все серьезнее, капитальнее. У него, как он выражается, крепкий киль: Чернышевский, Герцен, Лассаль… Однако, признавая высокие цели «Народной воли», Суханов рубил: «Бой на улице – и я с вами, Андрей Иванович. Не время? Тогда – опять в народ. И честью клянусь, я тоже с вами. Но террор? Ведь это ж, право, отход от народа». И у Софьи слезы навернулись: «Да-да, я вот всегда хотела жить в деревне и работать с крестьянством. Но поймите, поймите же, нам не дают, нас душат, нам нет другого выхода».
А в Исполнительном комитете уже прикидывали, как бы с помощью лейтенанта Суханова сколотить военную группу. Дело отдали Андрею, он зачастил в Кронштадт.
Поначалу будто сладились, пошли полным ветром. В квартире Суханова порядком набивалось гостей, народ корабельный, с училищной скамьи знакомый. Андрей излагал программу «Народной воли» и чувствовал, что недаром старается. Но террор многим казался чем-то недопустимым для военных. И гостей у Суханова поубавилось. Желябов его утешал: «Пусть меньше, да лучше».
В январе и в первых числах февраля, ожидая взрыва в Зимнем, Желябов, понятно, из Петербурга не отлучался. Теперь, когда Халтурин уехал на юг и когда комитет устроил новую печатню, – теперь Желябов катил к морякам, чтобы столковаться об уставе военного кружка народовольцев.
Огни Кронштадта приблизились и раздробились. Возок миновал шлагбаум. И сразу пахнуло крепостью – мерзлым чугуном, гранитом, якорными цепями. Мрачно темнели казармы флотских экипажей, пакгаузы с боеприпасами, шлюпочные сараи.
Сани, визгнув полозом, поворотили. Еще один поворот – и вот уж извозчик осадил у крыльца под железной, через весь тротуарчик крышей.
Желябова втащили в натопленные, ярко освещенные комнаты. Он весело отбивался:
– Пираты! Черти!
Суханов, высокий, красивый, в белой рубахе с слабо повязанным форменным галстуком, сиял.
– Спаси! – взывал Желябов.
Суханов шагнул к приятелям-лейтенантам, одного за пояс потянул, другого в плечо толкнул, рассмеялся:
– Да полно, братцы!
* * *
И в Москве, и в Питере, когда готовились покушения, Перовская все надеялась, что, как только с «этим» покончат, она отрясет динамитный прах и вернется к «пропагаторству», в деревню вернется, к народу.
Неудача в Зимнем, несмотря на устрашающий эффект взрыва, тяжкой была вдвойне. Тяжел был сам по себе провал дела, поглотившего столько сил, но еще горше было сознавать, что исполнение приговора над царем опять отодвигается на какой-то неопределенный срок и что террор, подобно джинну, выпущенному из бутылки, все крепче и, по-видимому, надолго завладевает организацией. И отсюда неизбежное: она, Софья, не скоро вернется в деревню, к «пропагаторству», к истинным обязанностям народника-социалиста. Как бы горячо, как бы искренне она ни возражала Суханову, но в его словах: «А вы отходите от народа» – слышалась ей справедливая укоризна.
Да, были кружки среди рабочих, не только наследные от «Земли и воли», но и вновь собранные, и не только на питерских окраинах, но и в фабричных московских предместьях, и в других городах. Андрей и Михайлов, студент Гриневицкий и Геся, и еще, еще товарищи поспевали к рабочим. Софья, однако, видела, знала: почти всё и всех забирает террор. И, попадая вновь на Шлиссельбургский тракт, она чувствовала вину за свое слишком долгое отсутствие.
Конечно, здесь, за Невской заставой, не деревня, не коренная Русь. И никуда не деться от гари, от этих грозных труб Невского судостроительного, Торнтона и Максвелла, от этих кирпичных корпусов, похожих на тюрьмы; никуда не деться от сиплых гудков, безобразно сотрясающих воздух, от этого шального уханья, и скрежета, и рыжего пламени огромных механических кузниц с паровыми молотами. Все это, думала Софья, противостоит коренной России, как гений зла – гению добра. Но здесь, в деревянных домишках на каменных полуэтажиках, в осклизлых казармах жили те, что и составляли народ. Правда, опять-таки не народ изначальной Руси, а уже «порченный» смрадом города, откатившийся от матери-земли, от крестьянства, не становой хребет будущей революции, но все же тот самый народ, ради которого надобны и динамитные хлопоты Кибальчича, и подкопы, и сундук Халтурина, и конспиративные замыслы Михайлова.
Когда-то она жила за Невской заставой. У нее был паспорт «законной» какого-то мастерового, был полушубочек, платок, сапожищи. Она топала в лавку, гремела ухватом и таскала воду из проруби на Неве. Сюда, за Невскую заставу, приходили ее друзья – пропагандисты. В ту пору еще не очень-то таились шпиков, еще не набили синяков, а потому и не чурались широкополых шляп, рубах навыпуск с воротниками, вышитыми красным узором, и толстых суковатых палок, то есть того, от чего за версту отдавало «нигилистячьим духом».
Я помню дом за Невскою заставой.
Там жили бедность, дружба и любовь…
Поздними вечерами собирались у Софьи ее «первенцы». Она читала им нелегальные книжки, рассказывала о французской революции, о том, что такое социализм, и была счастлива видеть на лицах и трудное раздумье, и ту мгновенную озаренность, наивную и трогательную, которая означала: «Ну вот, вот оно самое и есть! И мы так-то думали, да только ворочалось, будто жернова, а с языка не шло».
Как ни странно, но тайные сходки были оживленнее, стоило лишь тронуть вопросы, далекие от политики. Стоило заговорить о происхождении мира, о движении Солнца или фазах Луны, то бишь о том, что представлялось Софье как дважды два, и слушатели готовы были сидеть хоть до утренних гудков.
Товарищи недоумевали вместе с Перовской: гётевское «бескорыстное любопытство»? Но потом поняли: «чудеса мира» имели, оказывается, прямую связь… с экономическим положением, с социализмом. Ошибка была в том, что они, пропагандисты, начинали рушить «Хеопсову пирамиду» с вершины, а надо было расшатать ее основание – невежество. Тут все было сшито, как скобами, – «чудеса мира» и политика.
Софья шла мимо трактира «Китай». Бухнула дверь, заклубился пар, она услышала музыкальный ящик, вспомнила, что раньше в «Китае» певали не жалостливое и не разухабистое, но бунтовское, вроде «Долго нас помещики душили».
* * *
Со слесарем Невского завода Софью свел котельщик Тимофей Михайлов. Тимофей, член «Народной воли», был большим приятелем Матвея Ивановича, несмотря на то что котельщику едва минуло двадцать, а слесарь «распечатал» пятый десяток.
Иваныч слыл искусником высокой марки; даже начальник сборочной мастерской Зигер, лютый, как дюжина ведьм, признавал: «Этот шелофек – золоти руки». Жил Матвей Иванович бобылем; домишко достался ему от деда и отца, которые до самой своей смерти пробавлялись ямской гоньбою. Был у Иваныча прежде друг, тоже слесарь, и все в заводе дивились дружеству тихого Иваныча с Марком Прохорычем. Да и было чему удивляться! Ведь тот-то, Марк-то Прохорыч, об иконах круто выражался: ими-де горшки ночные покрывать, а уж на царей земных и вовсе дерзословил. Ну, известно, чем такое кончается: запаяли наглухо в каторжной тюрьме, там он и помер. А Иваныч ударился пить, да так, что даже трактирщик в «Китае», видавший виды, качал башкой: «Пропал мужик!» Однако Иваныч внезапно как зубилом отчекрыжил. Разрешит себе бутылку пива, и шабаш. В чем тут была причина? Слышали, заладил Иваныч в школу Технического общества, чтения по естественным наукам слушает. А чтобы в «Китай» – редко. Разве что на «отвальную» или «привальную».
Так-то вот, на «привальной», и увидел он Тимоху Михайлова, и день ото дня смостилась дружба. Ничем, кажется, внешне не походил толстогубый скуластый Тимоха на Марка Прохоровича, а Иваныч признал в котельщике тот же чекан, какой был у погибшего в централе товарища. Распахнутая душа у Тимохи, и ничего он не ценит выше справедливости, готовности постоять за своего брата, заводского. И месяца не отработал Тимоха на Невском, как жестоко поколотил сукиного сына мастера Аполлонова, по всем правилам – втемную. Ну еще одно, пожалуй, и не очень-то примечательное обстоятельство трогало за сердце слесаря-бобыля: смоленский был Тимоха, а корнями Иваныч недрился в краях Смоленских, хоть сам отродясь и не бывал нигде, кроме Питера.
Тимоха, шатнувшись из деревни на городские заработки, ремесел не знал да и грамоты почти тоже не знал, по складам вывески читывал, потея, как на молотьбе. Бог, впрочем, не обделил парня умом, как помещик – тятьку его землею, и Тимоха очень скоро понаторел не только в котельном ремесле. Первая книжечка, которую он взял осадою, была «История одного крестьянина». «История» сказывалась от первого лица, от имени крестьянина Мишеля, и, право, чудно было думать, как же это – мужик мужиком, а так ладно все сложил. А жизнь мужиков в этой самой державе, во Франции, была раньше такая же, как и у Тимофея в деревне Гаврилкове, но французские лапотники поднялись в топоры и вышибли короля с королевою. То-то, должно, получилась потеха!.. Потом поплыли к Тимохе и другие книжечки: «Хитрая механика», «Сказка о четырех братьях», да и легальные, скажем, писателя Успенского или писателя Решетникова. Потом попались номера газеты «Народная воля». И как начитался он, так и взялся лепить Матвею Иванычу вопросец за вопросцем: «Что делать?», «Почему терпим?», «Не пора ль разогнуться?»
Иваныч отвечал в том смысле, в каком слыхивал прежде от Марка Прохорыча: надо, мол, парень, сговаривать нашего брата, рабочего то есть человека, на общую борьбу против всех сытых, против бар, купцов, заводчиков… Однако как сговаривать, куда звать «нашего брата»? Не просто ведь бить да резать, жечь и топтать, а со смыслом, с прикидкой на будущее… Тут и заклинет Иваныча. Беда! Озадаченно нюхнет табачок-самотерок, туда-сюда по горнице. Или мрачно, с затаенной обидой молвит: «Были б мы, парень, все за одного, так никто б не посмел таких, как Прохорыч, пальцем коснуться, а такие-то, уж они бы, парень, доперли, чего и как».
Но выдался день – соткнулся Тимоха с Тарасом. Послушал его однажды, послушал в другой раз, и вдруг задышалось легко, будто спросонья из курной избы – в ясный утренник.
Тарасом звали в кружках Желябова. Он тоже говорил, что надо рабочему теснее друг к дружке, в братское сообщество, но не затем лишь, чтоб еще пятак выдрать, а чтобы всем «забастовать работу», грянуть на правительство вместе с солдатами, которых приведут умные и честные офицеры. Нам бы только распочать, говорил Тарас, а пожар жарче жаркого займется в деревнях. И этот Тарасов упор на деревню, на мужика тоже пленил Тимоху. Лишь бы «ударить по голове», намекал Тарас на цареву персону, а там уж как в песне: «сама пойдет».
Будто запьянел Тимоха от таких речей, да и Тарас будто пьянел от них, того гляди, кликнет: «Гей, ребята! За мной!» И эх, черт не брат, подхватились бы и Тимоха, и все другие.
Иваныч, однако, неприятно поразил Тимофея несогласием с Желябовым. Иваныч, видишь ли, свой «ранжир» имел: не за царя только ухватиться надо, не за набалдашник, твердил, а за всю палку разом. Об этом самом «ранжире» нередко они спорили…
Сшиблись и в тот вечерний час, когда Софья, миновав трактир «Китай», убыстрила шаги, направляясь к дому Иваныча.
– Пойми, – вразумлял слесарь, доставая из штанины кисет, – пойми, парень: не он один. Ну, его не будет. Ну и что? Другой Захватай Захватыч, который на мешке с золотом восседает, вроде нашего Семянникова, заграбастает власть, и пикнуть не пикнешь.
– Ох ты, – насмешливо воздыхал Тимофей, – и как это ты, друг дорогой, до зимы в волосах дожил, а простого разуметь не можешь? Да ведь эдак мы только зачнем.
– А ни шиша не сделаешь, мил человек. – Иваныч сердито сопел, забывал про кисетик. – Больно прыткие, мил человек. – Он угрожающе махал корявым пальцем. – Великое дело делать – не пиво глушить. Тут сто раз обдумай да десять годов подготовку веди.
Тимоха выпятил губы:
– Ну-у-у…
– Чего дудишь? – накинулся Иваныч. – Чего?
– Хватил: десять годов! Под лежачий камень вода не течет, знаешь?
– Не меньше твово знаю!
В ту минуту и вошла Перовская.
– Вы что сычами-то смотрите? А? Чего не поделили?
– А ну его! – Тимофей в сердцах плюнул. – Неуломный!
Софья уже слышала от Тимофея про «неуломность» Иваныча, но еще ни разу не скрещивала с ним копья. Впрочем, Иваныч как бы сторонился ее, не то стесняясь «барышни», не то попросту из упрямства.
– Но все ж? – настаивала Софья. – Скажите, Тимофей.
– Да вот, понимаете ли, сто лет жить думает и все сиднем сидеть.
– Брось врать! – взорвался Иваныч. – Чего врать-то? «Сиднем сидеть»! Эка вывернул, шельма! Я, барышня, такой резон имею, чтоб не самовар спервоначалу бить, а силушку копить, общий сговор делать.
«Самоваром» рабочие часто называли царя, и Софье казалось, что словцо куда как меткое, очень уж рельефно выходило: самовар сияет начищенный, на нем медали, а сверху вроде короны и на столе он главный.
– Да, «самовар», – повторила она с улыбкой, уселась за стол и отодвинула бутылку с пивом. – Вот вы, Матвей Иванович, с одной стороны, правы: силушку по силушке копить. Но примите в расчет: как ее копить, когда не дают? Надо добиться таких условий, чтобы давали. Верно?
Матвей Иванович старательно, как в дорогу, упрятывал кисет.
– Верно, – сказала Софья, наклоняя крутой мальчишеский лоб. – Мы копили, а нас… Помню, один крестьянин выразился: «За клин». В тюрьму, стало быть. Или вот так. – Она повела рукой вокруг шеи. – Что же остается?
– Терпеть, – ответил Иваныч. И потряс хохолком. – А что? Терпежу не хватает?
– Не пойму я вас, – смешалась Софья.
– И чего только на ум взбрендит? – пробормотал Тимоха смущенно, как бы извиняясь за друга.
– Вы, барышня, не обижайтесь. Я не в обиду, ей-богу, – продолжал Иваныч, садясь и укладывая на коленях руки. – Право, не в обиду. Ну да только вот думаю: терпения не хватает. Я, барышня, так скажу: будь я, как вы, ученый, в семи водах мытый, я бы всю жисть ходил по рабочим и объяснял, что к чему. Попал бы в кутузку, вышел и опять бы ходил.
– Как Христос, – подпустил Тимофей.
– Ты Христа не трожь, – хмуро оборвал Иваныч. – У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтоб на Христа.
– Ну так что же, Матвей Иванович, – сказала Перовская, – не все ведь «самоваром» заняты, есть и такие, как вы говорите.
– Вот они-то, барышня, верно делают.
– А другие?
Матвей Иванович помолчал.
– Другие, значит, не верно? – огорчилась Софья. Наступило неловкое молчание, и тут, очень кстати, привалили на сходку заводские. Кружок был недавний, народ этот на заводе тоже недавний, еще не утративший надежду подшибить деньгу – да и вон из города, хозяйство на деревне взбадривать. Входили гуськом, крестились на красный угол, кланялись незнакомой барышне, и Софья видела на их лицах ту строгую заинтересованность, которая означала, что сошлись они тут не чаи гонять, а услышать и узнать такое, что не каждый день и не от каждого услышишь и узнаешь.
Перовская пришла присмотреться к людям, беседовать с ними должен был Тимофей. Скрывая робость, вызванную Софьиным присутствием, он сурово насупился.
– Ну, ребята, скажу я вам так, что всё мы печалуемся, всё мы жалуемся: плохо жить, худо жить. И вот мы все уповаем на бога. Так? – Но бога Тимофей не тронул, опять припечатал: – Так! Уповаем! А пословицу не помним. А? Запамятовали? Сейчас скажу: «На бога надейся, а сам не плошай». Ладно. Теперь возьмем с иного ряду. На хозяина мы работаем? Работаем! А что он нам, братья мои, платит? А ровно столько, чтобы с голодухи не околели. А и это-то почему дает? А потом, ежели ты, да я, да все мы передохнем, то кто ж на него станет горбить? Это он понимает, а мы с тобой не поймем. И думаем: родимый ты наш, благодетель ты наш, милостивец ты наш… А ему только одно и надо. Во! Видали? – Тимофей согнул руку в локте, вздувая мускулы. – А высосет, как паук, – крышка, выметайся на панель, работничек.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































