Читать книгу "Март"
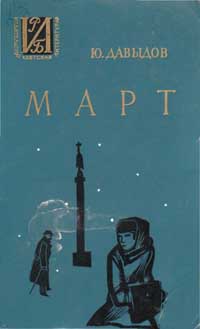
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Второй поезд мчит сейчас совсем неподалеку, среди подмосковных молчаливых сосняков. В том поезде «он», с «ним» будет покончено. Софья взмахнет фонарем, Софья подаст сигнал Гартману. Алхимик включит электрическую батарею, Алхимик не дрогнет. «Печальный демон, дух изгнанья…» Надо слушать. Как это говорят? Надо «обратиться в слух»? Господи, да она и не прислушивается, нет, она ждет, с какой-то маниакальной цепкостью ждет очередной капли-пятака.
Не шум поезда, но циклопическое око паровоза – и Перовская ощутила слепящий свет, как удар. И только тогда, уже сигналя фонарем, услышала тяжелый, обвалом нарастающий гул. Софья бросила фонарь, ринулась прочь от водокачки в темноту глухого проулка. Ринулась и… замерла – крохотная фигурка в тулупчике, в низко повязанном платке, с огромными незрячими глазами.
Ночь раскололась на белое и оранжевое, и в этом бело-оранжевом неистово вздыбилось черное. Но не этот грохот, не это соцветие потрясли Перовскую, а тонкий, детский звон оборвавшихся телеграфных проводов. Послышались вопли, кто-то выстрелил, Перовская побежала.

* * *
На Красной площади император всякий раз вспоминал давнее происшествие. Он не был суеверен и происшествие это не причислял к разряду «дурных знамений». Но все-таки каждый раз, въезжая в Кремль, вспоминал, как в день его коронации у Ивана Великого ударили в большой колокол, а тысячепудовая громадина возьми да и оборвись. Нынче, в карете, за которой неслись конвойные казаки и старомодный крытый возок московского генерал-губернатора, Александр тоже вспомнил про колокол.
В Кремлевском дворце, щурясь от яркого освещения, он любезно поклонился встречающим, по-домашнему благодарил за поздравления с прибытием и, пожелав всем доброй ночи, удалился.
Как ни покойно было в спальном вагоне, как ни хорошо путешествовалось с юга на север (на станциях, где он прогуливался, заботами местной полиции ни одна душа не докучала государю просьбами и жалобами), Александр, однако, с удовольствием положил свое крупное, уже рыхлеющее тело в постель и, с наслаждением ощутив незыблемость этой постели, уснул.
Утром он поднялся в прекрасном расположении духа, которое не могла поколебать предстоящая встреча с дворянством и купечеством, хотя в ливадийские месяцы император отвыкал от многолюдства.
Он сидел в кресле, уже отполированный легонькой порхающей ручкой парикмахера Молле; камердинер (из тех старых, ходивших за ним с детства, слуг, которым он особенно благоволил), встав на колено, натягивал на него сапог.
Граф Адлерберг отворил двери, не дожидаясь разрешения; он тоже, как и камердинер, был давним и преданным слугою. Император утренне улыбнулся графу, но улыбка тотчас пропала: Александр увидел не хорошо ему знакомое, умное лицо своего министра, а страдальческую маску, и тут же во всем теле императора, в душе его дрогнул давешний, полночный, ливадийский ужас. Он оттолкнул испуганного камердинера, всем корпусом повернулся к Адлербергу. Тот, онемев, бессмысленно шевелил руками. Беспричинная злоба, быть может, злоба на свой же «ливадийский ужас», поднялась в душе Александра, и он, вежливый, воспитанный, прикрикнул грубо и кратко, как на плацу:
– Говори!
– Ваше величество… Благодаренье богу, ваше величество…
Адлерберг всхлипнул, голос его пресекся. Наконец он превозмог себя. Объяснил тяжело задышавшему Александру: вчера, близ Москвы, неизвестные злодеи совершили покушения, но так как его, Адлерберга, распоряжением был случайно переменен порядок следования свитского и царского поездов, то взрывом и опрокинуло вагоны свитского поезда.
Император выслушал все это. Лицо его пожухло, собралось нездоровыми складками.
– Что я им сделал? – обреченно молвил он. – Что я им сделал? – и вдруг вскочил, задыхаясь, в распахнутом мундире, с животом, перевалившимся поверх широкого бандажа: – Вон! Вон! Оставьте меня!
В Георгиевском зале дворяне, именитое купечество ожидали царского выхода. Все были испуганы: «невзрачный домишко», «злодеи исчезли», «саперы обнаружили подкоп», «еще и самовар не остыл»…
Свеженький старичок со звездою дергал за рукав лысого кряжистого полковника:
– Позор Москве! И на кого лапу-то кровавую подняли? На кого? – Старичок негодующе вытягивал розоватые губы. И с укором, будто полковник был виноват: – А я, сударь, помню, мальчонкой был, а помню, как вся Москва к Чудову-то монастырю. Да, да, сударь, вся Москва. Родился на пасху, радость великая, и толпами, толпами – к Чудову. Да-с, вот вы, сударь, не знаете, а рождение его ка-а-кие пушки возвестили. Это, полковник, не у них там, на болоте, в Петербурге. Не-ет, батенька, тут, у нас, стреляли тарутинские, бородинские. Парижем пахли, одолением Наполеона…
Лысый полковник давно затерялся в толпе, место его занял величавый, известный всему городу взяточник, правитель канцелярии генерал-губернатора, а старичок все еще вытягивал губки.
– А как на царствование венчали? Вы этого и не видели-с, полковник. По чину венчания Иоанна Грозного. Вот-с… И дожили! Матушка царица заступница, до чего дожили, а? Чтоб эдакое да на Москве! А митрополит Филарет…
В зале закричали «ура». Старичок поперхнулся, глотнул воздух, привстал на носки и, напружившись, пустил петушком:
– А-а-а…
Император наклонил голову с покатым залысым лбом. Вымученно улыбаясь, он сказал, что рад приезду в древнюю столицу государства Российского, рад видеть любезных сердцу жителей Москвы.
Помолчал. Стащил с левой руки перчатку, скомкал.
– Господа, я надеюсь на ваше содействие. Необходимо остановить молодежь… заблуждающуюся молодежь, господа… Неблагонамеренные люди стараются увлечь ее на путь пагубный и страшный. Благо отечества неотделимо от блага молодежи. Общими силами, господа, мы должны остановить молодых людей ради их собственного блага, ради блага России, и Бог дарует нам утешение видеть отечество, развивающееся мирным и законным путем. Только так может быть обеспечено будущее могущество России, столь же дорогое вам, как и мне. Да поможет нам бог!
Глава 4 «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
Госпожа Горбаконь, вдова трубача, сдавала внаем комнаты. Квартирой она располагала на бойком месте, в большом доходном доме неподалеку от станции Николаевской железной дороги и Невского проспекта.
Михайлову дом этот очень приглянулся. Он поладил с трубачихой и прописался в участке по фальшивому документу на имя какого-то отставного поручика Поливанова.
Комната – длинная, узкая, высокая – полнилась неживым сумраком. Так бывает в Петербурге, когда по календарю зима, а на дворе оползни сивых туманов. Топила хозяйка, как милостыню подавала. Койка напоминала не то монашеское ложе, не то «общеармейское». Стол и стулья страдали хромотою. Нужно, однако, заметить, что новый постоялец г-жи Горбаконь не придал сим обстоятельствам ни малейшего значения. О комфорте имел он представление теоретическое. Комфорт существовал в другом Петербурге. И для других петербуржцев. Так же, как в другом Петербурге и для других петербуржцев существовали кровные рысаки, департаменты, тайные игорные притоны. Жизнь этого Петербурга совершенно не занимала Михайлова. Он жил по-иному и для иного.
В душе Михайлова не выболела боль. Михайлов скрывал ее тщательно. Боль причиняли события недавние. Летом в Воронеже случилось, в сущности, то, что и должно было случиться: раскол. Тысячу раз можно твердить: раскол был неизбежен. Но если ты разошелся с побратимами, с такими, как Жорж Плеханов, от этого ничуть не легче. Разошлись не потому, что двоилась далекая цель. Разошлись оттого, что видели две дороги к одной цели. «Земля и воля» – прошлое. «Черный передел» и «Народная воля» – настоящее, сегодняшнее. Да штука-то в том, что сердце не спрашивает, как ему стучать. И стучит невыболевшей болью. Был один стан, «стая славных». А теперь? Он и мысленно не мог произнести: «Враги». Он видел, ему часто вспоминался Жорж, там, в воронежском Архиерейском саду, на поляне, заросшей бурьяном и мордовником; Жорж с его прекрасным гневным лицом, с его монгольского излома бровью: «Мне, господа, тут делать нечего…» Жорж не желал слышать о борьбе за политические права, о борьбе террористической. Жорж уходил; его хотели было воротить, и это он, Михайлов, лучший друг, крикнул: «Нет, пусть уходит!» Пусть уходит Жорж, пусть уходят те, кто с ним. И они ушли. А боль надобно избыть. И никто, даже Софья с Желябовым, не должны об этом догадываться. Его, Александра Дмитриевича Михайлова, считают практиком революции. Ну что ж, он не намерен опровергать прочную репутацию. Но разве и практика порой не мучают те же мысли, что и Волошина? Разве и практика, влюбленного в Организацию, как можно быть влюбленным в реальную женщину, не страшит подчас тень Нечаева? И все ж Михайлов не кривил душой, когда гнал эту шекспировскую тень из сторожки пасечника в Петровско-Разумовском. Он верил в Организацию. Никому, никогда не удастся подчинить ее личному честолюбию. Но если раскол был возможен, возможен и неизбежен в недавнем прошлом, кто поручится, что и когда-нибудь, потом не произойдет нечто подобное? Это «потом», это «после» было за крутым перевалом. Оно означало другие времена, оно означало Будущее. А это Будущее складывалось из таких трепетных и заветных черт, что, ей-богу, нельзя было хоть чем-нибудь омрачать их. То уж забота и думы других поколений. Тех, что вкусят наливные плоды древа Свободы. А ему, Михайлову, жить настоящим. Ему жить в настоящем, которое требует неослабного напряжения и ежечасных усилий, увертливости и терпения. Он практик, господа, он практик революции.
Ну, а практически – неудачи. Под Александровском и под Москвой. Приходится признать поражение. И приходится утешаться незначительностью потери «живой силы». Гартман уцелел, но Гартмана выдворили за кордон. Эх, и упирался ж Алхимик: «Не поеду!» Славный парень. «Не поеду»! Нет, медлить было нечего: ангел-хранитель из Третьего отделения торопил – тайная полиция взяла след «слесаря Сухорукова». Гартмана-Алхимика уберегли, не потеряли, он отныне как бы заграничный представитель «Народной воли», а вот Гришку… Гришка добрый, но, пожалуй, ума недальнего. В киевских кружках относились к нему с некоторой насмешкой, Михайлов счел это несправедливым, нетоварищеским и сблизился с Гольденбергом… Приверженность к решительным действиям Гришка доказал делом: выследил и убил харьковского губернатора, одного из тех сатрапов, что не стеснялись пороть и морить голодом заключенных, не испытывали колебаний в политических преследованиях. Потом Михайлов виделся с Гришкой в Липецке: Гольденберг пылко поддержал идею террора. В домике Сухорукова работал он рук не покладая, не в очередь спускался в галерею, однако быстро выбился из сил, и его послали в Одессу за динамитом. Динамитом Гришка раздобылся, но был выслежен, схвачен и теперь сидел в одесской тюрьме.
За одно только убийство губернатора ему, конечно, грозила петля. Думать об этом было и тяжело и больно. Но примешивалась еще мысль, которую Михайлов не смел высказать товарищам. Смутное подозрение – он сам его стыдился – мучило Михайлова: Гришка – человек порывистый, легко поддающийся настроению, а ожидание смерти в одиночке не всем дано вынести… Михайлов противился своим подозрениям, но с трепетом дожидался очередной встречи с ангелом-хранителем из Третьего отделения. Однако жандармское управление в Одессе покамест не давало никаких сведений в «святая святых» на Пантелеймоновской улице, хотя там живо интересовались ходом следствия… Впрочем, заботиться и думать приходилось Михайлову о стольких вещах, о стольких людях, что он порою и забывал про Гришку…
Домой, в свою уединенную комнату, новый постоялец г-жи Горбаконь возвращался поздно. Затворив дверь, пил чай и что-то помечал в записной книжечке. Засыпал по-солдатски – бурным сном. А под подушкой грелись револьвер и стальной кастет.
Поднимался Михайлов спозаранку, и первое, что видел, – лист бумаги над постелью: «Не забывай своих обязанностей».
Он завтракал наскоро и отправлялся в «дозор».
* * *
Гостиная, она же столовая, была обставлена приличной мебелью, той, что называлась «немецкой», украшена копией с картины Зичи «Демон и Тамара».
В соседней комнате стоял нежилой, тяжелый, острый запах. На дубовой этажерке теснились английские и немецкие книги по пиротехнике, номера «Артиллерийского журнала». На столе помещались колбы, лабораторные весы, реактивы. И еще один стол – со слесарными инструментами, паяльной лампой, кусками жести и меди.
Кибальчич обернулся:
– Уже утро?
– «Счастливые часов не наблюдают»? – Михайлов ласково тряхнул руку Кибальчича, ощутил на ладони бугры мозолей. – Осмелюсь обеспокоить, господин главный техник?
– Беспокой, – милостиво согласился Кибальчич и отвернулся к столу с инструментами. – Беспокой, но наперед скажу: кислоты мало.
Михайлов нахмурился:
– Андрей ведь еще в среду обещал?
– Обещанного три года ждут, а мне некогда, – рассеянно ответил Кибальчич, нагибаясь над столом и позвякивая ретортой.
– А скажи, он все еще от Штоля возит?
Кибальчич пожал плечами, сутулые лопатки его двинулись, топорща жилетку.
– Кажется…
– Ты вот что, Коля, ты ему скажи, чтоб сменил аптекаря. Все Штоль да Штоль, пора и честь знать: выследят.
– Скажу. Прощай.
– Ну что делать! Прощай. Аудиенциями не балуешь.
С Якимовой, хозяйкой динамитной мастерской, тоже недолго беседа длилась. Он спросил о деньгах; Аннушка смущенно потупилась.
– Ладно, – буркнул Михайлов, – добавим. А ты… того… аккуратней, друг дорогой.
– Скупей скупого, – заверила Аннушка. Ямочки на круглых ее щеках задрожали.
– Чего ты? – удивился Михайлов. И укоризненно улыбнулся: – Ну, ей-богу, гимназия.
– Послушай… Говоришь – «аккуратней». Да? А знаешь, чем мы тут вчера ужинали? Нет? Слушай. Пошел это наш почтеннейший вечерком прогуляться. Мочи нет, как головушки наши растрещались от всей этой химии. Ну собрался. А я и догадайся попросить: купи, дескать, чего-нибудь к ужину. «Хорошо», – говорит. Гулял, гулял, возвращается и с эдаким победительным видом вручает кулек. Разворачиваю… Что ты думаешь? – Она прыснула. – Ни в жизнь не догадаешься. Морошка! Морошки купил, и вся недолга: ужинай, красавица.
Михайлов не рассмеялся. Глаза его повлажнели, он понизил голос:
– Золотое сердце… Я тебе секретно: из наших – самое золотое сердце. У него да вот еще у Сони Перовской… Тихоней был в гимназии… Что? Да-да, вместе учились, в Новгород-Северске. Тихоня и книжник, но дважды едва не вылетел из гимназии. Один раз за то, что учителя, подлеца и взяточника, подлецом и взяточником окрестил при всем честном народе; в другой – за то, что закатил плюху квартальному, тот мужика на улице колотил… – Михайлов вдруг глянул на часы, заторопился и уже в прихожей менторски напомнил: – Деньги будут, но гляди, хозяйка: экономия – первое счастье в домоводстве.
– Известно. – Аннушка поклонилась с комическим смирением.
Михайлов вышел на улицу и, закуривая, прикрывая от ветра спичку, настороженно, из-под нависших бровей, огляделся: «хвоста» не было…
* * *
… На Московском вокзале молодого человека, смахивающего на офицера, хотя он вовсе не принадлежал к «военной косточке», встретили господин и дама.
Все трое, затесавшись в вокзальную толпу, перемолвились о чем-то, чемодан приезжего перешел в руки встречающего господина, и на том все, кажется, кончилось.
Еще не улеглась сутолока, обычная на дебаркадере у вагонов курьерского, еще артельщики с багажом выпевали свое: «Па-а-азволь, па-а-а-зволь…», еще слышалась гулкая одышка локомотива, когда уж Михайлов с Перовской пересекли Знаменскую площадь.
Чемодан был чертовски тяжелым. Михайлов взмок. Он, однако, не стал раздеваться в той узкой и длинной комнате, где белел листок с надписью: «Не забывай своих обязанностей!» Он мазнул тылом ладони по мокрому лбу, пританцовывая от нетерпения, принялся распаковывать чемодан. Вид у него был такой, что Перовской вспомнилась иллюстрация к «Скупому рыцарю».
Не золото блеснуло в жадные глаза Михайлова, а тусклая белесость свинца. В аккуратных холщовых мешочках лежали новехонькие типографские литеры.
Михайлов топнул ногою:
– Ай да Денисушка!
Спустя четверть часа, поделив «добычу», Софья и Михайлов разными дорогами отправились в Саперный переулок.
В доме десять по Саперному жили супруги Лысенки.
«Разлюбезные господа, – толковали дворники. – Такие уж из себя обходительные. А он сурьезный-пресурьезный и, видать, ученый: очки золотые… Ученый-то ученый, а тоже губа не дура: ка-акую малину на себе обженил».
«Разлюбезные господа» были и не Лысенки, и не супруги. Обладателя золотых очков (а сверх того и добротной шубы) звали Николай Бух. Держался он с медлительной важностью, как и приличествует сыну тайного советника, а за этой почтенной статью крылся рассудительный, невозмутимо-спокойный конспиратор. Что ж до «малины», то Соня Иванова действительно была из тех, о которых говорят «цветущая молодость», и, глядя на эдакий бутон, решительно нельзя было предположить в ней человека, сидевшего в тюрьме, сосланного в ссылку и из ссылки бежавшего.
Увы, ни домохозяин, ни дворники, усердные соглядатаи, ведать не ведали не только подноготную господ Лысенков, но и того, что в квартире живут еще мастера-типографы: Лубкин, шустрый, нетерпеливый коротыш, носивший по причине своего тонюсенького голоса кличку «Птаха», и волоокий весельчак Цуккерман.
Ивановой и Буху, владельцам паспортов, случалось показываться в городе по всяческим типографским делам, а Лубкин и Цуккерман были «беспачпортными бродягами в человечестве».
Правда, однажды в месяц и «беспачпортным» удавалось глотнуть свежего воздуха. Выпадал такой красный день, когда домохозяин присылал полотеров. Накануне в квартире начиналась суетня, будто ждали не полотеров, а богатых родственников. Надо было упрятать шрифт, ни много ни мало – двадцать с лишним пудов. Надо было станок печатный разобрать, впихнуть в шкап. И подмести во всех комнатах так, чтоб ни свинцовой пылинки. И лишь после «аврала» Лубкин и Цуккерман с видом школяров, отпущенных на каникулы, отправлялись в город.
Худо приходилось в затишке. Когда ни набирать, ни печатать, тут-то и плывут, клубятся мысли о том, что типографию давно ищут, что сколь, мол, веревочка ни вьется… Попадись они, типографы, не видать уж им белого света до гробовой доски.
В такие порожние и оттого особенно зловещие недели один лишь Бух хранил стоическую невозмутимость. Толстый увалень, вздев золотые очки, лежал на ворсистом колком диване и с величайшим удовольствием, почмокивая, читывал французские романы.
Цуккерман завистливо косился на Буха: «Ишь, Пьер Безухов!» Бух не отвечал, он был далеко. Цуккерман, вздохнув, приставал к Ивановой:
– Споем? Тихонько-тихонько. Ну, давайте, а? Не стыдись, светик.
«Светик» стыдился, у «светика» не было слуха. Но Цуккерман затягивал, и она подпевала, конфузясь своего неверного голоса.
Лубкин, как ехидничал Цуккерман, хоть и был Птахой, однако не певчей, а посему изобрел собственный способ убийства времени: хватал тряпку, таз с водою и неумело, размазывая грязь, мыл полы. Покончив с этим, принимался за самовар, кастрюли, миски. И достигал недостижимого – все блестело новым блеском, как в посудной лавке.
Да уж как умели, так и изворачивались. Но все ж Соне Ивановой не терпелось «учинить бунт». Для того ли, скажите на милость, бежала из ссылки, чтоб сиднем сидеть в четырех стенах? А товарищи тем временем, наверное, готовят второе издание московского взрыва!
Соня взбунтовалась. Михайлов дал ей выговориться. Глаза у него были как льдинки. Он отчеканил:
– Главное, кума, дисциплина воли. Личность должна подчиняться организации.
Соня возражала бурно, негодующе, пылая. Он пропустил ее тирады мимо ушей.
– Иначе, кума, у нас не организация, а кисель будет. И вот что я тебе по чести скажу: если б мне поручили писать стихи… – Он усмехнулся. – Вникни: я и стихи! Понимаешь? Ну вот. Я бы писал стихи, хоть бы и знал, что выйдет ни к черту.
В ту минуту Иванова почти его ненавидела: «Педант… Бездушный педант…» Но Михайлов вдруг взял ее руку, накрыл ладонью и с особенной своей улыбкой, за которую ему все можно было простить, добавил:
– Поверь, дитя, газета – тот же динамит.
Но вот (как всегда, словно б нежданно) приносили в Саперный материалы очередного номера. Тотчас летели прочь французские романы, толстый увалень Бух словно бы терял в весе, и уже не пел Цуккерман, и уже не хватался за мытье полов Птаха, а Соня забывала свое постылое затворничество.
Лубкин и Цуккерман будто не литеры укладывали, а таинство свершали. Первый оттиск озирали они придирчиво и благоговейно, а потом переглядывались с горделивой скромностью. Работа была не только тщательной, но изящной, как в лейпцигских типографиях. А набирали и сверстывали в комнатной печатне не листовочку, а два десятка двухколонных полос формата еженедельника. Не десяток, не сотню экземпляров оттискивали – три тысячи. И вдобавок – на особо прочной бумаге – в подарочек государю императору.
Неизвестно, удостаивал ли царь вниманием «Народную волю», как в свое время герценовский «Колокол», но Третьему отделению он не раз пенял: пора прихлопнуть «осиное гнездо», не в Лондоне оно, дескать, а тут, в столице.
Типографы, однако, все никак не давались тайной полиции, хоть жили они и работали совсем неподалеку от тюрьмы на Шпалерной и от жандармских казарм на улице Надеждинской.
А пока шли усиленные розыски, «Народную волю», с ее передовицами, очерками «внутреннего обозрения», «хроникой преследований» и воззваниями, читали в университете и в Технологическом институте, за Нарвской заставой и на Шлиссельбургском тракте, в Москве и Харькове, в Одессе и Киеве.
* * *
Сидели у стола. Светила мирная лампа. Пили чай. За окнами густело зимнее ненастье.
Славные молодые люди. Таких видишь в читальнях и в концертах, а то – почему бы и нет? – в бильярдной.
Никому из них и тридцати не минуло, на круг – двадцать пять, ровесники, погодки. И все они состояли в прежних кружках – чайковцев, группы «Свобода или смерть», «Земля и воля», цюрихской колонии русских эмигрантов… Недавно еще «ходили в народ». Многим довелось трястись на телегах рядышком с молчаливыми стражниками; многим приходилось сиживать за решеткой, уносить ноги из ссылочной глухомани, в которой Русь-матушка никогда, слава богу, недостатка не испытывала.
Теперь они создали настоящую боевую организацию со своим центром – Исполнительным комитетом, со своими, правда еще тощими, кружками не только среди учащихся, но и среди заводских.
Никто при аресте не смел признать себя членом Исполнительного комитета. Агентом – можно. Но не членом комитета. И вовсе не с целью облегчить вину. Провалы неизбежны, это уж как аксиома. Пусть возьмут одного, другого, третьего. Но Исполнительный комитет, возвестивший свое существование громовым манифестом на Московско-Курской железной дороге, остается неуловимым и вездесущим – карающий трибунал революции.
По молчаливому уговору и в самом комитете, среди тех молодых людей, что собрались нынче на Гороховой, осведомленность каждого в каком-либо практическом деле была ограниченной. Общее направление борьбы знают все, частности – отнюдь не все.
Геся, хозяйка квартиры, в комнату не заглядывала. А ей так хотелось быть у стола под зеленой висячей лампой. Николай ведь только что приехал, она давно его не видела. Ну какое ж свидание, если он после сходки уйдет?
Геся маялась на кухне, не могла взяться за посуду. Приотворила дверь на черный ход; грязная кошка потерлась о подол.
– Ну что тебе? – рассеянно сказала Геся. – Нету молочка, нету.
Вышла в переднюю, приотворила парадную дверь. Опять послушала. Конечно, надо мыть посуду, а то Сонюшка останется помогать. Надо мыть посуду, но… вот же, вот совсем рядом Николай.
Она бродила из кухни в переднюю, из передней в кухню и все думала, думала о том, что Николай наконец в Питере и они будут видеться, хоть редко, но все же будут. Она поглядела в зеркало, висевшее в прихожей, и грустно улыбнулась. Никогда не слыла красавицей… «Интересная бледность»? Кажется, так говорят в романах? Очень у тебя, дорогая моя, «интересная бледность». Не бледность – вялая тюремная желтизна: два года в Литовском замке. А потом ссылка. Ну, должно быть, и скорчил рожу пристав, когда государственная преступница Гельфман задала лататы. Она опять взглянула в зеркало и махнула рукой: «На зеркало неча пенять…»
Из комнаты донесся голос Михайлова; Геся поспешно убралась в кухню. Она – агент Исполнительного комитета, хозяйка конспиративной квартиры, она – только агент, и не должно ей даже краем уха слышать, о чем говорится на очередном собрании комитета.
А Михайлов словно диктовал:
– Петровский Константин. За Синим мостом, Мойка, тридцать два. Лет тридцати с лишним. Носит пенсне. В цилиндре. Действует среди интеллигенции. Имеет особое поручение по розыску нашей типографии… Новинский, доктор. Знаменская, одиннадцать, квартира один. Устраивает сходки студентов-медиков. Шпион… Дальше: за Нарвской появился некий Парсиев. Поручено втереться в наш рабочий кружок. Следующий: Лапкин, филолог, четвертый курс университета, подал прошение о зачислении агентом Третьего отделения… Молдавский, отставной офицер, живет в Кронштадте…
Михайлов не спешил. Каждый должен запомнить «своих»: у тебя студенческие кружки – тебе помнить доктора Новинского и филолога Лапкина; у тебя рабочие – тебе помнить Парсиева и прочих; Желябов собирается в Кронштадт – ему и помнить отставного офицера Молдавского. А про господина в пенсне и цилиндре, имеющем особое поручение по розыску типографии, непременно известить Буха.
Чтением «черного списка» обычно заканчивалась сходка на Гороховой. В пепельнице оставалась легкая ломкая горстка сожженных листков из записной книжки Михайлова.
Пора расходиться. Пора выйти из круга, освещенного висячей зеленой лампой, переступить порог и очутиться в стылой темени огромного города. И вот эти преувеличенно бодрые пожелания покойной ночи… А в прихожей уже не слышишь ворчливых напоминаний Перовской, как слышал два часа назад: «Ноги, ноги-то вытирайте, не натаскивайте грязи!»
И они расходились, кто парадной лестницей, где в нише второго этажа неопрятно белела статуя безрукой богини, а кто – черной, где мерцали египетские глаза приблудной кошки.
– Идешь?
– Да, да… сейчас, – смущенно ответил Колоткевич. Михайлов покосился на Гесю. Он мог бы повторить и ей и Николаю изречение французского дипломата: любовь – лихорадка, она будоражит мозг и мешает работать. Он не повторил.
Геся посторонилась, пропуская его к дверям. Михайлов тронул ее локоть, мальчишески подмигнул. Геся залилась краской, но не отвела глаз от Николая, а тот стоял пред нею – угловатый, добродушный, высоколобый.
Перовская всплеснула руками:
– Боже милостивый! Да обнимитесь наконец, истуканы!
Михайлов сбежал по лестнице. Любовь, черт возьми, с этой штукой ничего не поделать даже Исполнительному комитету.
В отсветах фонарей увидел он плечистого человека. Тот шагал широко, сунув одну руку в карман, другой свободно отмахиваясь. «А, – ухмыльнулся Михайлов, – погоди, погоди… Проверим-ка и тебя, братец…»
Прижимаясь к фасадам домов, он стал нагонять прохожего. И вдруг… потерял его из виду. «Ах, чертушка! – обрадовался Михайлов. – Ушлый…»
Близ Невского Желябов поравнялся с ним. Лукаво осведомился:
– Ну как, придира? А? Ну то-то! Прощай.
Давно уж Михайлов взял за правило проверять осторожность товарищей. Он не упускал случая уподобиться филеру-шпику, и, спаси бог, не обнаружить его слежку. Ого, какая буря, какой нагоняй! Многие обижались, злились. Он не обращал внимания. Пусть. Мелочи в жизни конспиратора – не мелочи. Пусть-ка позлятся, ничего… Но вот что приятно: ни один «обиженный» не попрекнул властолюбием. А ведь давно известно, властолюбцем хоть раз да и кольнут каждого, кто неуклонно добивается своего.
На Невском пробило одиннадцать. Михайлов достал часы.
Его часы торопились, но он не перевел стрелки.









































