Текст книги "Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера"
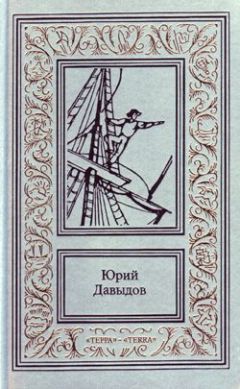
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
10
Дворец был на Басманной, в Немецкой слободе: окна зеркальные, стены обиты рытым бархатом, цветастым шелком, мебеля черного и розового дерева, в листве заморских растений снуют пичуги величиной с мизинец. Принадлежал дворец мильонщику Демидову, как принадлежали ему и обширные вотчины в пяти российских уездах, заводы уральские и приволжские, земля и строения здешние, в белокаменной.
Чудодей, забавник! Право, не трудно потрафить любезным читателям жанровыми сценками весьма динамичными: Прокофий Акинфович из конца в конец анфилады верхом на докучливом просителе скачет, наездившись, тотчас исполняет просьбу, сентенцией выставив латинское: вдвойне дает тот, кто дает быстро; Прокофий Акинфович, насмерть упоив полицейского офицера-пакостника, велит раздеть донага, обрить наголо, как басурмана, вымазать медом да и вывалять в перьях; у Прокофия Акинфовича пир, море разливанное, в одном из кресел – матерый хряк, а хозяин застолья почтительно величает борова «вашим сиятельством», и все понимают, что Прокофий Акинфович шельмует важную персону, чем-то его обидевшую.
Хорош? Всей Москве были известны «жанровые сценки», пестрой чередой возникавшие во дворце на Басманной, многих в Москве потешали они – ха-ха, достается от Прокофия Акинфовича офицерам да барам. А Каржавин сумрачно пожимал плечами: не нрав, а ндрав; не самостоянье, а холопство навыворот, деспотизм на карачках.
Но широк русский человек, широк, это давно замечено. Нету в Москве родовспомогательного учреждения? Получите, господа, двести тысяч. Надо сиротам Воспитательный дом? Располагайтесь в одном из его, Демидова, домовладений, вот хоть на Донской, сделайте одолжение, всем места хватит. А в Нескучном саду он пышную «ботанику» учредил – оранжереи с ананасами, плодовые деревья, пальмы. И рогаток не выставил: пожалуйте, дорогие москвичи, заходите без различия чинов-званий.
Чадолюбием Прокофий Акинфович не отличался. Взрослых сыновей держал в черном теле. Дочкам воспретил выходить за дворян. Одна заупрямилась. Тотчас на воротах в Басманной, как дегтем: девица Демидова будет выдана за любого прохожего дворянина. Подвернулся некто Станиславский. (Кажется, офицером был. И притом из бедноватых.) Хочешь, братец, под венец, вот девка, берешь? Еще бы! И девицу Демидову окрутили с первым встречным.
Все это про Демидова не к тому лишь, что в его доме на Басманной механик-француз, обладатель «снаряда» – прибора с толстыми стеклами и зеркалами, – демонстрировал объемные изображения ландшафтов, зданий, гаваней… Баженов с Каржавиным посещали сеансы в доме Демидова; их занимали «перспективные представления по правилам архитектуры». Между прочими картинами увидел Федор и бригантину, разбившуюся на скалах Мартиники. Увидев, улыбнулся давнему: географический атлас, купленный на Патернастер-роуд, отец, вожделенно-задумчиво повторяющий: «Мартиник… Мартиник…» Но и теперь, в Москве, как и тогда, в Лондоне, не шевельнулось в душе предчувствие очной встречи с Вест-Индией… Да, так вот, и про Демидова и про чету Станиславских, подаривших мильонщику внука, – все это здесь неспроста.
Капризник, варвар, он был очень неглуп. Случалось, встретишься с ним глазами, едва не вздрогнешь: ах, бестия, так и проницает… Читал он много, в читанное вникал, тянулся к людям наук и искусств, год в Голландии прожил, с тамошней профессурой не чудил.
Проекты Баженова, грандиозная модель в Модельном доме живо интересовали Демидова. К тому же, думается, имел он виды на зодчего и для собственных строительных затей. Баженов во прахе перед Демидовым не елозил. «Больно анбициозен Василий Иваныч», – ворчал мильонщик. Но худого в ту пору на уме не держал; это уж несколько лет спустя удрал наш забавник штуку: дал Баженову вексель, заверял, что беспроцентный, а потом и грянул громом с ясного неба – отдай тотчас!
Помощник зодчего казался Прокофию Акинфовичу дельным малым, но строптивцем: воротившись из чужих краев, не захотел споспешествовать отцовским негоциациям. С одной стороны, полагал Демидов, оно и не худо: пусть упражняется в переводах архитектурных трактатов. С другой стороны, полагал Демидов, Каржавина-старшего надобно понять: давно пора россиянам обзавестись просвещенным купечеством. Ни одна чаша весов не перевешивала. И даже не колебалась – Федор и полфунтика не весил в мыслях Прокофия Акинфовича.
Правда, однажды всплыло в памяти замечание князя Голицына о будущем искусном профессоре… Незадолго до приезда Демидова в Голландию перевели Голицына из Парижа в Гаагу. Познания и простота обхождения посланника покорили Прокофия Акинфовича. Голицын-то и упомянул о Каржавине, упомянул вскользь, но очень лестно. Демидов недоверчиво хмыкнул: ученых соотечественников, исключая покойного Ломоносова, язвил он «шалберами» – болтающими пустяки. И все ж замечание князя Голицына, всплыв однажды, соотнеслось с Кирюшей Станиславским. Прокофий Акинфович любил внука; так иногда холодность отцовских чувств как бы искупается полнотой и горячностью дедовских.
Демидов желал учить внука в Голландии. И знал, у кого именно. Демидов желал нанять внуку ментора-провожатого. И знал, кого именно… Тут надо оттенить упомянутую выше проницательность Прокофия Акинфовича, а вместе и широту натуры. Угадал он душевное томление баженовского помощника. И захотел ему пособить. Но г-н Каржавин, думал Демидов, христорадно руку не протянет. Он не ошибался – Федор нипочем не принял бы даровщинку. А предложение отвезти Кирюшу в Голландию и на первых порах приглядеть за мальчонкой принял. Приняв, не отдернул руку от векселя на шесть тысяч гульденов.
Отцовской помощи Федор не ждал. Напротив, ждал отцовского гнева. Не принимал смиренно, но сострадательно понимал. Отцовская печаль была печалью державной: ни одного русского торгового дома ни в одном из городов Европы, ни одного банка, все банковые агенты – чужеземцы. Отцовская мечта была семейной: «Каржавин, сын и К°» – холст и пенька, лен и железо, щетина и воск. Отказываясь служить Меркурию, он, Федор Каржавин, предавал отца. А тот ведь какие муки вытерпел в крепости Петра и Павла. И доселе ходил в покорных данниках г-на Шешковского.
Сострадательно понимая отца, Федор ждал отцовского гнева. Смириться? Никогда!
11
Дорога взяла двенадцать ден. Пара лошадей обошлась в двенадцать рублей. Рубль в сутки! А прокорм, а ночлеги? Вексель-то был крупный, но притом и демидовский выверт был: оплатит амстердамский банкир Говен, а до Голландии, как говорится, будь добр. Каржавин, злясь на благодетеля, считал гривенники, не пренебрегая и счетом копеек.
В Петербурге, за версту обходя родительский дом на Адмиралтейской першпективе, побывал он у сестры Лизоньки, навестил и вдовеющую тетку.
Лизонька вышла за адъюнкт-профессора Козлова. Гаврила Игнатьевич служил в Академии художеств. Он принял Федора родственно, с первой минуты встали на короткую ногу, оба сразу поверили, что дружбу свою сохранят на всю жизнь.
По соседству, на Васильевском же острове, вековала вдова Ерофея Никитича. Еще не увядшая Федосья была из тех женщин, которые во вдовстве не живут, а доживают, и это свое доживание ощущают как вину перед покойным супругом. Затрудняюсь объяснить холодность Федора к вдове своего дядюшки, утрата была тяжкой, а вот к Федосье, к этой невзрачной женщине с заплаканными глазами, Федор почему-то не умел расположиться. (Странно, добряк Козлов тоже не очень-то жаловал ее, что не мешало профессору живописи чтить память переводчика Свифта.) Капитала Ерофей Никитич, разумеется, не нажил. Первые две книги «Путешествий Гулливеровых» напечатали, Федосья получила двести тридцать рублей. А третья книга, а четвертая? Надо было что-то предпринять, надо было где-то хлопотать. Тем паче что подобные хлопоты следовало осуществить не из одних лишь родственных чувств, а и ради читающей публики, не владеющей ни английским, ни французским. К тому же именно в переводе покойного дядюшки сочинения Свифта ближе к подлиннику, нежели лощеное французское издание, а близость к подлиннику уменьшает дозу пресной нравоучительности, увеличивая дозу едко-сатирического…
Давно приманивало рассказать о знакомстве Каржавина с Николаем Новиковым. Но – усомнился: Новиков-то приезжал ли в Москву? Напрягая память, определил: приезжал до Чумного бунта, в шестьдесят девятом, в августе, а Каржавин был еще в Троице-Сергиевой лавре. Разминулись!
Зато теперь, в Петербурге, летом семьдесят третьего, Федору, озабоченному избавлением дядюшкиного наследства от мышей и тлена, теперь уж ему нельзя было разминуться с Новиковым.
Дело вот какое.
Лет пять как существовало «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг». Сказал бы: «творческий союз», если бы не весьма существенные недостатки этого «Собрания»: отсутствие штатных единиц и карет для всяческих разъездов; к тому же и собраний «Собрание» не собирало. Но, словно бы вопреки организационному несовершенству, старательные переводчики выдавали в свет трактаты философические, физико-математические и естественноисторические, сочинения древних авторов, греческих и римских. Каждый трудился в домашнем уединении. Ерофей Никитич тоже. Общение, конечно, было, но не протокольное, не официальное, а по взаимной склонности, по сходству увлечений.
Труды праведные оплачивались неправедно – от пяти до восьми целковых за лист. Денежки капали из кабинета ее величества. С теченьем лет капали все реже, ибо у ее величества расходы росли, в том числе и альковные, на фаворитов.
Хиревшее «Собрание» ободрилось с появлением отставного поручика Новикова. Того самого, который, как сказывали, в день переворота стоял на часах не то у заставы, не то у моста и молодецки скомандовал: «Проезжай, государыня!» Я имею в виду день, когда Екатерина II выхватила скипетр из рук Петра III. Лейб-гвардеец Новиков волен был не пропустить ее карету, вышла бы заминка, из заминки – сумятица… Ну хорошо, отставной Новиков издавал журналы острые, колкие, сатирические. Государыня не мирволила бывшему лейб-гвардейцу: «Езжай, езжай, голубчик!» – напротив, исподтишка тормозила. Новиков не унимался. Его деятельным умом владели обширные замыслы. Завязав отношения с «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг», он учредил «Собрание, старающееся о напечатании книг». Кто же, если не он, Николай Иванович, мог посмертно вызволить Ерофея Никитича? Да и как же иначе, если сатирическое куда действеннее нравоучительного, и уж кому-кому, а г-ну Новикову это очень хорошо известно.
Новиков жил тоже на Васильевском острове, возможно, впрочем, что он поселился там несколько позднее, но сейчас важен не адрес: в прихожей у Новикова Федор рассеянно-вежливо раскланялся с узколицым титулярным советником. Они лишь взглянули друг на друга. Жаль! Хорошо было бы обменяться рукопожатьями. Не потому, что титулярный служил обер-аудитором[5]5
Чиновник, исполнявший в военных судах обязанности прокурора и следователя.
[Закрыть], а потому, что звали его Радищевым. Он состоял в том же «Собрании», что и покойный Ерофей Никитич. А к Новикову заглянул условиться, когда получать остаток за перевод «Размышления о Греческой истории» аббата Мабли.
Новиков и Каржавин были погодками. Погодками и, собственно, ровней; так, во всяком случае, и пожалуй самонадеянно, считал Федор. Нимало не робея, улыбаясь дружелюбно, он представился:
– Богодар Вражкани.
За этим шутливым представлением пламенело, как за каминным экраном, авторское самолюбие – назовешься и услышишь удивленно-почтительное: «Ах, это вы?!», «Ах, вот вы какой!» Бедный Федор получил щелчок по носу: восклицаний не последовало. Покраснев, он, словно задев притолоку, досадливо и втихомолку ругнул себя стоеросовой дубиной.
Новиков ставил Каржавина на место? Указывал дистанцию? Ручаюсь, это никому не пришло бы в голову, глядя на Николая Ивановича: открытое лицо с прекрасным лбом выражало неординарную доброжелательность – устойчивую и широкую. (Доселе не пойму, какая такая «тайна» его физиономии пугала непугливую княгиню Дашкову?) Нет, Новиков и не думал обливать холодной водой незнакомого посетителя. Помнил многих сотрудников журнала «Живописец», но Богодара Вражкани, убей, не помнил. Но, право, чего обижаться-то?
Во-первых, этот Богодар Вражкани был всего-навсего одноразовым корреспондентом «Живописца». Во-вторых, Богодар Вражкани сам определил свое сочинение – «грубая подмалевка». Наконец, Богодар Вражкани не бог весть на кого подъял секиру-сатиру: на купца Живодралова – до ста тысяч рублевиков в процентах ходят, а сын, в науках просвещенный, едва пищу имеет… Этот сюжетец Новиков тиснул в «Живописце»: хоть и подмалевка, однако обличительная. Тиснул и упустил из памяти какого-то Богодара, какого-то Вражкани. А тот сидел перед ним в кресле. Да-да, собственной персоной: Федор в переводе с греческого – «дар бога»; Каржавин анаграммой – Вражкани.
Пришлось все это, злясь на самонадеянность, сказать Новикову. Николай Иванович рассмеялся и, коснувшись лба кончиками пальцев, попросил Федора Васильевича явить снисхождение к его, Новикова, дырявой памяти. Лукавил! Но Федору Васильевичу ничего иного не оставалось, как «явить снисхождение» и приступить к переговорам о дядюшкином рукописном наследстве, подчеркивая необходимость полного издания «Гулливера».
Но Федор еще и не взял настоящего разбега, как Новиков уже достал корректурные листы: третьего дня принесли со стрелки Васильевского острова, из бывшего дворца царицы Прасковьи – там помещалась Академическая типография. У Николая Ивановича были добрые и прочные отношения с печатниками; они выдавали в свет его сатирические журналы. Типографское изделие в несколько сот страниц, которое Новиков сейчас подал Федору, представляло собою третью и четвертую книгу «Гулливера» в переводе Ерофея Каржавина. Минута! Давешней неловкости, раздражения как не было. Каржавин встал и растроганно, благодарно поклонился Николаю Ивановичу, Новиков тоже встал, словно и ему привиделся Ерофей Никитич Каржавин.
Возвращая корректуру пузатому шкапу, Николай Иванович говорил, что вообще-то распродажа книг ползет улитой, что он решил не довольствоваться лавочным торгом, а сыскал на Морском рынке купца, готового за десять процентов с выручки держать уличных разносчиков… Стали толковать о шрифтах, бумаге, тираже, об издательском промысле. Толкуя, ощущали симпатию, согласие, товарищество.
Узнав же о скором каржавинском отправлении за границу, Новиков словно бы чуть-чуть отстранился от собеседника. Каржавин между тем не без горячности объяснял свое намерение пополнить и расширить круг научного знания, изучить хирургию и фармацевтику, дабы здесь, дома, лечить простолюдинов. Объясняя, вдруг уловил в своей горячности что-то похожее на оправдание, и это было неприятно, досадно, хотелось сказать, что медициной не довольствуется, а будет по мере сил близить решительные перемены, столь необходимые России. Но именно об этом-то он не то чтобы опасался оказать Новикову, а медлил, не сознавая отчетливо причину своей нерешительности.
Новиков между тем отвечал, что науки любят свободу и распространяются более всего там, где свободно мыслят, милосердие же есть свойство истинного христианина. Ни единого упрека не молвил, но вялость тона слилась с неприятным, острым ощущением Каржавиным своего давешнего самооправдания. Все это было отзвуком старинного, корневого отношения к отъезду. Даже при искренней сердечности к отъезжающему, даже при понимании разумности и необходимости такого поступка отъезд все равно словно бы соприкасался с изменой. Чувство было стародавним, наследственным, возникающим вопреки вольнодумию.
Каржавин глядел в раскрытое окно, на дворе желтизною растекался июльский полдень. Можно было бы сказать, что первопричиной заграничных вояжей – домашний деспотизм. И сказав, повторить мысль Дидро.
Новиков рассеянно перебирал бумаги. Можно было бы сказать, что россиян Европа не наставляет, а развращает. И сказав, повторить банальность.
Нет, оба молчали, увеличивая духоту паузы.
12
Теперь даже у маринистов читаем: «парусник». И всем понятно: «парусное судно». А в те времена брякни кто-нибудь: «Поехал на паруснике», грянул бы хохот: вообразил бы каждый езду верхом на матросе; специалисте по шитью парусов. Нынешний читатель может возразить: моряки не ездят, моряки ходят на кораблях. Отвечаю: в те времена и корабельщики говаривали: «Поехал по морю».
Ехать предстояло на галиоте «Жанна и Питер» – шкипер Лоренс уходил из Кронштадта в Амстердам. Каржавин засвидетельствовал паспорт в конторе полицейской и в конторе адмиралтейской. Переправил багаж на борт двухмачтового суденышка. Переночевал в гостинице и ранним утром, когда так далеко и чисто слышны корабельные колокола-рынды, направился с белокуреньким мальчуганом, демидовским внуком, в Купеческую гавань.
Тусклая волна шлепала, как тряпкой, о сваи. Пристань гудела под тяжестью телег и бочек. Кричали чайки, отчаливали и причаливали баркасы. Хорошо! Хорошо, да не совсем ладно: из Ораниенбаума, с южного берега Финского залива мчалась шлюпка.
Четверть часа спустя наперехват Федору тяжеловесно ринулся Каржавин-старший. Лицо его, налитое кровью, было страшным, горячие, темные глаза метали молнии, голос срывался:
– Подлец! Ступай за мной! Бежать вздумал?
И с той же тяжеловесной стремительностью – в адмиралтейскую контору. Не оглядывался, ни разу не оглянулся. А Федор… Федор шел за отцом, сжимая руку перепуганного, плачущего мальчугана. Да, шел за отцом – не посмел ослушаться. «Кто донес? – стучало в голове. – Кто ему донес?»
В конторе Каржавин-старший, раздувая ноздри, жестко попросил флотского офицера взять под караул «сего господина»: пачпорт фальшивый, вор и покуситель на жизнь родителя. Федор, серый, как холст, сказал: «Ложь». Каржавин-старший метнулся к железному ящику в углу… Стояли такие в людских, в караульнях, на кухнях: огниво, кремень, трут, два-три сухих полешка на растопку, лучины для раскуривания трубок… Метнулся, выхватил полено, занес над Федором, но дежурный мичман грянул, как в рупор: «Суши весла!» – и захохотал, как дурак.
В ту минуту возник адмирал, грузно-тугой и грозно-заспанный. Мичман пальнул рапортом. Его превосходительство с непонятной веселостью выдохнул: «Хо!» И, приблизившись к Федору, указательным перстом поднял его подбородок. Федор отшатнулся. «Хо?» – удивился его превосходительство. Приказал: «Связать!» – и спросил Каржавина-старшего:
– Покамест суд да дело, не угостить ли молодца порцией кошек?[6]6
Канат, орудие телесного наказания нижних чинов.
[Закрыть]
Сжав кулаки, Федор отступил на шаг. Шрам под скулой багровел. В миг единый Василий Никитич ухватил взглядом и эти кулаки, и этот шрам. Руки повторяли отцовские – такие же крупные, сильные, с побелевшими сейчас крепкими костяшками; раскаленный шрам, казалось, обжег Василию Никитичу губы, некогда шептавшие: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Он засопел, колупнул носком сапога половицу и отвернулся. «Хо!» – выдохнул адмирал и сделал знак мичману. Каржавины остались с глазу на глаз.
– Государь мой батюшка, – едва слышно, но очень отчетливо произнес Федор, – вот вы минуту тому едва не порешили меня, сладко бы вам жилось, окажись вы сыноубийцей?
– Ты меня, Федька, без полена убил, – трудно и хрипло отозвался Василий Никитич.
– А велика ли вам радость-то была бы увидеть в своем сыне рабский дух? Дух человека, рожденного под игом холопства?
– Не велика, Федька, радость, что вижу в тебе дух этого… как бишь? Руссо который, проповедник который: все общее. Знаю, не только противу отца бунтуешь, не только. Гляди, не сидеть бы на бобах.
– А сын ваш, – заключил Федор, будто не расслышав, – чадо ваше желает вам покоя и благоденствия. Статься может, никогда больше не увидимся.
– Будет! – отрезал Василий Никитич. – Аминь! Езжай куда хочешь. А только знай: нету у тебя отца. Нету!
День или два держали Федора под караулом. Удостоверились: паспорт нефальшивый, умысла на жизнь родителя не было. И Кронштадт медленно утонул за кормой галиота «Жанна и Питер».
Глава третья
1
По смерти бездетной вдовы Жакоб Лотте досталась крохотная мастерская. Если ты не ветришься, ветреность моды приносит доход.
Хорошенькая блондиночка могла бы стать гризеткой – содержанкой дворянчика на красных каблуках или нотариуса в черной мантии. Черта с два! Она была из тех, кого легко заподозрить в шашнях, но трудно склонить к ним. О да, уличные торговцы курятиной – по совместительству почтальоны Амура – доставляли то, что игриво называлось «цыплятками»: любовные записочки. И Лотта отправлялась на рандеву. Но только тогда, когда хотела, и только с тем, с кем хотела.
Ей предлагали брачные контракты. Она отказывала весело, беспечно, претенденты не оскорблялись: такова была общая участь. Постепенно отказы стали огорчать самое отказчицу. Лотта не находила того, кого у нас называют суженым. А ей так хотелось развести огонь домашнего очага.









































