Текст книги "Мерцающие смыслы"
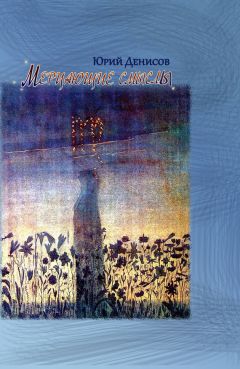
Автор книги: Юрий Денисов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Ты мне часто снишься, папа. А ещё чаще я вижу тебя словно наяву. Ты не спеша идёшь по Октябрьской улице, наслаждаясь тёплым днём и миром в душе. Ты в нелепо широких брюках и помятой летней шляпе. Я иду тебе навстречу, но ты ещё не видишь меня. А когда замечаешь, весь озаряешься удивительно доброй улыбкой: «Юрась, куда ты?» Господи, если бы ты знал, какую близость, какую бесконечную нежность я испытываю к тебе – испытываю и сейчас, когда пишу, мой родной, мой единственный во всём мире. Это чувство такое горячее и живое, и оно хочет, чтобы я обнял тебя, оно не находит себе выхода и приводит меня к тому месту на земле, где ты исчез навсегда. Там, на небольшом железном обелиске – твоё фото и выгравированные на стальной дощечке слова: «Михаил Фёдорович Денисов. 1906–1974». Мой отец.
Дворовый кот
Серый кот появился в нашем дворе лет пять тому назад. И тогда уже он не был молодым и забавным, и никто не захотел взять его к себе. Целыми днями кот бродяжил, а ночи проводил в сараях. Ваську – так его, не сговариваясь, назвали – Ваську кормили из жалости домохозяйки.
Моя мама тоже не питала симпатий к дворовому приживале, но угощала его щедрее всех, и он в ожидании подачки частенько приходил на наше крыльцо. В жаркие дни кот забирался под скамью, ложился на бок и дремал, наслаждаясь прохладой свежевымытых досок пола. Но стоило мне сесть за столик обедать, как Васька уже похаживал вокруг моих ног, ласково их касаясь и оставляя на брюках шерстинки. Но, бывало, он не откликался ни на какие манящие запахи, ни на какие призывы. Тогда я сам извлекал его из-под скамьи и бросал ему кусок хлеба или рыбы. Странное дело, Васька даже не вздрагивал и только выжидательно смотрел на мои руки: от старости, наверное, он потерял нюх. Его беспомощность вызывала во мне и жалость, и раздражение. Я ногой пододвигал недотёпу к его еде, и тогда он садился, выгнув спину, и тихо ел.
Послеобеденные часы Васька любил проводить на солнцепеке около клумбы. Заметив кота, дворовые ребятишки подымали его и на задних лапах медленно и церемонно водили туда-сюда. В своей пепельнополосчатой шубке, покорный и равнодушный, он в эти минуты был похож на потрёпанного жизнью меланхолического джентльмена. Слишком уж кроткий, он явно не подходил для участия в детских играх, и озорники вскоре отпускали его с миром.
Васька уходил от них, лениво пробираясь между тёплыми от солнца стеблями табака и петунии. Тело бродяги в этих цветочных джунглях казалось меньше и невесомее.
Хищнический инстинкт в старом коте почти угас. Только однажды мне удалось увидеть, как играл Васька с пойманной мышью. Не сводя с неё глаз и вообразив, что полумёртвое существо пытается убежать, он сделал несколько игривых прыжков, оставив мышь позади себя. Заметив это, кот возвратился и сел перед своей жертвой. Горделиво изогнув шею, победитель безразлично поглядывал на мышь и лишь изредка мягко и презрительно дотрагивался до неё лапой.
Драк с другими котами Васька всячески избегал. И всё же, в первые весенние недели, когда снег становится мокрым и грязным, когда гнусно, сбиваясь на младенческий плач, воют коты, старый приживала ходил с ободранными ушами, с запекшейся кровью на голове. Кошки не гнушались им, и он где-то подолгу пропадал. Его худоба усугублялась до безобразия. Разлегшись на крыльце, кот не просил есть и только лизал и лизал мокрую шерсть. Когда я останавливался над ним, он прекращал своё занятие и поднимал на меня глаза. Взгляд их был отчуждённый и безжизненный. Вскоре кот исчез так надолго, что все о нём попросту забыли.
Однажды в летний день я стоял на крыльце и от нечего делать наблюдал за крохотными белыми червячками, спускавшимися на невидимых нитях с ветвей яблони, стоявшей в нескольких шагах от дома. Внезапно большой серый котище с яростно изогнутым хвостом выскочил из цветочных зарослей и словно взлетел на дерево. Он улёгся на толстой ветке и стал сладострастно вонзать когти в её кору. «Эй!» – крикнул я. Зверь прервал свою усладу и взглянул на меня наглыми жёлтыми глазами. Затем с ловкостью пантеры он соскользнул по стволу на землю.
Я узнал Ваську, но какого-то непривычно иного, словно претерпевшего какое-то преображение. Меня взволновало предчувствие тайны, и я сел на скамью обдумывать увиденное. Среди моих смутных мыслей мелькнула догадка, и я сразу ей поверил: я видел сына того жалкого бродяги, о котором никто уже не помнил. Я усмехнулся грустной простоте истины и долго не мог выйти из сладкого оцепенения, которое испытываешь порой, глядя на облака, разнообразные и всё же похожие, бесконечно сменяющие друг друга.
Чистая экзистенция
Элле
После смерти отца маме пришлось поменять нашу прежнюю квартиру на квартирёнку в серой блочной пятиэтажке. Радовало здесь только близкое соседство дома с уютной церковью, стоявшей под сенью роскошной липы.
В первый мой приезд к маме в её новое жилище (а было это не меньше трёх десятков лет тому назад) меня удивило одно довольно странное зрелище: три человека, взявшись за руки, с печальной степенностью ходили вокруг нашего дома – удручённая пожилая дама, удручённый пожилой мужчина, а между ними молодой человек среднего роста. Довольно правильное типичное лицо технаря было бы симпатичным, если бы не его болезненно отрешённое выражение.
Странно было видеть и то, что не он поддерживал родителей, а они водили сына, такого молодого и по-спортивному крепкого.
Я спросил у мамы, что это за люди. «Живут в нашем доме, в последнем подъезде, – ответила мама. – У них сын сошёл с ума». Он, один из лучших студентов строительного института, сдавал государственные экзамены, да так переусердствовал в подготовке, что его ум, не выдержав длительного перенапряжения, рухнул, как загнанный конь, да так и не поднялся. Пребывание в психбольнице ровным счётом ничего не дало, и по причине полной безобидности его тихого безумия парня вернули домой.
Через год я увидел, что бывшего студента выгуливает уже одна только несчастная, совсем поседевшая мать. А через два года и её не стало.
И с тех пор он ходил кругами совсем один – и на удивление энергично, словно спеша к желанной цели. Но эта никому не ведомая и не видимая цель всегда как бы удалялась и ускользала от него, и он спешил за ней по одному и тому же замкнутому маршруту: от нашего дома через соседний двор выходил на улицу, поворачивал налево и шёл по тротуару вдоль великолепных каштанов и лип. Дошагав до угла и не заходя в столь близкий церковный дворик, он поворачивал к нашему дому и дальше повторял свой закольцованный путь и второй раз, и третий, и уж Бог знает какой по счёту, вплоть до глубокой темноты.
Лишь изредка он сходил с дистанции, несколько минут стоял под торцовой стеной, склонив голову, и словно совещался о чём-то сам с собой. А потом возобновлял свою энергичную ходьбу. И так вот круг за кругом, круг за кругом, с утра до позднего вечера изо дня в день. Да что там изо дня в день! – из месяца в месяц, из года в год! И незаметно, незаметно уже из десятилетия в десятилетие. Стрéлки не всяких улочных часов ходят по кругу столь же бесперебойно.
Когда мы встречались на его орбите, он вежливо здоровался со мной кивком, или не очень чётко произносил слово «здравствуйте». А иногда приостанавливал свою ходьбу и пожимал мою руку, глядя своими глазами цвета затуманенного неба мимо моего уха куда-то в пространство. Он не знал моего имени, и я не знал, как его зовут. Впрочем, однажды мне послышалось, что продавщица магазина назвала его Витей, если только слух меня не подвёл.
Магазин был одной из трёх коротких остановок в его постоянном кружении. Когда грузовик подвозил туда продукты, Виктор охотно помогал их разгружать, и в его движениях мне чудилась сдержанная праздничность.
Возможно, продавщицы его подкармливали, но я ни разу не видел, чтобы он что-нибудь жевал или пил. Он словно питался Божьим духом. А вот курить он курил, правда, изредка, и только чужие. Он спокойно здоровался с курившим незнакомцем и двумя пальцами у губ показывал, чего хочет. И никто никогда не отказывал ему в сигарете.
Кроме магазина, заглядывал Витя ещё и в парикмахерскую буквально на пару минут – наверное, просто поприветствовать девушек.
Но ни одна девушка никогда не сопровождала Витю в его быстрой ходьбе. И ни один парень, и ни одна женщина, и ни один мужчина. И тем более ни один ребёнок. Никто и никогда. Витя ходил один, всегда один.
И годы, и даже десятилетия если и меняли его, то медленно, очень медленно. Он не толстел и не худел. Только ветры, солнце и мороз заметно опростили и осмуглили его лицо. Волосы не поседели, но посветлели и поредели.
За всё время нашего шапочного знакомства Виктор ни разу не засмеялся, ни разу не улыбнулся, ни разу не загрустил. Его лицо не выражало эмоций – оно выражало их отсутствие. Скажите, что выражает серое лицо отшлифованного временем булыжника?! Примерно столь же богатой была и мимика Виктора.
Его круговую сизифову ходьбу не останавливали ни дикая жара, ни дикий мороз. Летом ходил он в сандалиях, в брюках, потрёпанных, но не замызганных, и в неяркой рубашке с короткими рукавами. Зимой – в туфлях, тех же брюках и не очень-то тёплой куртке.
Болел ли Виктор? Если и болел, то вряд ли кто-либо это видел и тем более – вряд ли принимал в нём участие. Во всяком случае, я ни разу не встречал его в насморке и ни разу не слышал его кашля.
Выпивал ли он? Да что вы, Господь с вами!
Он неизменно трезвым выходил на бесчисленные крýги своя и сходил с них для сна столь же трезвым.
Милые домики нашего города беспощадно разрушали, а на их месте быстро возводили высоченные стандартные коробки; на одних улицах старый асфальт растрескивался всё больше и больше, а на других делали тротуар из беломраморных плит. Совсем малое меньшинство жителей бешено обогащалось, а огромные множества безнадёжно нищали. Разрасталась крикливая борьба честолюбивых политиканов. Совершались всё более кровавые убийства и немыслимые афёры.
А замедленно стареющий Витя, по моим невольным и совсем недавним наблюдениям, всё ещё, как всегда, быстрым шагом ежедневно ходил по своей неизменной орбите за кругом круг, за кругом круг – «и на челе его высоком не отразилось ничего».
Поездка вглубь
Знакомый рассказал мне, что в одном селе нашей области он купил у какой-то женщины целую кучу старых книг по невероятно дешёвой цене. Назвав район и село, он растолковал, как найти нужную хату. Я сразу же загорелся идеей съездить туда и уже на следующий день взял на работе отгул.
Всю ночь перед поездкой мне не спалось. Всю ночь, словно кладоискателю, мерещились мне сказочные книжные сокровища: Андрей Белый, Фёдор Сологуб, Кнут Гамсун, Жан Жироду… Перед моими глазами, словно наяву, возникали переплёты, корешки, титульные листы. Но я мгновенно трезвел при мысли, что женщина могла уже рас продать своё богатство.
Наконец-то рассвело. В нетерпении стоял я в очереди за билетом, в нетерпении садился в автобус, в нетерпении ехал.
В десять утра автобус остановился на асфальтированной площади районной автостанции. Я спрыгнул с подножки прямо в горячий солнечный свет. В кассе я спросил, когда можно будет уехать в Демьяновку. «А я почём знаю?» – недоумённо пожала плечами кассирша. – Спросите у диспетчера!»
Диспетчер – сельский парень в клетчатой рубашке – носился по двору, как угорелый, заскакивал на минуту в свою крохотную комнатку, вновь срывался со стула, кого-то искал и, похоже, был всем этим совершенно счастлив. Едва ли не на бегу он бросил мне, что и добраться до Демьяновки, и выбраться оттуда – дело совсем не простое. В лучшем случае я смогу вернуться сюда только на следу ющее утро.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Как быть? Для размышлений оставалось целых два часа. Я снова зашёл в зал ожидания. У двери ржавел в бездействии автомат для газировки. На скамьях сидели несколько человек. У окна две девочки скучно глазели во двор. Рядом с ними тихий, как будто замусоленный, пожилой колхозник, разложив на коленях газету в масляных пятнах, неторопливо жевал кусок чёрного хлеба с салом. Скуки ради я зашёл в буфет. Там пил пиво небритый мужик в кирзовых сапогах. После каждого глотка он прислушивался к ощущениям собственного желудка. Тоска стала нежно сжи мать мое сердце. Я вышел во двор. В дальнем его углу стоял автофургон, приспособленный под автоматический тир. Его молодой хозяин пекся на табуретке. К тиру время от времени подходили парни, делали по два-три выстрела и куда-то исчезали. По соседству с тиром в галантерейном киоске дурела от духоты и безделья хорошенькая продавщица. Между тиром и киоском на стульчике сидела баба-торговка. Рядом с ней ожидало своего часа ведро, прикрытое марлей. Его содержимое так и осталось для меня тай ной: к ведру не подошёл ни один покупатель. Торговка без дела привычно подрёмывала на солнцепеке.
Что-то непонятное тягостно томило меня. Я неудержимо сожалел о своей пустой затее, и любимые писательские имена стали превращаться просто в звуковую пыль. Я медленно поддавался тяжёлому ощущению то ли вселенской пустоты, то ли невыносимой перенасыщенности бытия.
Я пожаловался диспетчеру, что приходится так долго ждать. «Ну и что?! – удивился он. – Ждите себе! Что ж тут такого?!» И я видел, как люди ожидают часами, молча, не выказывая ни малейших признаков нетерпения. Какая разница, где, чего и как долго ждать?! Везде одно великое однообразие – небо, дороги, сёла. Времени здесь так мно го, что оно утратило всякую цену, словно неисчислимые пески пустынь.
Но вот, слава Богу, и автобус! В него втиснулась целая толпа. Держась за поручень, я вслушивался в размеренный разговор усталой опрощённой интеллигентки и её крепкого рыжего односельчанина. Речь шла о недавно умершем сельском учителе, очень хорошем человеке, о корове, кормилице его семьи, о местных свадьбах, о приездах и отъездах общих знакомых. Эти негромкие события интересовали их не меньше, чем горожанина – политические сенсации, футбольные матчи и модные кинофильмы.
Когда мне удавалось, пригнув голову, посмотреть через ветровое стекло, перед глазами проскальзывали то холмик, то мостик, то придорожные вербы, то небогатые хаты. По деревенской улице торопливо семенили утята; женщины в тёмных кофтах и юбках спокойно шли вдоль плетня; медленно, сомнамбулически прикрыв глаза, брели по дороге коровы; свежебелые облака, казалось, замерли в далёкой сонной синеве.
Владелицей распродаваемой библиотеки оказалась худощавая пожилая крестьянка с кроткими от усталости глазами. Она отвела меня в кладовку и открыла там огромный кованый сундук. Пока я лихорадочно перебирал книги, хозяйка, как бы извиняясь, рассказала, что их ещё до войны собрал её муж, бухгалтер, ныне покойный, что большую часть книг, те, что постарее, она сдала в утильсырьё по восемь копеек за килограмм. Я едва сдержал стон, хотя и понимал: ну, до бумаги ли ей, бумаги, такой ненужной среди нескончаемых работ, забот, хлопот?! Чтобы не терзать себя ещё больнее, я не стал расспрашивать, какие же книги отдала она под нож: то, что для меня – величайшая ценность, для неё – детские пустяки. Женщина несказанно изумилась, получив сорок рублей за горку книжного хлама.
На обратном пути домой, трясясь в кузове попутного грузовика, я думал: множество наших занятий, бытовых или творческих – это попытки отвернуться и не глядеть в невообразимую безмерность пространства и времени, попытки как угодно отвлечься от нашего неодолимого ужаса перед неизбежной бездной. Забыть об этой бездне или приучить себя к ней – одна из сокровенных целей всех культур. Я прячусь от ужаса за паутинной завесой искусства. У естественных людей защита куда надёжнее – бессознательность. Что же, каждому своё!
В городской сутолоке мне время от времени вспоминалось: где-то в пространствах полей, под огромным беззвучным небом затерялась баба-торговка, сонно склонённая над своим бессмысленным ведром.
Непоправимое
* * *
В углу – его гитара,
Учебник на столе…
От этого кошмара
Где спрячусь на земле?!
Везде шепчу безгласно:
– Сынок! Сынок! Сынок!
Услышь, как ежечасно
Отец твой одинок!
* * *
Ярослав Денисов
Нет интересов, нет желаний,
И хочется уйти из мира
Туда, где жизнь беспечной ланью
Летит, туда, где плачет лира.
Хочу упасть в траву густую,
Хочу забыть о всех невзгодах,
О том, что я живу впустую,
Не видя цели год от года.
О Господи! Явись пред очи!
Душою болен я немного:
Мне грусть немая сердце точит.
Спаси и сохрани больного!
И в церковь я пойду святую
И поклонюсь пред образами.
Скажу я тихо «Аллилуйя!»,
Христа я видел пред глазами.
Декабрь 1983
* * *
Ярослав Денисов
Лужи, грязь, сухие листья,
На дворе и на душе туман;
Серые, болезненные лица…
Кажется, что прошлое – обман.
Солнце, лес, чарующая осень!
А сейчас через меня проходит дождь.
В дни такие каждый смерти просит,
Души наши пронимает дрожь.
Кажется, что все исчезнет скоро —
Люди, кладбище, весь белый свет,
И зима чарующим узором
Оборвет больной свинцовый бред.
Но ещё у всех больные лица,
И, как прежде, хочется забыться.
Полтава, ноябрь? декабрь? 1983
Ярослав Денисов
Перед встречей
Ещё вчера я не мог представить, что смогу увидеть тебя. И вот я еду в поезде. Каждый занят своим делом. Кто читает, кто играет в «дурака», две старушки проводят «обмен информацией».
Сейчас между нами десятки и сотни километров, но мыслями я с тобой. Я думаю о том, что стоит мне проснуться – и я увижу тебя.
«Увижу тебя» – два слова, но какие бурные чувства скрываются за ними! Ещё вчера я думал, что смогу увидеть тебя лишь через долгих полтора месяца, но вот я еду к тебе и через некоторое время заключу в свои объятия, и ты будешь говорить: «Боже мой, какие страсти! Безумец, остановись!» Мы будем идти, и я, не помня себя от радости, буду лобзать тебя на ходу. Чтобы избавиться от моей опеки, ты скажешь заклинание: «Сатано, изыди! Пуш-пуш! Пуш-пуш!», и я буду вынужден оставить тебя. Но как нельзя остановить время, точно так же невозможно погасить во мне любовь к тебе!
Где-то среди встречающих ты ждёшь меня.
Но как сладки минуты встречи, так горьки минуты прощанья.
Неумолимый поезд будет делать расстояние между нами всё большим.
Но пока это всё в будущем.
12.2.1981
Расставания и встречи
Сыну
Только что я ощущал под руками твои плечи, только что ты крепко стискивал меня в объятии, ещё по-детски пылком.
И вот уже ты смотришь на меня из тамбура, из-за чужого рукава. Мы вкладываем в наши неотрывные взгляды всю силу любви, чтобы потом ярче видеть в памяти лица друг друга и тем самым не до конца покориться безличной и безразличной мощи, которая через минуту, через секунду оторвет нас друг от друга.
И вот поезд дергается с негромким лязгом, и колеса медленно, едва заметно начинают двигаться, словно с трудом освобождаясь от тысячетонной тяжести. Проводница неумолимо оттесняет вглубь тамбура пассажиров, страстно вытягивающих шеи, чтобы еще, в последний раз взглянуть на тех, кто остается на перроне. Поезд уже катится. Твое отчаянно прижатое к стеклу лицо исчезает.
Сначала между нами тихо возникают десятки метров, потом сотни, а затем – километры, десятки, сотни километров. Серпухов, Тула, Орёл, Курск… Поезд неуклонно приплюсовывает название к названию, словно захлопывая между нами всё новые и новые двери.
Между нами вклиниваются всё новые и новые леса, рощи, перелески, всё новые и новые города, деревни, посёлки, где идет своя, безразличная к нам, жизнь.
Так ширится, ширится, ширится до необозримости сначала узкая полоса воды между кораблём и берегом, между берегом и кораблём.
У каждого из нас сразу же появляются свои, отдельные дела и заботы. Когда ты смотрел в вагонное окно, я уже сидел дома за чаем. Мы оба не знаем и каждый день не будем знать, что происходит с другим в этот час, в эту минуту. Нас забирают друг у друга твой и мой города, твои и мои улицы, твои и мои знакомые. Нас разделяет неразделённость ежедневных впечатлений и еженощных снов.
И только письмо или междугородный телефонный звонок убеждают, что мы оба существуем, что я помню о тебе, а ты – обо мне, и мы ещё не безнадёжно мертвы – ты для меня и я для тебя.
И вот наступает день, когда мы становимся всё более и более реальными друг для друга. Тысячекилометровое пространство сокращается и сокращается; между нами всё меньше полей, всё меньше лесов, всё меньше городов и сел. Ещё два часа, ещё час, ещё пять минут – и ты с дикарским криком налетаешь на меня, словно радостный вихрь.
И снова твои плечи – в моих руках, и снова я гляжу в твои сияющие глаза.
Родной мой! Когда-нибудь ты поймёшь, что значит обладать бесценной надеждой увидеться и что значит – остаться без неё навек.
21.9.1980
К ещё не родившемуся сыну
Я чувства странного не передам,
Когда ты под рукой плеснул, как рыбка.
Бывает так мечтательно и зыбко,
Когда прислушаешься к дальним поездам.
Я ничего не ждал, я изнемог,
И ты мне выпал, как игральный кубик.
Я, грешный, в жизнь послал тебя, как Бог,
Что чистоту твою заране любит.
Скрывала материнская любовь
Тебя в утробе от страданий мира,
Но ведь из самых тайных погребов
В конце концов выходят дезертиры.
Когда ж распнут за правду на кресте,
Ты вспомнишь, глядя на идущих мимо,
Что счастье было в тёплой темноте,
Где ни добро, ни зло не различимо.
1967
Памяти моего сына Ярослава
Солнечного, что его манило
Запредельность тёмную познать?
Потянуло с дьявольскою силой —
И забыл он всех, отца и мать.
Не нашлось ему под солнцем места!
В выморочном свете декабря
Ледяная страшная невеста
Зазвала к себе богатыря,
Налгала, что жизнь скучней, чем пропись,
Чтобы в сладком помраченье он
Сделал шаг в зияющую пропасть —
И пропал там до конца времён.
Боже, знак яви мне в днях никчёмных,
Каково ему на небеси!
Юных, чистых и незащищённых
От соблазна адского спаси!
1984
Эскиз портрета
У него была крупная голова, мягкого овала лицо, длинные брови, большой мягкий нос, чёткое очерченные, созерцательно-чувственные губы. Я очень любил теплокровную плоть его щёк, любил ощущать ладонью или щекой их молодой жар.
В небольших тёмно-карих глазах обычно читалось чуть печальное чувство собственного достоинства. Страстность его натуры то горела открыто в его глазах, то таилась, словно огонёк свечи, прикрытый осторожной рукой.
Прекрасны были его руки: ни грубости, ни изнеженности, а только рыцарское благородство: такие длинные крепкие пальцы должны сжимать рукоять меча или резец. Я любил их верное пожатие, их крепкую хватку.
Помню, в июне 1982 г. я так измотал себя припетербуржскими ненасытными странствиями, что в Ораниенбауме меня настигло что-то вроде шокового нервного кризиса: я вдруг весь увял, сознание измочалилось, я не держался на ногах. Да и сидеть не мог. В электричке он положил мою голову себе на колени и держал мои руки в своих. И я был просто весь перевёрнут невиданной силой струящейся из его рук нежности и безоглядной преданности. В один миг мне открылась вся бездонность его любви. (О сынок, сынок!).
Люди редко и слабо сознают чувственную природу родственно-дружеской любви. А ведь именно это дает блаженство нашему существу, когда мы глядим в глаза брата или гладим по спине маленького сынишку; все блаженство – в этих взглядах, касаниях, звучании дорогого голоса; блаженство – в присутствии дорогого человека. Не удивительно, что в сказанном сквозит эротический оттенок. Если отбросить патологические исключения, то в родственной любви сексуальности не увидишь, но трудно не заметить эроса как силы, притягивающей человека к человеку.
И нас влек друг к другу этот родственный эрос. Да ещё с какой яркой силой! Я глубже любил его, он был сильнее влюблён в меня. Наши поздневечерние беседные прогулки вокруг нашей любимой Макаровской церкви, по ближним, всё ещё уездным, безлюдным улочкам были воистину прогулками двух влюблённых. Я и сию минуту, словно наяву, предплечьем ощущаю его крупную руку и вижу рядом его богатырскую фигуру. Чтобы посмотреть ему в глаза, я подымал голову. Минутами я просто изнывал от гордости, что этот великолепный юноша – мой сын, мой оруженосец, мой защитник, один вид которого мог остановить хулигана. О чем только мы не говорили! Он отвечал мне, словно учителю, свои уроки, объяснял непонятливому папе что-нибудь из школьной премудрости. Мы читали стихи – и он, и я. Я рассказывал ему о Наполеоне и Шопенгауэре, о проблеме теодицеи и различных политических режимах. Он впитывал услышанное, как губка. Уверен, в наших беседах можно было услышать любовно-родственную интимность. Мы были счастливы в эти часы.
Потом возвращались домой, к бабушке, и счастье продолжалось, просто изменив лунную окраску на комнатно-уютную.
Чуток перекусив, мы укладывались спать вдвоём на раскладном диване, он ложился на бок лицом к стене. До сих пор вижу его мощное юношески смуглое плечо и тёмно-каштановый затылок.
Я гасил свет, ложился и просил «рассказать на сон грядущий сказку престарелому отцу». Сказок он знал великое множество, едва ли не дословно, и заранее продумывал ежевечерний репертуар. Приятно было сквозь кисейную дрему внимать его мягкому баску, текущему с плавной увлечённостью. Яра очень веселило, когда я, примолкший, вроде бы уснувший, вдруг переспрашивал о сказочных перипетиях. Так было и в последний мой при его жизни визит в Полтаву, в сентябре-октябре проклятого и проклятого минувшего года.
А начались эти сказки на ночь, когда Яру было 8 лет.
Никогда не забуду его, 10-летнего, в Паланге. Стояли белые ночи, и я ночь за ночью не спал. Как трогательно пытался он усыпить меня при помощи гипнотического внушения: «Папа, ты засыпаешь, ты спишь… Тебе снятся хорошие сны… Ты видишь старинные книги в золотых переплётах…» Мог ли я тогда предвидеть, что через 6 лет его уже не будет в живых, его, щебетавшего беспрерывно?
Тогда он придумывал приключения своего героя, некоего Юзаса Бена и пересказывал их везде и без передышки, доводя нас с Эллой до головной боли. Так и вижу его между нами на палангской улице. Помню апогей юзасбеновских приключений: герой съезжал по крутому скату европейской крыши в русское корыто стирающей домохозяйки. (В этой роли мне виделся невозмутимый Бестер Китон).
В то лето его голову переполняли также невероятные изобретения. Помню замечательное противопожарное устройство: в большой аквариум закладывается мина с тепловым взрывателем. Во время пожара нагретая аквариумная вода оказывает свое действие, и взрыв обливает водой пылающие стены.
Мы часто и бестолково играли в бадминтон на тротуарах, на пляже, в лесу, в парке. Однажды в парковом пруду прекрасный белый лебедь подплыл к самой кромке берега. Яр погладил его по голове ракеткой – с искренней нежностью. Это выглядело так нелепо-комично, что мы долго со смехом вспоминали столь странное проявление нежных чувств.
Яр любил всякий «праздник», и, когда мы отмечали мой день рождения в национально-стилизованном ресторане «Вайдилуте», весь лучился радостью.
А в каком радостном возбуждении бежал он впереди небесно-золотого курортного духового оркестра! Как поглощённо слушал его, усевшись на земле у самой эстрады!
В Паланге впервые проявилась его романтически-созерцательная натура. Однажды мы (я, мама и Элла), отправились на вечерний спектакль еврейского народного театра, а он остался дома. Потом выяснилось, что он бродил два-три часа по палангским улицам, по морскому берегу, предаваясь волшебству необъятного мистического света.
Тогда же он поразил меня дикой в десятилетнем мальчугане, честолюбивой жаждой увековечиться. «Папа, когда будет музей Денисовых, я там буду стоять скелетом? Ну, если не скелетом, то хоть чучелом.» Как мы тогда хохотали!
Хорошенький смех!..
У меня теперь появилось убеждение: человек, не ладящий с бытовыми предметами или не способный усвоить какие-то элементарные навыки, – человек не от мира сего.
Яру никак не давался нормальный почерк (до школы мы умышленно не учили его писать).
Сколько усилий было на это положено! – и всё впустую. Элла так отозвалась о результатах его каллиграфии: «Это же какие-то дребезжалки и мешки!» Ярусь весело смеялся – и ничего не мог изменить. И однажды меня испугало предчувствие, что это – непоправимо, что навсегда ему суждено так мучительно и медленно выводить корявые буквы, а житейские последствия сего я легко мог вообразить. Думаю, именно из-за почерка-то он и писал так редко и так мало.
Он был большой мастак быстро разрушать домашний порядок и превращать уют в неуют. Это, пожалуй, общемальчишеское. Но я, помнится, создавал беспорядок до какой-то меры: затем он уже мучил моё эстетическое чувство, и я приводил предметы в новую комнатную гармонию. Яр же так и оставался безразличен к беспорядку вокруг него.
Ярусь был на редкость импульсивным. Когда его захлёстывала волна очередной эмоции, он мгновенно забывал обо всём остальном. В 9-м классе он долго жаждал «дипломата» («кейса»). Сколько было радости, когда купил, наконец! Проходит месяц-два. В школе он узнаёт, что в универмаге «выбросили» какую-то желанную пластинку. Оставив «дипломат» у коридорной стены, он сломя голову помчался в магазин. Вернулся – «дипломата» нет.
На сей раз он тоже ринулся очертя голову – а вернуться уже не смог.
Бывало, он лежал на диване вверх лицом, вытянувшись во всё тело. Взгляд тупой, ничего не ищущий, ничего не воспринимающий; время от времени его пальцы совершали нечто монотонное, бессмысленно-вредоносное: он скручивал бахрому скатерти или тыкал ножом в стол. Эта бездарная апатия выводила меня из себя, я впадал в раздражение и ярость. Почитал бы лучше, порассматривал альбомы, послушал музыку! Не наслаждался ли он в такие минуты предощущением небытия?
С ним нередко приключались разного рода незадачи: то он плутал в самой примитивной геометрии улиц, то забывал деньги, отправляясь за покупкой, то ехал на троллейбусе в противоположную сторону, то вскакивал в поезд не то что в последнюю минуту – в последнюю секунду (как это было в начале школьной поездки в Карпаты). Он словно погружался во что-то неясное в себе и заворожённо пребывал там, пока внешняя жизнь не напоминала о себе настойчивее.
Абсолютно неясельному и нешкольному ребенку, родиться бы ему в богатом поместье, получить домашнее гуманитарное образование и вести независимый образ жизни глубоко чувствующего и мыслящего дилетанта, избавленного от всякого внешнего насилия.
Ярусиного друга, а по сути погибельного провокатора, по-подростковому досадовала «бессмысленность» его смерти: «Лучше бы погиб, выражая протест, погиб за свои идеи!.. Или хотя бы из-за любви…!»
А я чувствовал явственно: то был бунт против нашей реальности.
И ещё: свершилось страшное жертвоприношение, смысл или бессмысленность которого не постичь нашему уму.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































