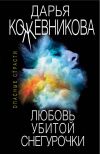Текст книги "Фарфор"

Автор книги: Юрий Каракур
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VI
День закончился, небо понемногу сворачивается. Все наши соседи посмотрели уже вечерний сериал, зажгли газ под сковородкой и стали на медленном огне жарить курицу, крылья и ноги. Как будто испугавшись такой судьбы, особенно громко закричали вечерние стрижи за окнами и летали, летали, не останавливаясь, летают и до сих пор. А мы который уже час идём по лесу.
– Хочется пить, – говорю я.
– А вода закончилась у тебя? – спрашивает Тамара. – И я свою допила.
– Ты тогда ягод поешь, они сочные, – советует Тоня.
Я залезаю рукой под пакет и раньше времени, воруя, зачёрпываю ягод. Мне становится свежо, легко и кисленько – как будто жвачку дали пожевать. А Тамара злится на Тонины советы, ведь мы (прописью) потерялись по Тониной вине, и Тамара злое ядовитое копьё кидает в Тонину спину:
– Тоня, а чего ты в свои огурцы чесноку-то столько набу́хала?
Тоня закачалась, но не обернулась.
– Сколько надо, столько и набухала… – сказала Тоня, на плечи бог зачем-то посадил злую, бесконечную Тамару.
А Тамара окрепла от злости и начала обстрел:
– Кто вообще в лес берёт солёные огурцы? Ещё бы селёдку взяла… И ладно бы сама ешь что хочешь, так ребёнку дала ещё! Надо было придумать такое! Или ты в лес три литра воды тащишь?
Тамара палкой проверяет Тонину мягкую, безвольную тушу и достаёт нож:
– И вообще, Тоня, леса не знаешь – не суйся!
Тоня дёрнулась, но как-то смиренно, а Тамара уже вырезает язык, вынимает кровавые субпродукты: желудок, печень, сердце.
– А уж если понёс тебя чёрт, то людей не бери хотя бы, сами помрём, без тебя!
И от ярости закидывает подальше Тонино сердце:
– Ребёнка вон потеряла, мать теперь наплачется!
Жаркая, с испариной спина у Тони: завела и потеряла. Тоне вспомнилось лицо моей мамы (где-то на рынке), и от этого лица, приятного в общем-то, стало тяжело: наплачется потом, и Тоня, не желая, даже сопротивляясь, увидела, как рот моей мамы начинает изгибаться, и Тоня жалобно попросила Господи и на всякий случай Дева Мария, Христос, покажите, куда идти, где дом, где сад, где сын, господи.
И хотелось бы сразу, чтобы Тоне было спокойнее, но нет, мы ещё идём и идём, и только потом какой-то сбой передо мной, непонятная суета, и выясняется, что, боже мой, мы вышли на перекрёсток. Очевидный крестик, наша тропинка, поуже, накладывается на более широкую, утоптанную, и отсюда, столкнувшись, перепрыгнув через поваленное дерево, тропинки сосредоточенно, опустив головы, расходятся в разные стороны. Я начинаю радоваться находке: куда, куда теперь? А Тоня с Тамарой молчат, их ужас умножается на два: куда теперь? вперёд? направо? налево?
– Всё, не могу больше, – говорит Тамара, ставит корзину на землю и садится на дерево, дерево трещит, крошится, но выдерживает Тамару. Тамара закрывает лицо руками и держит так немного, как будто плачет, но потом отнимает руки, и лицо сухое, злое.
– Пойдёмте по широкой тропинке, по ней чаще ходят, – говорит Тоня.
– Надо же придумала, спасительница, а куда идти-то? В какую сторону?
– Мох надо посмотреть.
– Блядь, что тебе мох, Тоня?
– То и мох…
– Как мы домой-то пойдём?
Тоня отходит к дереву и нагибается к земле, рассматривает ствол.
– Вот мох с этой стороны, – говорит Тоня, – значит, Клязьма там.
– Какое там?
– Река там, на юге, а дом там.
Тоня раскидывает руки, указывая части света.
– Клязьма не на юге, вспомни-ка, автобус-то как на Семязино ездит! – Тамара машет в другую сторону.
– Не знаешь, а споришь. Говорю тебе, Тамара, река – там!
– Вот ты упрямая пизда, Тоня! Не там!
– Поменьше бы тебе орать, Тамара…
– Ты меня не учи, лучше сына своего алкаша поучи.
Лес охнул, Тоня оказалась тонкой, стеклянной, щёлкнула, и трещина нервно побежала от горлышка к самому дну.
– Поучу, не беспокойся, – ответила Тоня по-школьному, не то, что хотела, но не сообразила другого, ранец, тонкие волосики захвачены косичкой.
– Не очень что-то ты научила его водку не пить!
– Мне хоть есть кого учить, – догадывается Тоня, – а тебе только коту в жопу дуть.
– Посмотрите-ка на неё, какая семейная тут нашлась! Сын алкаш, муж паралитик, и всегда был ёбнутый! – спрыгивает с дерева Тамара, земля трясётся. Тамара хватает корзину, говорит мне: «Юрочка, пошли!», и мы уходим от Тони по одной из тропинок. Тоня всё меньше, меньше, брошена на кресте, дура, пизда, заебаааа.
Обернуться на Тоню тогда неловко, а сейчас хочется, в последний разок: как тебе стоится, Тоня, дорогая, пока жизнь не полетела вниз? Но не обернулся, и как Тоня осталась там, я не знаю. Ну, наверное, ножки (варикозненькое расширеньице) стояли подошвочками на земле, ручки висели грустно, и волосы в косынке припрятаны, – что-то в этом духе? А через пять лет Тонин сын – впрочем, ладно.
VII
Через двадцать минут, не больше, только чуть-чуть помелькали ёлки, одышка и правый коленный сустав – всё больное захныкало в Тамаре, и она останавливается передохнуть.
– Сейчас припрётся вон.
Лес пересчитывает нас (раз и – всего-то – два) и темнеет ещё, начало девятого.
– Тащится еле-еле… – говорит Тамара примирительно.
Мы ставим чернику на землю. Тамара пытается подхватить и усмирить дыхание. В животе ноет догадка (а что если…), и мы жадно (ох, нет, нет) прислушиваемся: лес негромко что-то скидывает, перекладывает, чем-то скрипит, разрешает спеть птичке, которой никогда не видно. Но Тоню не слышно.
– Антонина! – строго и немного стесняясь зовёт Тамара. Услышав это, Тоня должна бы очнуться, одуматься, всплеснуть руками – что же это я! – и побежать к нам. Но Тамарин голос звучит глухо, стукается о деревья и не уходит далеко. Тоня очевидно не слышит.
– Тоня! – решается Тамара на погромче. – Тоня!
Тоня не откликается.
– Тоня! – подхватываю я, хотя это невежливо – без тётя, без отчества, но нету у человека никакого отчества, он ни тётя, ни дядя, нет у человека согласных, когда он один в лесу, а только «оооо», «аааа» остались; послушайте, послушайте, как громко я кричу: – Тоооняааа!
Мы большие тревожные уши приложили к лесу: давай, Тоня, пошурши ветками, закашляйся, крикни нам в ответ. Тони не было. Из скобок вышло: Тоня оставила нас и пошла в другую сторону.
– Ну пусть плутает одна, – говорит Тамара.
Тамара поднимает корзину как чужую, удивляясь весу: что это? ах да, ягоды, мы когда-то хотели варенья. Я оглянулся: позади валялась пустая тропинка.
Но нет, не ладно: через пять лет Тониному сыну придётся продать машину, чтобы отдать долги, придётся просить денег у матери, придётся совсем спиться и кричать, кричать на обои, на тёмные углы, и застегнуть потуже ремень, и повеситься придётся на батарее в ванной, прямо под тряпочками для пыли, под носочками Тониными, под маечкой Тониной, 1965 длинное тире 1998, страшно представить, да мы и не представляем. Тоня! Тоня! – кричу я.
Лес вёл независимые приготовления, выключал просветы, натягивал темноту снизу вверх. У поссовета ещё светлый вечер, солнце завалилось за картофельное поле, но оттуда, из ямы, светит, и хватает света, и в халатах женщины щёлкают семечки. А в лесу, под подкладкой, уже темно. Впереди много деревьев, оврагов, о болоте не хочется даже думать, и в Тамаре кто-то произнёс слова старуха, ребёнок, и когда они соединились, старуха и ребёнок, ей сделалось очень жаль – старуху и ребёнка, двух несильных людей, и снова загорчило глубоко в горле. Ей всё время хотелось обернуться и посмотреть, не идёт ли Тоня, и она злилась на Тоню, дрянь, эгоистку. И всё же Тамаре было неприятно, как будто подкисло и свернулось что-то внутри, вспоминать, как она кричала на Тоню. Нет, нет, отбрасывала Тамара свои грехи, эта Тоня, дура, завела их. Тамара подкладывала гири, крепила магниты под чаши весов, и огромный Тонин грех, конечно, перевешивал: завела, запутала, не знала леса, и теперь вот они брошены в лесу, старуха и ребёнок.
Мы остановились пописать. Тамара назвала это детским мягким словом посикать и ушла с тропинки, громко боролась с ветками и звонко сикала, а вышла грустная. Потом моя очередь, я отступаю в другую сторону и дальше, дальше, чтобы Тамара не разглядела меня. Я снимаю штаны, но не могу начать писать и вспоминаю, что мы с бабушкой смотрим сериал «Антонелла» в 16:10, после обеда, когда сыто и сонно, и сохнут на кухне тарелки, и кошка лежит на балконе в тени (начинаю тихонько, на дерево, чтобы Тамара не слышала), и лету ещё долго жить, август нескоро – вот когда мы смотрим «Антонеллу», чёрно-белый телевизор (обливаю наивный, ничего не понимающий папоротник) показывает картинку, сопротивляясь яркому солнцу в южное окно, бабушка значительным холмом заснула на диване и храпит (заканчиваю и возвращаюсь на тропинку).
Мы идём дальше, Тамара устала, задохнулась, и сердце заворочалось, как будто его разбудили. Тамара вспоминает, что в груди у неё вредное, ненадёжное сердце, прошлой зимой она после инфаркта лежала в больнице (спирт, ватка) и, когда чуть окрепла, подолгу, опершись на подоконник, смотрела на больничный двор, на инфекционное отделение, и грязные серые декабрьские фургончики скорой помощи мёрзли, но, вдруг задёргавшись, уезжали, и по тропинке, преодолевшей сугроб, проходили цветные береты или норковые шапки. А ранним вечером, когда санитарка разносила звонкий кефир в стаканах, всё в палате становилось серое, неприятное, но свет включали как-то не сразу, как будто воспитывали больных, и уборщица мыла полы с хлоркой в остро-ярком жёлтом коридоре, что-то там советовал врач, вар… что-то, мелкие такие таблеточки. И даже аптека с синими камушками в витрине вспомнилась Тамаре, пристройка торчит из общежития, и фармацевт Нина с прижатой шапочкой химией. Надо бы (Тамара постаралась поглубже вздохнуть, но сердце ударило в стенку, как разозлённый сосед, которому мешают) вырастить мяту, она, говорят, полезна для сердечников, и вот даже два глиняных коричневых горшка показались Тамаре – на балконе, мокрые после дождя. Что-то неуловимое изменилось, будто тропинка вздохнула полной грудью и потянулась увереннее, и Тамара отрывает взгляд от земли и видит, как разбавляется лес, вдруг через него показывается сиреневое небо, и уже не огромный лес, а тонкая сеточка перед нами. Поле, поле, предчувствуем мы, и уже готовы увидеть его впереди, и взгляд, разогнавшись, взлетает, и Тамара говорит:
– Блядь! Клязьма!
Я выглядываю из-за Тамариной попы.
– Погляди-ка, Клязьма… – повторяет Тамара, смягчаясь.
VIII
Лес обрезали, он взвизгнул резким спуском (в дырках – ласточки), а внизу – спокойная медленная река лениво отражает небо. Глаза наши от непривычки удивляются, что можно смотреть так далеко, без перечёркиваний. Конечно, река значит только одно: мы вышли не туда и нужно возвращаться в лес. Но когда так высоко стоишь и так далеко видно, хочется стоять и смотреть, и чувствуется в этом какая-то отгадка. И мы с Тамарой стоим и смотрим. Розово-жёлтое небо, надвигается синее, в воде всё дрожит и слегка изгибается.
Но отгадки не найти, и даже больше мучаешься – что там, что там дальше, за горизонтом? Мне кажется, что всё-таки можно дойти и заглянуть. Я представляю там Киров, а в Кирове трубы незнакомого завода, которые видны из окна кировской квартиры, или старый ржавый трамплин для лыжников над речкой (говнотечкой – добавляется всегда само собой), с трамплина зимой можно съехать и подпрыгнуть высокооо и увидеть всё размашистое, картографическое Предуралье. Тысяча километров, двенадцать часов – и это на фирменном поезде, а пассажирский едет бесконечно, перекур на каждой станции, возьмите вот малину, клубнику, огурцы, даже чеснок со своей грядки. И я уже вспоминаю билетную кассу, гранитный прохладный вокзал, уже отодвигаю занавеску, чтобы смотреть из окна поезда, уже иду шатаясь по вагону – за кипятком – как будто волна раскачивает, но не бросает меня. А Тамара привычным прыжком (как над всякой рекой) прыгает к Вовчику, в деревянную молодёжную лодку, удар воды о бортик, упругое сопротивление реки, которое запомнилось навсегда. Он (мама говорила: «Твой Вовчик!») держит красивыми руками вёсла (грязные ногти), она в глупом (глупеньком) платье, волосы увязаны в кренделя, хохочет как дура (дурочка). «Поедем к реке?» – спросил Вовчик. Ну пусть так спросил Вовчик, некому проверить. Хорошо, пусть не кренделя, а длинные распущенные волосы. Она, конечно, соглашается до сих пор: давай поедем. Вовчик, а если расправить имя, то Володя, был высокий, худой и поэтому ломкий, как будто вот-вот разбегутся трещинки от позвоночника, и он развалится на куски, и она поехала к реке. Володя – так особенно красиво, но и тяжело, даже сейчас, на Володю надо было ещё решиться, и она, наверное, решилась всего пару раз. И Володя грёб (неприличный глагол), наклонялся к ней, нависал над нею (неприлично, неприлично!) и с силой толкал воду, и солнце висело красное, а она отворачивалась, ей казалось, что это так красиво – грустить перед ним, вот мой грустный профиль, смотри какой. Но он как-то резко и даже разочарованно смотрел на берег, казалось, он устал и злится, и Тамара вдруг почувствовала, что совсем, совсем не знает его, и при каждом его движении из-под рукава показывалась большая подживающая ссадина, и откуда эта ссадина у него на руке? Ей обидно было, что она не знает, обидно, что у него своя, незнакомая ей жизнь, и хотелось как-то обидеть его или посмеяться над ним. И тогда она, безо всякого грустного профиля, а просто смотрела на реку, и река что-то хранила на глубине и с таким значением отражала небо, что Тамара думала, что же дальше? и хотелось домой. Тамара не может припомнить лицо Вовчика, он всё время как будто против солнца. А я не могу представить поездки дальше Мурома, потому что после него я обычно засыпаю (ночной поезд, темнота).
– Пойдём, Юрочка.
Отвернуться от реки тяжело, но мы отворачиваемся и – ох, снова лес. От этого уже все устали. Ну давайте соберёмся с силами и ещё разок посмотрим. Длинное, длинное тире: потерялись – и плутали, плутали.
Лес ещё темнее, чем мы запомнили – чёрная громадина. Деревья совсем осунулись, постарели, и не хочется входить туда после розового неба. Но река тянется за нами, её не забыть, и нам почему-то делается понятнее от того, что позади течёт река. Тамара удивляется и смущается даже, что до сих пор помнит Вовчика, и от смущения начинает подсчитывать, сколько лет прошло, потому что с цифрой как-то спокойнее, и получается сорок четыре года. Она тяжело идёт и несёт Вовчика – ну пусть в животе, где раньше трепетало и билось, а теперь спокойно, прохладно лежит Вовчик.
– Устал? – спрашивает меня размягчённая состарившаяся Тамара, сорок четыре года прошло.
– Да нет, не устал.
– Боишься?
Мотаю головой: нет, не боюсь.
– Ну и умница, не надо бояться, – говорит Тамара и от всего сердца врёт: – Скоро дойдём.
IX
Так нельзя, но сегодня, двадцать два года спустя, на улице от сердечного приступа упал Слава, Тамарин муж. Успел ли схватиться за грудь – непонятно. Или, может быть, только выгнулся от боли, напряг шею: где воздух? воздуха не стало. Тридцать первое мая, тяжёлый, как сразу все припомнили, падучий день: и Евдокия упала (это давно, пятнадцать уже лет назад, запомнилось, потому что в один год с бабушкой) – лицом к телевизору, и мамина подруга Нина упала у подъезда тридцать первого мая в прошлом году – резко заболела голова и успела только пожаловаться, что сильно болит. Ну и Слава, от которого не ожидали, высокий, оглохший, седой, бесцветные губы – уже почти памятник, стой себе и стой, но вот упал и ободрал локти об асфальт, ударился головой. И вся его многолетняя улыбчивая жизнь в этот момент заболела в груди, обожглась на локтях, намокла на затылке, а потом снова – в груди. Соседки стали тут же охать: как же теперь Тамара без него? Тамара несколько лет назад поломала бедро и с тех пор не выходит – всё он, и в магазин, и везде. Везде – это, конечно, за квартиру платить, вызвать врача, всё это маленькое, с бумажками в руке называется безграничным словом везде. И пока мама не узнала, что с ним, я отправлял его везде: с Тамарой за грибами, за горохом, отправлял на Клязьму рыбачить, к его матери в Камешковский район, и даже он поехал у меня в Крым и плавал в чёрных трусах в Алупке. Но потом мама сказала, что Славу положили в больницу, он идёт на поправку, и я вызвал его обратно телеграммой, он вернулся загоревший, и они с Тамарой лежали на соседних кроватях и болели вместе: сердце и бедро, восемьдесят один год и семьдесят девять лет.
X
Мы долго, как полагается, повторяем пройденное и возвращаемся, наконец, к перекрёстку тропинок. На перекрёстке совсем лица нет: Тонин, почерневший. Наивные глаза сами по себе осматривают землю: не валяется ли чего Тониного, вдруг обронила косынку, пакетик, даже на секунду шальная мысль: может, записка? Но нет, всё это, конечно, фантазии, и мы прячем Тоню поглубже, как будто вообще без неё пришли, как будто не знали её.
– Юрочка, давай посидим.
Мы садимся на дерево (Тамарина попа помнит рисунок, а мне – в новинку) и с особым энтузиазмом работы над ошибками комкаем, выбрасываем неудавшееся и вот теперь сделаем хорошо – дайте новую контурную карту.
Вдруг оказывается, что день уже закончился и стал воспоминанием: так давно было утреннее поле, перекус, ягоды на кустах (вспоминаются ярко, с ощущением чего-то прохладного, влажного). Несколько часов назад, с Тоней, мы пришли по тропинке справа, и хоть мы не знаем точно, куда выходит эта тропинка, но возвращаться не хочется. Позади – река. Значит, остаётся либо вперёд, либо налево. И мы пойдём… Тамара прокладывает в голове уверенно текущую за спиной Клязьму (Северный Ледовитый океан лежит белой глазурной корочкой сверху, без него не нарядно): примерно от Химзавода, ровненько мимо вокзала (река поглядывает на железную дорогу), потом кишечником (влево-вправо) до Улыбышева, и там Клязьма нежной дугой поглаживает кладбище, где мамочка Тамарина, и вытягивается серой дождевой ширью, когда холодно и поминальный мамин ноябрь. Тамара сбивается, но потом возвращается, подхватывает петельку Клязьмы, и тянет, и выравнивает её в па-рал-лель-ную с железной дорогой линию, а это значит – у Тамары уже кружится голова, – что раз Клязьма внизу, то дом наверху (появилось видение проклятой Тониной правоты, но Тамара гонит его). Получается: по тропинке вперёд.
От такого решения Тамаре делается страшно. Ведь если не туда, то точно ночь в лесу. Тамара посмотрела на свои ноги: резиновые полуботиночки по-мужски, галкой стоят на земле, две заплатки хорошо легли, не протекают.
– Юрочка, давай переоденемся наничку, – вдруг говорит Тамара.
Я смотрю на Тамару и не понимаю: как? во что?
– Нужно снять одежду, вывернуть наничку и снова одеться.
Тамара встала и сняла куртку. Я удивляюсь тому, как быстро из-под привычной зелёной спецовки высвободилась незнакомая пышнорукавая, пышногрудая блузка, цветочки, мелкий орнамент, пропущена пуговка.
– Давай, давай, снимай, а то не выйдем до утра.
XI
Тамара развязывает косынку. Там, оказывается, хранилась седая коса и вот теперь вывалилась. Гладкие, крохотные пуговки блузки не даются её пальцам, выскальзывают, но всё-таки расступаются у воротника, и показывается белая сильная Тамарина шея, и там уязвимая серая верёвочка, обещающая крестик. Мне неловко смотреть, я встаю и снимаю бейсболку California, думаю, куда положить, и кидаю на землю, и мне тут же жалко её. Тамара дошла до конца кофточки, выпустила как будто неокрепшие крылья, заколыхалась нежным, шелковистым. И я понимаю, что это всё теперь окончательно: Тамара раздевается.
Я снимаю мамину спецовку и кидаю её на землю. Тамара буксует на верёвке, которая вместо ремня удерживает её штаны. Я расстёгиваю одну, вторую, третью пуговку на старой деда Якова рубашке (прошлым летом спасли от гаража, от сада), и там видна моя белая, тонкая, с косточками грудная клеточка, и потом – четвёртая, пятая пуговка, всё смягчается животом и булочной дыркой пупка. Мне стыдно, я смотрю вниз, но боковым испуганным зрением замечаю, что Тамара подхватила верёвку и развязала – значит, боже мой, Тамара спускает штаны, и теперь из-под расправленной кофты появляются и белеют неожиданные, голые Тамарины ноги. Я не решаюсь сразу снять рубашку, и она болтается на мне расстёгнутая.
– Снимай штаны, Юрочка. Нужно всё скинуть, а потом вывернуть.
Тамара снимает кофту, остаётся в лифчике, полнится атласной блестящей грудью, лямки застиранные, перекрученные. Трусов Тамариных я боюсь и стараюсь не смотреть на них. Я неловко, как в раздевалке перед физкультурой, стягиваю штаны и, когда нагибаюсь, чтобы подцепить штанину, случайно вижу Тамарины трусы: как у бабушки, кремовые, чай с молоком. Мои ноги встают поближе друг к другу, как будто нужно тесниться, занимать поменьше места, так не страшно. Я снимаю рубашку, и только белый стыдный конверт трусов на мне. Дядя Юра умер, а его юношеские трусы, пожелтевшие от старости, достались мне, и там есть дырочка, через которую, два раза повернув пальцем, можно достать – но я не достаю, это для взрослых.
– Исподнее тоже снимай, – говорит Тамара.
– Что?
– Ну трусы. Давай, давай, а то не выйдем.
И Тамара осторожно, как хрупкую вещь, снимает лифчик и тут же подхватывает грудь правой рукой, чтобы она не упала, и крестик серебряный заметно лежит у Тамары под загоревшим летним треугольником.
– Отвернись, я сниму трусы. И сам снимай.
Я поворачиваюсь к Тамаре спиной, мне десять лет, мне стыдно и жалко показывать Тамаре свою попу, но лучше всё-таки попу, а не всё остальное. Я слышу, как Тамара шуршит, и снимаю сначала носки (раз, два с дыркой), а потом двумя пальцами начинаю спускать трусы, медленно, резинка спотыкается о кожу, но решаюсь и спускаю их до колен, дальше – они сами, и тут же удивляет меня прохладный ветерок. Он, оказывается, есть, но обычными местами не чувствуется, а тем, которые (нет слова и неподходящие игрушечные яички) обычно кучно лежат в тепле, очень приятно.
– Теперь давай встанем лицом к тропинке и перекрестимся, – говорит Тамара.
Мы встаём к тропинке лицом, не глядя друг на друга, но в краешке глаза синеватым, нагим, повисшим торчит Тамара. Она крестится, я подхватываю крест и с опозданием повторяю: лоб, пупок, правое плечо, ветерок в паху, левое плечо.
– Теперь поклонись три раза.
Я кланяюсь, чувствую новую неожиданную свежесть три раза.
– Господи, лешего прогони, путь покажи. Во имя отца и сына и духа святого. Аминь!
– Аминь, – говорю я.
Мы ещё несколько секунд стоим в лесу голые. Даже мне кажется, что после «аминь» сразу одеваться нельзя, и секунды дрожат, трясётся, удерживаясь, изображение, лето девяносто второго года, которое ну ничего пока не значит, не закончилось, не запомнилось. Тамара, сокращённая пенсионерка, пятьдесят девять лет, пахнет железным потом, Юра, мальчик десяти лет, белые, голые колышки. Получилось, если точно, семь секунд, и дёрнулось дальше лето девяносто второго года.
– Ну вот, теперь можно одеваться, – послепроцедурным облегчённым голосом говорит Тамара. – Выворачивай и надевай.
Я поднимаю одежду, родную, спасительную, выворачиваю и надеваю трусы (тут же чувствую себя в безопасности), а дальше рубашку, штаны, носки и кепку остроумно, Калифорнией назад, кладу на голову. Тамара отстаёт на лифчик, но догоняет меня, закладывает косу в косынку – готова.
– Ну вот, – довольно говорит Тамара. – Пойдём!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?