Текст книги "Виват, Новороссия!"
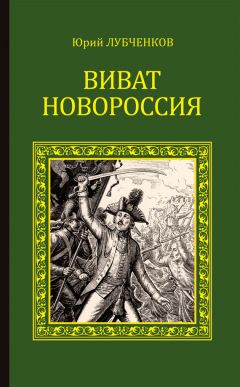
Автор книги: Юрий Лубченков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Жизнь нагло и мерзко обманула Кириллова. Башкиры, недовольные тем, что на искони принадлежавших им землях строятся какие-то, им явно не нужные, крепости, учинили злонамеренные волнения. Он начал бомбардировать кабинет и Сенат донесениями, которые под благостные кивки многомудрых голов правителей и оберегателей державы, осененных завитыми париками, читает секретарь:
– Башкиры – неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять…
Снова одобрительные кивки… «Разделяй и властвуй!» – этот Кириллов молодец: в глухой азиатской стороне применяет принцип императоров Великого Рима! Резюме: усмирительную политику междоусобиц продолжать, подкрепив ее регулярными войсками во главе с надежным руководителем. Кандидатура Александра Ивановича Румянцева возражений не встретила. И замаршировали, захлебываясь в июньской пыли, гренадеры. Драгуны, мерно покачиваясь в высоких седлах, глядели веселее. Но также муторно – идти воевать на край света! Где земля не меряна и все чужое – любой заробеет…
– Любезный Иван Кириллович, – мягко, но придерживая незаметно уже начинавшее дрожать веко – так его допек собеседник, – почти нежно проговорил Румянцев, – целиком разделяя вашу мысль, столь часто и подробно излагаемую в Петербург о том, что должно смирять башкирцев кайсаками, а кайсаков смирять башкирцами, позволю себе спросить вас: ваш Тевкелев – он как? Специально разжигает ненависть к нам местных жителей? Ведь поначалу простые башкиры относились к нам – ну, тепло, это понятно, вряд ли, – но терпимо, то есть спокойно, я бы даже сказал, равнодушно. Что нам, собственно, от них и требуется. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Так, кажется, говорят в народе? А Тевкелев…
– Российский полковник Тевкелев знает, дорогой Александр Иванович, в отличие от некоторых, как нужно обходиться с бунтовщиками! И он выполняет мои приказы.
– Ваш крещеный мурза Тевкелев принесет гораздо больше вреда, чем пользы, хоть вы его и держите как главного знатока по вопросу инородцев. Он дик по натуре. Да и кроме того доказывает нам свою лояльность. Слыхали, как говорят: хочет быть святее папы римского?
– Не слыхал. И знать не желаю, чего вы там набрались за границами вашими!
– Да это наше, Иван Кириллович. Ну, не слыхали – бог с ним! Меня-то хоть послушайте: жестокостью ничего не добьешься. Нужно мягче!
– Господин Румянцев! Как начальник Оренбургской экспедиции я буду придерживаться своих методов!
– А я, господин Кириллов, как командующий войсками, своих!
Если обратиться еще раз к пословице: когда паны дерутся – у холопов чубы трещат, разногласия начальников привели к новой вспышке восстания, затронувшей и русские деревни вблизи Уральского завода. Именно с помощью этих русских крестьян, организованных в отряды, преемнику Кириллова – Василию Никитичу Татищеву удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Сторонник гуманных мер, он постоянно конфликтовал и с Кирилловым, и позднее с Тевкелевым из-за их жестокого отношения.
И он, и Румянцев были правы – жестокостью добивались весьма малого. Проведенная Кирилловым в 1731 году карательная экспедиция привела только к новой волне вооруженного протеста. Мягкость же гасила пламя антагонизма. Но начальству, далеко сидящему, как правило, кажется, что подобная мягкость проистекает от нерадения в защите государственных интересов. И поскольку карательные акции с их шумом, пальбой, кровью были более эффектны и благосклоннее принимаются правителями – вот он как за мое, как за свое, крови не жалеет! – то Румянцева убрали первым – назначили правителем Малороссии, быть может вспомнив его дела на Украине еще времени Петра I, когда он упразднил там гетманство и основал Малороссийскую коллегию, Татищева – вторым. Второму повезло меньше. Он был обвинен в злоупотреблениях, против которых он как раз и боролся, отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. Абсурдность обвинений против него, свидетелями которых выступали явные преступники, высокий суд не волновала. Когда власть намеревается покарать очень ретиво отстаивающих государственный интерес подданных, примером своим показывающих неблаговидность деяний вышестоящих, – тут уж не до логики. Хоть какое бы дело слепить. Ведь недаром говорят: закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло!
Румянцев расставался с Казанью, сдавая дела новому хозяину губернии – князю Сергею Дмитриевичу Голицыну, сыну одного из руководителей Верховного тайного совета. После воцарения Анны Ивановны он жил безвыездно в своем дворце в Архангельском, куда и держал сейчас путь Александр Иванович, уважив просьбу князя Сергея и собираясь передать привет сына отцу. С собой к старому князю он взял только Петра, которому и рассказывает о князе Дмитрии Михайловиче, о его брате – фельдмаршале Михаиле Михайловиче-старшем:
– Как ты помнишь, не было у императора более страшного и несносного врага, чем король шведский Карл XII. Война наша со Швецией шла долгие годы. И вот в самом ее начале, когда молодая русская армия еще редко выигрывала сражения у шведов Петр Алексеевич послал князя Михаила Голицына отобрать у Карла одну из самых сильных крепостей, ту, которую он потом назовет Шлиссельбург – ключ-город. Было это осенью 1702 года. Русская армия не смогла сразу взять крепость и начала осаду. Начались морозы, пошел снег! Голицыну привезли приказ Петра: снять осаду и отступить, а он только-только все приготовил к штурму. Тогда князь и говорит курьеру: скажи, мол, Петру Алексеевичу, что я теперь уже не в его власти, а принадлежу единому Богу!
– Ну а дальше?
– Дальше… Был штурм. Голицын сам возглавил штурмовую колонну. Шведы пытались, очень пытались сопротивляться – им еще было в диковинку, когда русские их били. Но все же крепость пала. С тех пор – и навсегда – она русская.
– А государь? Не обиделся за эти слова?
– Может, и обиделся, не знаю. Поначалу мог обидеться. Но Голицын ему подарок такой сделал… Так что князь был щедро пожалован.
– А князь Дмитрий Михайлович воевал?
– Князь Дмитрий Михайлович и так перед державой заслуг имеет предостаточно. И смотри – уже подъезжаем – язык там не распускай. Старый князь строг. Братья при нем без разрешения сидеть не смели. Понял?
– Понял.
– Молодец. Вон, смотри, уже и дворец Голицына.
Подъехавшую карету встретили проворные казачки, так что Румянцевы не успели и оглянуться, как оказалися пред строгими очами хозяина. Первые приветствия и поклоны нарушили немного холодную чинность, но легкая скованность у Румянцевых так и не прошла во весь разговор, весьма короткий.
– Куда путь держите, генерал?
– На Украину, ваше сиятельство.
– Да, бывал… Изменилось там все, поди. Многое в державе переменилось за последние-то годы… И тебя, вот, простили…
– И вас, глядишь, ваше сиятельство.
– Не юродствуй! И не ври – кому врешь-то? Не простят меня. Чувствую, скоро возьмутся за меня. И не так, как раньше. Да и не нуждаюсь я в прощении их. Нет моей вины перед совестью своей и державой! Сделал все, что мог, хотя, может быть, надо было иначе немного. Но ведь хотел как лучше!
– Все хотят как лучше, ваше сиятельство. По крайней мере на словах.
– Обиделся… За то, что одернул тебя за комплименты твои чересчур дипломатические. Или думаешь, почему спросил тебя о прощении? Так не обижайся. Верю я и знаю, что не изменился ты, иначе бы и на порог не пустил – мне тут весточку от Сергея уже передали – а потому спросил, чтобы и ты сам понял, почему так милостивы к тебе. Опору они, Бироны эти, Минихи, Остерманы и прочий сброд чужеземный, ищут в склоках своих в знати нашей, природной. Ибо поняли, что не опасна она им – Петр-то Алексеевич-то насадил все-таки, как и хотел западные привычки своим ближним, ближним ко двору. Так что близ трона и будешь, мжуей, отечество любивших, искать – ан, глядишь, один-два… А еще, мол, где? Нету! Как Диоген будешь ходить, а никого и не найдешь. Поэтому и простил тебе старый грех, хоть и ругал ты немцев – что ты сможешь один? Да и смирился, они считают, ты уж.
– Так что же, ваше сиятельство, и будет так? И делать ничего уж нельзя?
– Нам нельзя. Свой шанс мы упустили. Но Россия велика. Петр-то император, только корочку сколол, а озеро-то глубоко! И что-то там делается! Должно деятся! Иначе во имя чего все муки русские, слезы, кровь, пот наш? И напрасно тогда громил степняков Святослав, напрасно выводил Донской свой народ под татарскую конницу, напрасно сдавали последнее в казну Минина! Святослав говорил, что мертвые сраму не имут. Это, когда они сделали все, что было в их силах и даже больше. А когда покорно подставляли шею под ярмо – тогда имут. И грех их перейдет на детей их, и дети их, рабы, – будут проклинать их!
Князь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Помолчал, и, не отворяя век, добавил:
– Запомни это, юноша! Тебе жить еще долго – значит, и дел за тобой много. Человек делами своими красен. Делами, на пользу отчизне своей. Ибо что мы оставляем, покидая этот мир? Голыми мы родились – голыми мы и уйдем. От нас остается память. Худая ли, добрая, но только она. Идущие после нас оценят деяния наши. Сквозь все лжи истина пробьется! Не может не пробиться, ибо без нее – не жизнь. И тогда суд людской на весах совести замерит свершения наши. И либо проклянет, либо забудет, либо восславит. Живи так, чтобы, умирая, быть уверенным в этом суде.
И после паузы:
– Ступайте. Устал я. Моя хозяйка вас чаем напоит. Прощайте!
Румянцевы поцеловали сухую руку Голицына, без движения лежавшую на подлокотнике, и тихо вышли из кабинета.
В гостиной уже хлопотала хозяйка, как назвал ее старый князь, – маленькая княжна Екатерина, дочь фельдмаршала Михаила Михайловича, племянница хозяина. Она пыталась как-то оживить разговор, рассказывая обо всем, что ей, ребенку, казалось смешным и интересным, но гости задумчиво молчали, отвечая как-то довольно сухо. В карете разговор тоже не завязался. Отец все повторял слова старого князя про себя. Этим же занимался и сын. Только иногда перед его глазами вместо безжизненно лежавшей руки Голицына вставали глаза его племянницы и ее ласковая полуулыбка. И как он ни тряс голову, эта картина преследовала долго, правда, постепенно делаясь все более и более блеклой, пока не стерлась совсем. Это старость помнит долго. Юность еще забывчива.
Вскоре Дмитрий Голицын по приказу Анны был ложно обвинен и заточен в Шлиссельбург, взятый штурмом его братом во благо России и во славу ее! Он умер в камере через три месяца.
Румянцевы узнали об этом только по прошествии долгого времени. По приезде в Малороссию Александр Иванович отправился в Глухов, где располагалась главная квартира армии, участвовавшей не всегда успешно в очередной русско-турецкой войне под командованием Миниха, незадолго до этого получившего фельдмаршальский жезл. Миних был в России со времени Петра I. Император, охотно привлекающий иностранцев, вытащил из европейского небытия эту своеобычную фигуру – как, впрочем, и все заморские авантюристы, ловящие в России фортуну за хвост. Начав в 16 лет службу во французской армии, он потом перешел в Гессен-Дармштадтский корпус, потом – Гессен-Кассельский, потом – к Августу II, саксонскому курфюрсту и польскому королю, потом долго колебался между Петром I и Карлом XII, но смерть последнего бросила его в объятия России. Ныне он был Российским главнокомандующим.
Румянцев, понимая, что по случаю войны его генеральский чин наведет начальство на размышления, спокойно воспринял свой вскоре последовавший перевод в действующую армию, хотя и засомневался про себя в своих военных талантах. Но, по-видимому, это беспокоило только его. И вскоре Александр Иванович понял почему. Понял, когда более подробно узнал о предыдущей кампании той войны, шедшей уже второй год.
В этой кампании Миних взял штурмом Перекоп, захватил Хозлейв, разгромил столицу татар Бахчисарай, Ахмечти, но был вынужден отойти, поскольку крымцы боя принимать не желали, предпочитая совершать многочисленные конные атаки. Миних вывел из Крыма половину армии, не добившись ничего.
На следующий – 1737 год – уже при активном участии Румянцева, командира одной из трех пехотных дивизий, русские войска штурмом взяли Очаков – сильную турецкую крепость. Александр Иванович при этом командовал правым крылом армии. Но поскольку фельдмаршал приказал взять крепость не имея достаточных припасов, осадной артиллерии, не говоря уже о плане кампании, то армия понесла такие потери, что мало нашлось удивляющихся, когда на другой год Миних вынужден был отступить, оставив Очаков, столь щедро окропленный кровью русских солдат, и заодно бросив всю тяжелую артиллерию.
Лишь кампания 1739 года принесла русскому оружию победу. Сначала в июле был разбит под Славутичем 30-тысячный корпус сераскира Вели-паши. Два дня спустя сдался Хотин. В начале сентября Миних форсировал Прут и занял Яссы. Но тут скверную шутку с Россией сыграла союзница Австрия. Терпя периодические поражения от турок, она потерпела очередное и сокрушительное – при Дунае, потеряв двадцать тысяч войска, и новый главнокомандующий австрийцев Нейперг поспешил заключить с Портой сепаратный мир, отдав ей все, что можно и даже немножко больше. Нейперг был предан суду, но дело было уже сделано. Миних требовал продолжать войну, но страна была настолько истощена, что желающих поддержать его в правительстве не нашлось. Последовали переговоры с турками, в результате которых после всего, чем она пожертвовала, Россия добилась лишь возвращения себе Азова, да и тот подлежал – согласно договору – разрушению.
Но все же это была какая-никакая, а победа, и праздновали ее весьма пышно. 27 января перед Зимним дворцом проплывало церемониальное шествие войск. Колыхались знамена, гремела музыка, шляпы офицеров украшали лавровые венки. Потом начали раздаваться подарки. Бирон, явно никакого отношения к войне не имеющий, получил золотой кубок с бриллиантами, с лежащим в нем указом о выдаче полумиллиона рублей. Миних и все генералы получили золотые шпаги, а Миних – еще и пять тысяч ежегодного пенсиона. Волынский – лицо в данном случае штатское – был награжден 20 тысячами. Румянцев, в это время уже генерал-аншеф, получил заново подполковника Преображенского полка и чин статгальера (правителя) Малороссии, которым он так и не воспользовался. Вскоре после празднеств он вновь был назначен на привычный ему пост посла в Стамбуле. Он едва успел проститься с сыном – Петр приехал в начале мая – как пора было ехать. Отъезд произошел через несколько дней – 20 мая.
Александр Иванович, правда, успел из разговоров с сыном понять главное, хоть разговоры и были эти кратки… Петр приехал из Берлина, куда отец отправил его еще в прошлом году, и именно Берлин и был главной темой их собеседований…
– Ох, Артемий, правильно говорят: поделом вору и мука. Нешто я тебя не предупреждал, да и книги ты разные, поди, читал все-таки. А там что пишут? Помнишь? Красть – там пишут – нехорошо, грешно! А ты нарушил заповедь-то, Артемий, нарушил. И за это – гордись! – накажу я тебя своеручно. Ибо надеюсь я выбить из тебя дурное и вложить хорошее! – С этими словами царь Петр поднял свою суковатую дубину, и она исправно заходила по покорно склонившимся дрожащим плечам корыстолюбца…
Кабинет-министр Артемий Петрович Волынский уж который раз за последнее время жалобно застонал и вскинулся на кровати, окончательно и сразу проснувшись. Весь в холодном поту. Один и тот же сон преследовал его из ночи в ночь. «Быть беде, – как-то тоскливо-обреченно подумал Волынский, поняв, что уже не уснуть и решивший лучше от греха почитать. – Не к добру сие, чтобы этакое видеть не единожды». Когда-то такое, действительно, с ним произошло, но было это так давно, а помнить об этом так не хотелось, что Артемий Петрович как-то последние годы совсем и не вспоминал, даже мысленно, данный казус. «Может, из-за Тредиаковского? – подумалось мимолетно. – Да нет, вряд ли, – успокоил себя. – А дубинка-то у власти тяжелая», – как-то некстати вспомнил он сонные свои муки и, чтобы окончательно изгнать смятение полусонных мыслей, позвонил в колокольчик. На пороге бесшумно возник лакей.
– Свечей и квасу, – бросил Волынский и, через несколько секунд получив искомое, уселся поудобнее, открыл книгу и погрузился в яркий, беспечальный, всегда удачливый мир рыцарских похождений. Но мысли постоянно отвлекали от удачливого книжного персонажа, который в конце концов сквозь все тернии прорывался к звездам, к такому же пока удачливому герою в жизни – самому Артемию Петровичу. Удачливость закономерно порождала вопрос: до каких пор? До каких пор фортуна будет опекать своего блудного сына, постоянно рубящего сук, на котором сидит, а ныне замахнувшегося на самое святое, что нынче есть в России – на самого Бирона. Отсюда и тоска, и мрачность, и дурные сны. И даже трудно это было назвать игрой. Он жил этим. Жил полноценно, может быть, впервые за всю свою бурную и пеструю карьеру, сознательно рискуя всем во имя высоких целей, обычно в его повседневной борьбе под солнцем – как, впрочем, и для подавляющего большинства людей – не особенно и нужных-то. А было в этих повседневных схватках многое…
По своей первой супруге – Анне Нарышкиной – Волынский приходился родней Петру I. Проучив своего проворовавшегося родственника, Петр направил его сначала послом в Стамбул, а потом назначил командовать войсками, отправляющимися в поход на Персию. И там, и там, неожиданно для всех знавших его, он блестяще справился со всеми заданиями. Не удивлялся один лишь царь, уже неплохо изучивший Волынского и увидевший в нем талантливого к делам человека. Потом было губернаторство в Астрахани и Казани. В 1730 году – он автор одного из многих конституционных проектов. Анна после своего воцарения всех этих прожектеров не жаловала, и быть бы Волынскому опять биту – и на этот раз гораздо серьезнее – но он благодаря своим родственным связям с одним из новых любимцев императрицы Салтыковым, сыгравшим важную роль в ее возведении на престол, сумел увильнуть от этого. И зная о любви Бирона к лошадям – о нем говорили, что о лошадях судит как человек, а о людях – как лошадь – Артемий Петрович пристроился в конюшенное ведомство, дабы быть поближе к животворному вниманию – благоволению фаворита.
Расчет оправдался: когда умер кабинет-министр Ягужинский, бывший Пашка Ягужинский Петра I, назначенный при нем генерал-прокурором Сената, обижаемый верховниками, за что его сразу возлюбила Анна, то Бирон двинул на это место Волынского. При этом – откровенный и прямой человек, когда дело касалось нелицеприятных характеристик нижестоящих – фаворит заявил:
– Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но разве среди русских можно найти более лучшего и более способного человека?
Желающих спросить у Бирона, чем же – в положительную сторону – отличаются стоящие вокруг него тесно сомкнутыми шеренгами иностранцы, не нашлось, и этот риторический вопрос вошел в историю.
Свою лепту в определение политико-нравственной физиономии Артемия Петровича внес и сам Ягужинский, чувствовавший, что на императрицыных конюшнях дожидается своего часа его преемник:
– Предвижу, что Волынский проберется в кабинет-министры, – посредством лести и интриг. Но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить.
Сурово, но в некоторой мере справедливо. Конечно, Волынского трудно назвать идеалом, но ведь жизнь и судьба зачастую не выбирают и делают своих героев не из рыцарей без страха и упрека, а из того материала, который есть в данный период в наличии, который попадается под руку. И среди них могут оказаться всякие люди – поскольку все живые, обладающие, кто больше, кто меньше, достоинствами и недостатками – но, ощутив свое предназначение, они очищаются пламенем жертвенности, и короста предыдущих неблаговидных деяний сползает с них, как шкурка с царевны-лягушки. Так постепенно происходило и с Волынским.
Поначалу озабоченный – как и многие из современников его – мыслями о благах сугубо материальных, он, достигнув, можно сказать, вершин служебной лестницы, почувствовал в полной мере вкус к делам державным, когда первое место в его миропонимании заняли вопросы государственные, требовавшие скорейшего и единственно-правильного решения. Это неминуемо привело его к зыбким патриотическим кругам, ибо засилие иноземцев было вопиющим, а их отношение к стране одиозно-утилитарным.
Человек тридцать собиралось в его доме, где хозяин – как человек способный и государственно мыслящий – зачитывал им, комментировал и подбивал на споры по своему «Генеральному рассуждению о поправлении внутренних государственных дел».
– Господа, – торжественно говорил Артемий Петрович, обводя блестящими глазами достаточно представительное собрание, – я убежден, что все важные государственные должности должны непременно занимать дворяне.
Уловив недоуменно-недовольное шевеление Нарышкина и Урусова, представителей самой высокой знати, поспешил разъяснить:
– Под дворянством, господа, я, разумеется, понимаю всех лиц благородного происхождения, не отчленяя и нынешних потомков достойного боярства. Но встает вопрос: каким образом возможно пробудить державные чувства дворянства, когда наше время дает пример как раз – наоборот, всеобщего наплевательства? Выход один – предоставить дворянству возможность действительно решать судьбу отчизны. А для этого должно расширить состав Сената, подкрепив его лучшими людьми благородного происхождения, передать им и все должности канцелярские, дабы не думали ныне сидящие там, что они – пуп земли и без них все замрет. Нет, господа, они ошибаются! Дворянство само в состоянии управлять державой полностью.
– Артемий Петрович, – вмешался, не выдержав, Хрущов, – а чем государство жить-то будет?
– Резонный вопрос, господин Хрущов. Мое «Рассуждение» предполагает поощрение отечественных – повторяю, отечественных – промышленности и торговли. Тарифы и уничтожение всех внутренних препон – это, я уверен, дает государству недостающие богатства. Государство при правильном управлении непременно, я уверен, должно богатеть. Но управление должно быть разумным. Ныне же правят у нас люди недостойные. Государыня наша не сказать, чтоб особенно была умна, проще говоря – дура, да и правит ведь, вы знаете, не она, а герцог Курляндский, ныне который уж совсем к короне явно подбирается. План свой давний – женить племянницу императрицы на сыне своем он не отставил… «Годуновское» это намерение, господа. И не шушукайтесь, пожалуйста. Герцог знает об этом моем отношении.
– Недаром он так к вам холоден!
– Совершенно правильно, Петр Михайлович. И так от немцев не продохнуть – так нам еще немца на престол не хватало! Нешто мы такие глупые, что сами не справимся? Надо просто своих дворян учить лучше, дабы они готовы были взять бразды правления в свои руки. Попервоначалу можно будет и за границу их посылать для учения. Зазорного здесь ничего не вижу – каждый народ умен, и учиться друг у друга никогда не грех. Но учиться, когда сам ощущаешь, что нужно сие, а не когда менторы твои, от чванства и гонора раздувающиеся, учат тебя, недоросля темного и неумытого, премудростям европейским. Впору тогда спросить: каков же тогда сам учитель, что светильник разума, коий должен нести незнающим сие еще, пытается обернуть в огонь, на котором ему жертвенных тельцов поджаривать учнут? Подлинно знает он нужное или токмо пыль в глаза пущает? А при правильном обучении недорослей дворянских у нас и свои природные министры со временем будут.
– Скажите, Артемий Петрович, – спросил из своего кресла покойно сидевший Федор Соймонов, – все, что вы говорите – это хорошо, правильно, со всем этим я согласен. Но это все в общем. А вот, так сказать, ежели взять ваши планы помельче: как будет государство в губерниях-то управляться? Ведь сами знаете – государство богатеет, когда налоги собирает, а то ведь и на образование недорослей наших не хватит.
– Федор Иванович, предполагаю я восстановить воевод и не сменять их. Налоги им будет собирать в этом случае сподручнее.
– А вот Василий Николаевич Татищев, как раз, наоборот, говорит, что бессменные-то воеводы-губернаторы погрязнут в мздоимстве.
– Ну, сами посудите, Федор Иванович! Скажем, он знает, что его менять-то не будут, он и будет брать умеренно – чтоб и на другой год осталось. А ежели он сидит, а на другой год уже тут его не будет? Так он после себя пустыню оставит.
– Да ведь, Артемий Петрович, это чтобы воевода ваш о завтрашнем-то дне своем думал-то, он умным человеком должен быть, а ежели – пока мы министров своих не воспитаем – не наберем столько? Может, прав Василий Никитич: говорит он, что не воеводы по губерниям нужны, а коллегии крепкие? Где губернатор – один из коллегии.
– Умных мы наберем, Федор Иванович. На Руси их хватит. А коллегии эти анархию породят. Советовать многие любят, а отвечать один должен. Россия всегда была сильна монархией.
– Это после Батыя.
– Так и Батый-то сумел прийти, что власть великого князя зашаталась.
– Власть власти рознь, Артемий Петрович. Русь наша древняя была сильна не только князем, но и советом бояр с дружиной, и вечем Новгородским. Вы же сами говорите: пока интерес державный в дворянстве не разбудим – государству сильным не быть. Ну, да это и потом домыслить можно будет. А вот за смелость вашу перед Бироном – низкий вам поклон от всех нас.
– Благодарю вас, господа. При первом же благоприятном случае представлю государыне мысли о ближайших ее. Быть может, слова мои убедят ее искать достойных…
Случай представился летом 1738 года.
– На кого метишь? – жестко спросила Анна Ивановна, рассмотревшая замаскированный упрек отнюдь не за лучший выбор своего окружения.
– Куракин, но больше всего Остерман, ваше величество, и Бирон.
– Письмо с советами подаешь, как будто молодых лет государю! Из Макиавелли это вычитал?
– Ваше величество, я…
– Ступай!
Благоволение было потеряно, но время шло, а Бирон все медлил с выводами, которые он мог бы подсказать больной уже давно и тяжело императрице. Волынский занялся устройством торжественного действа, прошедшего почти сразу после торжеств по случаю заключения мира с Турцией, в ходе которого был создан знаменитый Ледяной дом – чудо умелых рук мастеровых и неизгладимый позор для русских, окружавших трон; и не одних царедворцев – были унижены не только непосредственные участники, но и все те, кто был свидетелем этого действа.
Анна Иоанновна пожелала поженить одного из своих шутов – князя Михаила Алексеевича Голицына, прозванного «Князь-квасник», поскольку в его обязанности входило и подавать императрице квас, и шутиху Анну Буженинову, названную так по ее любимому кушанию – буженине.
В качестве дворца молодым построили дворец изо льда, куда их сопровождали представители различных народов, населяющих Россию, собранные по приказу Анны Иоанновны, желавшей развлечься видом своих подданных. Развлекаясь и развлекая, в это празднество ракеты во время фейерверка специально пускались в зрителей, отчего, как сообщали об этом официальные «Санкт-Петербургские ведомости», «слепой страх овладел толпой; она заколыхалась и обратилась в бегство, что послужило к радости и забаве высокопоставленных лиц при дворе Ея Императорского Величества, присутствовавших на празднестве».
За организацию празднества Волынского похвалили, но тучи сгущались. Куракин, запомнивший характеристику, данную ему кабинет-министром, подговорил Тредиаковского написать стихотворную сатиру на Артемия Петровича. Поэт – в расплату за свое творчество – был дважды бит Волынским. После очередного столкновения с Волынским герцог поставил перед Анной вопрос четко и ясно: «Или я, или он». Императрица выбирала проверенного старого друга. Тредиаковскому посоветовали поискать в суде правду, Бирон сразу оскорбился – поскольку второй случай битья был у него дома – в святом чувстве гостеприимства. Волынского арестовали и только уже в тюрьме предъявили настоящие обвинения. Были арестованы и его ближайшие сподвижники. 27 июня 1740 года чиновничьей скороговоркой с лобного места прозвучало:
– За важные и клятвопреступные, возмутительные и изменнические вины…
Волынскому отсекли сначала руку, потом голову. Еропкину и Хрущова обезглавили, еще несколько человек били кнутом и сослали в Сибирь.
– Ваше императорское величество, всепокорнейше доношу, что согласно вашей воле дворянин Петр Румянцев прибыл в Берлин. Согласно волеизъявления вашего величества обещаю и клянусь его в потребных молодому человек науках добрыми и искусными учителями наставить, о чем впредь далее обстоятельно доносить буду. Бракель. Писано в Берлине 1739 года, октября 6-го дня.
Человек, читавший реляцию покойным, размеренным, обезличенным голосом – его дело лишь читать, оценить без него есть кому! – осторожно поднял глаза. Императрица Анна Иоанновна сидела, умиротворенно покачивая головой. Бирон стоял рядом с камином, облокотившись на него плечом и чему-то своему усмехаясь. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием медленно сгорающих поленьев.
– Ох, ты меня прямо-таки в сон вогнал. Читаешь, как пономарь. Ну-ко зачти мне наново, что там мы писали Бракелю о Румянцеве-младшем. И ты, Иоганн, вспомнишь – ведь ты хлопотал о нем, – обратилась она и к Бирону. Тот утвердительно наклонил голову, так и не оторвавшись от камина.
Действительно, Александр Иванович Румянцев, возвращенный из ссылки, был весьма любезен со всеми, а особливо с Бироном и только сыну говорил: «Плетью обуха не перешибешь. Будем просто служить отчизне, а жизнь свое возьмет. Сегодня ты на самом верху – завтра в самом низу. Фортуна!
И делая практический вывод из этого фаталистического заявления, решил обратиться именно к всесильному Бирону за помощью в устройстве будущей судьбы сына. Польщенный смирением Румянцева временщик похлопотал за Петра, которого отец для пополнения его знаний и приобретения необходимых навыков по службе просил отправить с жалованием в русское посольство в Швецию или другое европейское государство, дабы он еще мог познакомиться с порядками и обычаями иноземными. Петра направили в Берлин.
Раздалось осторожное покашливание писца.
– Читай!
– Господин действительный тайный советник! Снисходя к просьбе генерала Румянцева, сын его отправляется дворянином посольства к вам, дабы вы его при себе содержали и как в своей канцелярии для письма употребляли, так и в прочем ему случае показывали, чтобы он в языках и других ему потребных науках от добрых мастеров наставлен был и искусства достигнуть мог, дабы впредь в нашу службу с пользою употреблен был.









































