Текст книги "Время прибытия"
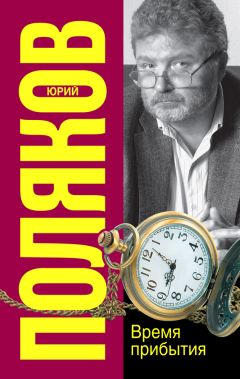
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
(1980–2014)
* * *
Всех ближе та,
Которую недолюбил:
Виною маета,
Когда не до любви.
Другая женщина
Иль множество причин —
Все несущественно,
Когда в ночи
Она сквозь сон
Тебе погладит лоб
И скажет: все
Иначе быть могло б!
Достав вполне
Любовей и чинов,
На это не
Ответишь ничего…
1980
Некролог
Газетный некролог. О, как он кроток!
За рамкой жизнь наращивает темп:
Здесь выборы, а там – перевороты,
Кругом соревнование систем.
От суеты покойный отгорожен,
Дабы никто его не волновал
Тем, что в тайге нефтепровод проложен,
Что найден гриб размером с самосвал.
Как в черный саван, в рамочку зашитый,
Он отдыхает, словно и не жил.
И свой покой среди смятенья шрифтов
Он тяжкой суматохой заслужил!
1980
Дом рожденья
Тот дом, где появился я на свет
(Куда, точнее, прибыл из роддома),
Стоит —
и внешних изменений нет.
А вот внутри все стало по-другому.
Где коридор, похожий на насест?
Куда девалась кухня и стряпухи?
Теперь тут главк, а может, целый трест!
Трещат машинки, шелестят гроссбухи…
Где я, забывшись,
сделал первый шаг,
Потом упал и зарыдал, опомнясь, —
Там секретарша с пачкою бумаг
Идет к столоначальнику на подпись.
А там, где я впервые невпопад
Заговорил, слова перековеркав, —
Какой-то красномордый бюрократ
Весь день орет на бессловесных клерков.
Но жизнь права.
И драма не нова.
А где еще им размещаться, трестам?
Все правильно. Но лучше бы трава
Росла на месте, освященном детством…
1981, 2014
* * *
На сберкнижку падают звезды.
Но среди восхищенного гула
Охолаживающей дозой
Та, которая обманула.
Если все получилось иначе,
Звездопады мимо мелькнули —
Обязательно где-нибудь плачет
Та, которую обманули…
1981
* * *
Сидеть, с черновиками запершись,
Уныло строчки рифмами оковывая.
И видеть: за окном проходит жизнь,
Как женщина, призывно незнакомая.
Забросить все, помчаться впопыхах
За незнакомкой, многообещающей.
И сразу вспомнить о черновиках,
Как о жене, без устали прощающей.
1981, 2014
* * *
Поговорив о том, другом и третьем
С приятелем моих примерно лет,
Мы стали разговаривать о смерти.
Зловеще-занимательный предмет!
Шла речь о том, что траурного крепа
Не утаить за контуром вещей,
О том, что это, в сущности, нелепо,
Пожив, уйти из мира вообще.
О том, что мы воскреснем в наших детях,
В делах, томах и шелесте берез,
Еще о том, что утешений этих
Никто пока не принимал всерьез.
Шла речь о том, что, видимо, не скоро
Нетленность с плотью будут сочетать
И что, увы, о смерти разговоры
За малодушье принято считать.
Постыдного не вижу в этой теме.
Страх смерти – это
самый смелый страх.
Поговорим о смерти, чтобы в темень
Сойти с улыбкой мудрой на устах!
1981, 2014
Тяжелое небо
Какое сегодня тяжелое небо!
Как на плечи давит оно!
Давно я у друга старинного не был,
Не пил с ним хмельное вино.
Не спорил о жизни, о правде, о счастье,
О женщинах, черт побери!
Давно мне пора бы к нему постучаться
И слушать шаги у двери.
Мой друг одинокий, он из домоседов,
Наукой своей поглощен…
Но я и сегодня к нему не поеду.
Боюсь, что откроет не он…
1982, 2014
Столп
Время строит: на день вчерашний
Камень нового дня кладет.
И растет Вавилонская башня.
Это речь обо мне идет.
Ввысь, куда не подняться птице,
Башня тянется день-деньской
Ввысь, где хмурый творец ютится,
На творенье махнув рукой.
Чем же кончится стройка века?
Чем кончалась во все года.
Недостроенного человека
Не достроили, как всегда.
Столп обрушится. Столб огня
Не достанет до неба тоже.
Если все это не про меня,
Но тогда про кого же?
1983, 2014
Когда я умру…
Слова, что от века пристали перу —
Поэтам таинственный знак:
«Меня схороните, когда я умру…»
А дальше про то, где и как.
Один попросился лежать на холмах,
Развеяться пеплом – другой.
А этот с березкой решил в головах,
А тот со своей дорогой.
Ну, что ж, видно, это закон бытия.
Беру, раскрываю тетрадь:
«Когда я умру…»
Погодите, а я…
Попробую не умирать.
1984
Пусть!
Пусть будет так —
уж коли так случилось.
Не обещай! Пожалуйста, иди!
Не полюбился. Ну, не получилось…
Все лучшее, конечно, впереди.
Ты утешаешь: скоро легче будет.
Желаешь счастья без тебя.
Изволь!
А знобкий ветер времени остудит.
Любую радость и любую боль.
Такой урок запомню я навеки.
В чужие сани, очевидно, влез.
А ты давай – вытаптывай побеги,
Где мог подняться соловьиный лес!
Май 1984, 2014
Семейные ссоры
Ах, эти семейные ссоры —
Букет непрощенных обид.
Язвительные укоры,
Надменно-обиженный вид.
Соседи наш спор не осудят.
Им ведом воинственный дух.
– Ноги моей в доме не будет!
– Уж если не будет, то двух!
Но в криках супружеской злобы
Немного осталось огня.
И дверью я хлопаю, чтобы
Опять ты вернула меня…
1984, 2014
Мечта
Мечтаю жить легко, неторопливо,
Мечтаю жить солидно, не спеша,
Достойно, обстоятельно, счастливо,
Чтоб суеты не ведала душа.
А что на деле? Только ветра посвист
В ушах от постоянной беготни.
Моя судьба, как уходящий поезд:
Умри в рывке, а лучше догони,
Запрыгни на последнюю подножку,
И рухни на свободные места,
И выясни, передохнув немножко,
Что в спешке перепутал поезда…
1984, 2014
* * *
Жил, ел, работал, занемог,
Испробовал лекарства все…
И вот короткий некролог
На предпоследней полосе.
В строках – почет его трудам,
Родне – сочувствие в беде.
А между строк: «Все будем там,
Еще никто не понял, где…»
Октябрь 1984
Десять лет спустя
В глазах упрек или досада,
И губы, сжавшиеся в нить.
Но я любил ее когда-то
И мог бы до сих пор любить.
Все было молодо и глупо:
Скамейка. Трепетный вопрос.
Ответ. Податливые губы.
И запах вымытых волос.
…И вот она с ухмылкой странной
Глядит из-под тяжелых век,
Как будто темной, стыдной тайной
Мы с ней повязаны навек…
1984, 2014
30 лет
Конечно, числа, даты, юбилеи —
Символика, условность, этикет,
Тогда зачем я сердцем холодею
От мысли: мне сегодня тридцать лет!
Но жизнь идет. В загулах и заботах
Мотыжу невеликий садик свой.
А кто-то, строгий, щелкает на счетах,
Насмешливо качая головой.
День миновал – веселый или тяжкий —
Забудется, водою утечет.
Но белые и черные костяшки
Всему ведут неумолимый счет.
Сегодня в сердце – хмурая усталость,
Назавтра – молодеческая прыть…
Что там, на счетах?
Сколько мне осталось?
Узнать бы, разрыдаться и забыть.
12 ноября 1984, 2014
Стихи о стихах
Ну, поместит стихи журнал,
Ну, пролистнет стихи читатель,
А ты мыл слово, как старатель,
Ты потрясти весь мир желал.
Иль удивить. Хотя б слегка,
Но все удивлены настолько,
Что от стихов не стало толку —
Непочитаема строка.
Все это понимают,
но
Прут в мир стихи, друг другу вторя.
Так в кризис жгут в печах зерно,
Так молоко сливают в море…
1984
Высоцкий
Я был к нему не то что равнодушен,
А, мягко выражаясь, не влюблен.
Вино, табак, литературный ужин.
Кричит поэт. Орет магнитофон.
Заветное свое стихотворенье
Пииту декламирует пиит,
Не слыша, как в предвечном озверенье
Похмельный Гамлет песенки хрипит.
1984, 2014
Песня о гипсовом трубаче
Небосвод погас, вспыхнул и погас.
Снова на душе светлее.
Буду ждать тебя я в последний раз
В кипарисовой аллее.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
Шепчет нам «прощай» темная река.
Отражая звездный трепет.
Что любовь порой может быть горька,
В юности никто не верит.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
Расстаемся… В том
нашей нет вины.
Потому еще больнее.
И в последний раз солнышко луны
Светит нам в конце аллеи.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
1985
ВерлибрыПопутчик
Качнулось вправо здание вокзала.
И он сказал, взглянув на небосвод,
Где в красных тучах солнце исчезало:
«Как этот день, так наша жизнь пройдет!»
И водки мне налил.
С толпой народа
Уплыл перрон, похожий на причал.
«Закат – лишь только повод для восхода…» —
Подумал я, но, выпив, промолчал.
1985, 2014
Археолог
Наверное, археолог грядущего,
с трудом раскопав наше время,
напишет в научном отчете:
«Особенно интересна страна,
занимавшая обширные земли
Европы и Азии.
Она оставила после себя
десятки тысяч
изваяний вооруженных людей.
И можно предположить,
что это
была крайне жестокая и
очень воинственная
цивилизация…»
Вот так он напишет о нас,
о Советском Союзе,
едва уцелевшем
в нашествиях, битвах, блокадах…
У зеркала
Иногда я представляю себе,
как буду выглядеть на смертном одре.
Попросту говоря, в гробу.
Я стою перед зеркалом
и расслабляю мышцы лица,
смыкаю веки, оставив щелку,
растягиваю губы
в куриной улыбке мертвеца.
Для достоверности
надо бы совсем закрыть глаза,
но тогда меня не станет
в зеркале…
* * *
Свежая весенняя трава
появляется не на голой земле.
Сначала
меж прошлогодних стеблей
проткнутся зеленые шильца ростков.
Потом бурое былье
минувшего лета
переплетется с новыми побегами.
Наконец,
через неделю, другую —
прошлогодний подшерсток
совершенно скроется
в маленьких джунглях
нового разнотравья.
…На примере растений,
я объяснял дочери,
как на земле
сменяют друг друга
поколенья людей.
Эпиграммы* * *
Я смотрел на этого
самодельного индуса,
на этого толстолицего
последователя Рериха,
на этого пророка
новой веры
и удивлялся,
с какой жесткой решительностью,
с какой злой энергией,
с какой непримиримостью
он добивается права
быть самым строгим хранителем
этой самой доброй
религии…
1984, 2014
Гайдары
Им все равно, кому служить:
Лишь бы, причмокивая, жить.
Сергей А. Ковалев
С врагами России всегда в унисон —
Замызганный правозащитный клаксон.
Загадка
Что такое Хакамада?
Наглость, пудра и помада…
Козырев
За сытный атлантический фуршет
Он Сахалин с Курилами отдаст.
Громыку величали мистер «Нет»,
А Козырева кличут мистер «Да-с».
Обыкновенная история
Был президенту предан.
Был президентом предан.
Кто президенту верен,
Закончит так, как Ерин…
Черниченко
Сей буйный телехлебороб
Не знает, как растет укроп!
Черномырдин
Мне чья-то запомнилась фраза:
«Россия такая страна,
Где можно при помощи газа
И муху раздуть до слона!»
Депутатка
В парламенте, в фондах, в правленьях
Засела…
Что скажешь о ней?
Есть женщины в русских селеньях
Гораздо умней и честней…
Волкогонов
От словоблудья генерал,
Морочащий народ.
При коммунистах в меру врал.
Теперь без меры врет.
Е.Киселев
В раздумье и с большим трудом
Подводит он «Итоги».
Наверно, думает о том,
Как будет делать ноги…
Меченый
Болтать до смерти не устанет!
Лукав, бездарен, жалок,
н о
Из-за таких
Россия станет
Размерами с его пятно…
Актуальная мистика
В железных ночах Ленинграда
С суровым мандатом ЧК
Шел Киров. Ему было надо
Отправить в расход Собчака…
Дирижер
У сварливой супруги на помочах,
Но свободе – опора.
Демократ с лицом Ростроповича
И душой гастролера…
Гримаса истории
Знать, мы прогневили Всевышнего,
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего
А вылез какой-то Немцов…
Гавриил Попов
Я б со сраму смолк навеки —
Этот учит нас опять…
Эх, умеют все же греки
Нам арапа заправлять!
Госсекретарь
Аптека. Улица. Фонарь.
На фонаре – госсекретарь…
Дободался
Просто было на бумаге:
Все – сексоты да ГУЛАГи…
Знай – бодай врага!
А вернулся на руины —
Лишь схватился за седины…
Зря точил рога!
Сванидзе
Папаша в «Политиздате» орудовал.
Сын вырос – и тоже теперь при политике…
Таких называли всегда «лизоблюдами»,
Теперь их зовут – «аналитики»!
Разговор Явлинского с Чубайсом
– Расскажи, друг милый Гриша,
У тебя какая крыша?
– Много лет уж, Толя, я
Под крышей Капитолия.
1991–1995
Серафимы
Случится это поздно или рано,
Но кончится заветное кино.
И я уйду с обжитого экрана
Туда, где ни светло и ни темно.
Но жизнь мою, как будто кинопленку,
Не смоют, я надеюсь, не сотрут —
На дальнюю, заоблачную полку
Ее положит Главный Кинокрут…
И горнею пытливостью томимы —
Чтоб мир людской расчислить и понять —
Бесплотные, как пламя, серафимы
Мою судьбу решат с той полки снять.
Но созерцая дни мои и ночи,
Мой путь земной, как был он, без прикрас,
Они опустят ангельские очи
В унынии – и вдруг увидят нас.
Да, нас с тобой в том сумасшедшем мае…
И серафимы, глядя с высоты,
Пожмут крылами, недоумевая,
Зачем навзрыд от счастья плачешь ты?
1995
* * *
Ах, фантазерки с честными глазами!
Вам гор златых не надо обещать —
Из нас, обычных, вы спешите сами
Выдумывать героев и прощать…
Химеры женские, они гранита крепче,
Надежней волноломов штормовых, —
Безжалостные будничные смерчи
И день и ночь ломаются о них!
И вдруг однажды, пошатнувшись хрупко,
Обрушится герой…
Но в том и суть:
И снова ты готова, словно шубку,
Судьбу под ноги вымыслу швырнуть!
1996
* * *
Я в любви почему-то грустнею,
Как, бывало, грустнел от вина.
Мне б смеяться, что встретился с нею,
Ликовать, что со мною она!
Что же мне, окаянному, надо?
И к чему эта грустная речь?
Дал Всевышний любовь нам в отраду,
Не наставив, как счастье сберечь…
1990-е
* * *
Растрачена святая сила,
Победный изветшал венок,
И мнится: сломлена Россия…
Но – Пушкин, Лермонтов и Блок!..
Они всегда и всюду с нами.
Хранят того, кто изнемог,
Шестью нетленными крылами
Вновь – Пушкин, Лермонтов и Блок!
Изведена страна обманом,
А нам урок опять не впрок.
Но в мире этом окаянном
Есть Пушкин, Лермонтов и Блок!
И в час, когда бессильно слово,
За честь свою спускать курок
Учили и научат снова
Нас Пушкин, Лермонтов и Блок.
Считает серебро Иуда,
Но мелким бесам невдомек:
Россию не сломить, покуда
Есть Пушкин, Лермонтов и Блок!
1998
Совдепия
Рене Гера
Бедный Дельвиг умер, затравленный:
Бенкендорф Сибирь посулил.
Бедный Горький умер, отравленный:
Сам Ягода яду подлил.
Слезы жертв до сих пор не высохли.
И теперь, кого ни спроси:
При царях ли, при коммунистах ли
Хорошо не жилось на Руси.
Как и вы, ненавижу цепи я.
Но нельзя жить, отцов кляня!
То, что вы называли «Совдепия»,
Это Родина для меня…
2010
Курортные стихи
Назло международным пидарасам
Обдумывая новую главу,
Я отпускным, неторопливым брассом
Вдоль берега турецкого плыву.
И размышляю: «Зря смеетесь, гады!
Еще не кончен вековечный спор.
Еще мы доберемся до Царьграда
И вычерпаем шапками Босфор!
2011
Стансы
Ночью снова думал о России!
Как тысячелетнее дитя,
Развели державу, раструсили,
Погремушкой гласности прельстя!
Бал у нас теперь свобода правит.
И закон начальству не указ!
Если надо, разбомбим парламент.
Если можно, усмирим Кавказ.
Депутаты – в розницу и оптом.
Был генсек, теперь дуумвират.
Почему мы разбиваем лоб там,
Где другие на своем стоят.
Отчего – то вправо мы, то влево,
То до основанья, то с нуля.
Вот у англичан есть королева.
Может, нам царя иль короля?
Он от слез удержится едва ли,
Оглядев развалины Руси.
Боже правый, все разворовали!
Хоть святых последних выноси!
Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?
Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где наш Минин? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!
Для того ль на Прохоровском поле
Плавилась броня и дым чадил,
Чтоб теперь на Куршавельской воле
Прохоров с девчонками чудил?
Как же ты, страна, такою стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы
Да зубастый офисный планктон.
По фигу и город, и село нам.
Космос до звезды. Но там и тут.
От Рублевки и до Барселоны
Замки новорусские растут.
Олигархам что мои просторы?
Жить в России им не по нутру.
Для таких Отечество – офшоры.
Дети в Итон ходят поутру.
Им плевать, что кончатся однажды
Нефть и газ. Что дальше? Кто смекал?
Будем усыхающим от жажды
По трубопроводу гнать Байкал?
Вся страна давно пошла на вынос.
А Сибирь сбегает за Урал.
За стеной кремлевской верят в бизнес.
Я не верю – черт его побрал!
Закладные, взятки и откаты.
Из ментовки не уйти живым.
Тройка-Русь, остановись, куда ты?
Там уже не ездят гужевым!
Прет Китай, как из бадьи опара.
Где на вызов времени ответ?
Акромя позора и пиара,
Ничего за целых двадцать лет!
Нет, не маслом – кровушкой картина:
Лес горит и тонет теплоход,
Рухнул дом, и треснула плотина,
И опять разбился самолет.
Сорняки на плодоносных пашнях,
Вдоль шоссе продажные «герлы́».
Кто мы? Где мы? На кремлевских башнях
Вперемежку звезды и орлы.
И живем мы без идеологий,
Чтобы не задуривать башку,
Верим только нанотехнологий
Маленькому шустрому божку.
Видим только, сердцем индевея,
Как теснит подсолнушки попкорн,
Как национальная идея
Хохмачам досталась на прокорм.
Как экран чернухой забесили.
Как лютуют Эрнст и кич его.
До утра я думал о России…
Так и не придумал ничего.
2011
Дальневосточные мотивы
* * *
Мелькнула женщина за одичавшей сливой,
Плакучей флейты смолк последний стон.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен…
* * *
Смотрю в окно на теплый майский ливень
И вспоминаю женщину под душем,
И водопад в ложбинке меж грудей.
И слезы лью, холодные, как осень.
* * *
Я руку поднял, но опять такси
Промчалось, окатив водой из лужи
И подмигнув зеленым дерзким глазом.
Прошедших женщин почему-то вспомнил…
* * *
Я слушал песню горлицы в саду.
Но стоны оборвав, она вспорхнула
И унеслась, оставив мне на память
Литую каплю теплого гуано.
Ах, бабы, бабы, все вы таковы!
* * *
Сначала ты смеялась, а потом
Стонала счастливо,
Потом ты замолчала,
Заплакала. И наконец, ушла.
* * *
Смешная девочка боится темноты.
Нагая девушка – стеснительного света.
Увядшая жена – что муж уйдет.
Старуха – что не хватит на лекарства.
* * *
Лежу, не сплю и вспоминаю детство.
Живой отец ведет меня к реке
Учиться плавать. Я боюсь и плачу.
О память, золотая тень от жизни!
* * *
За полчаса из города Тиньдзяня
Домчались мы до города Пекина.
Пешком бы шли без малого неделю.
Как долго люди жили в старину!
* * *
Мудрец сказал, что люди на том свете
О смысле жизни спорят и, поладив,
Вернутся в мир.
Не ждите, не вернутся…
* * *
Как бабочки выпрастывают крылья
Из коконов, так зелень прет из почек.
А я смотрю и вижу, как последний
Пожухлый лист кружится с ветки наземь…
* * *
О нет, не может клоун суетливый
С лиловой нарисованной улыбкой
Работать укротителем медведя!
И выключил я глупый телевизор,
Где снова угрожал Москве Обама.
* * *
Любил смотреть, как раздевалась ты,
Снимая платье и белье из шелка.
Лежал и верил, что когда-нибудь
Ты снимешь тело, душу обнажая…
* * *
Есть ли загробная жизнь,
Не так уж и важно, пожалуй…
Есть ли загробная память?
Это вопрос так вопрос!
* * *
Тот самый врач, который мне поставил
Смертельный, но неправильный диагноз,
Сам вскоре занемог, и понимая,
Что безнадежен, спрыгнул в одночасье
С верхушки роковой Каширской башни.
К чему я это вспомнил? Ни к чему…
* * *
Все чаще я бессонно сокрушаюсь,
Что мог бы век прожить совсем иначе —
Умнее, бережливее, точнее —
И выучить английский в совершенстве.
Был в юности поэт. Теперь – бухгалтер…
* * *
Я раньше вспоминал тех добрых женщин,
Которых знал в горячке сладострастья.
Теперь я вспоминаю тех гордячек,
Которые, смеясь, меня отвергли…
Затейлив подступающий склероз!
* * *
С каждым апрелем все больше
Юных, чарующих женщин
Ходит по улицам нашим
Радуя глаз пожилой…
Как ты, природа, мила
В строгом своем обновленье…
* * *
Никакой остроносый «Конкорд»,
Никакой звездолет светоскорый
Не умчит так далеко отсюда,
Как сколоченный наскоро гроб…
* * *
Плавая в море, завидуем рыбам.
Мчась в поднебесье, завидуем птицам.
Нам не завидуют птицы и рыбы.
Кто позавидовал, стал человеком…
* * *
Во сне плутаю, как в дремучей чаще.
Не понимая, кто я, где и с кем.
А просыпаюсь – исчезаю в жизни,
Которая дремучей снов моих.
2014
Московская юность
Еще ты спишь, рассыпав косы,
Любимая…
Но мне пора!
Я выхожу в открытый космос
Из крупноблочного двора
И улыбаюсь сквозь зевоту
Всему, чего коснется взгляд:
Вокруг меня компатриоты,
Подобно спутникам, летят,
С часами суету сверяя,
Гремя газетой на ветру,
Докуривая и ныряя,
В метро, как в черную дыру.
Тоннель из тьмы и света соткан.
Но к солнцу лестница плывет.
Растет уступами высотка,
Напоминая космолет.
Строку задуманную скомкав,
Я застываю впопыхах,
На миг влюбляюсь в незнакомку
С печалью звездною в очах.
И вновь спешу, прохожий парень,
Мечту небесную тая.
Я твой неведомый Гагарин,
Москва, Вселенная моя!
2014
Н. Кондакова
Поэт бронзового века
Интересное это дело – при жизни литератора писать о нем, как поэте, так сказать, завершившем свой поэтический путь, но успешно, и даже я бы сказала – сверхуспешно! – продолжившем путь литературный – в прозе, драматургии, публицистике.
В принципе в литературе это явление нередкое. Однако гораздо чаще встречается два других случая – лирический поэт и прозаик сосуществуют в одном лице всю жизнь, как Бунин и Набоков, либо – прозаик, добившись успеха на новой ниве, напрочь отказывается от себя-поэта, «сжигает» в прямом и переносном смысле свои стихи, как это сделал, например, Леонид Леонов.
Юрия Полякова в этом контексте я бы соотнесла с Мариэттой Шагинян, которая начинала как заметный символистский поэт, была признана в этом сообществе, издала в начале XX века две поэтических книги, одна из которых – «Orientalia» (1913) – выдержала 7 переизданий. В дальнейшем Шагинян стала широко известным советским прозаиком, литературоведом, публицистом, но от поэтического своего начала при этом никогда не отказывалась. Так, в первый том прижизненного девятитомника («Художественная литература», 1971) она включила свои стихи 1906–1921 года, предпослав им автобиографическое вступление «Писатель о себе».
Юрий Поляков тоже публикует в первом томе своих собраний сочинений стихи из первых четырех книг, изданных в 80-е годы прошлого века, сопровождая публикацию веселым и остроумным очерком «Как я был поэтом», тем самым значительно облегчив работу исследователя этого начального периода своего творчества.
Итак, сначала цитата: «Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжем… Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера лежат обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла… Он кожей чувствует, что иной раз крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок…» Так Ю. Поляков начинает рассказ о том времени, когда он писал стихи, начинал печататься, «был поэтом». И сразу задает ориентиры пространства, в котором, по его мнению, заключены сами понятия «поэт» и «поэзия». Сравнение поэтического слова с живым существом, соединяющем землю с небом, не случайно. Особенно актуально это звучит сегодня, когда шапками «из мертвых беличьих шкурок» заполнены не только толстые литературные журналы и самодельные сборники стихов, но и обширные пространства его величества Интернета.
В конце 70-х – начале 80-х годов начинающему стихотворцу было, с одной стороны, проще – количество пишущих и желающих напечататься было столь же велико, как и ныне, но разница между участниками различных литобъединений и семинаров, руководимых известными поэтами, такими, скажем, как Б. Слуцкий, А. Жигулин, В. Соколов, А. Межиров, Ю. Левитанский, Е. Храмов, И. Волгин, и самодеятельными стихотворцами (сегодняшними участниками «стихиры») – была значительной. Примерно как между выпускником музыкальной школы и самостоятельно научившимся бренчать на фортепиано. Но, с другой стороны, молодым в те времена было много сложнее, чем сегодня: чисто профессиональные критерии отбора стихов для публикации были строже нынешних (я здесь намеренно не говорю об идеологической составляющей). Но если уж ты достиг некоего стихотворческого уровня, если был замечен и одобрен старшими поэтами, то перед тобой открывался не скажу чтобы ровный, но достаточно определенный путь – к первой книге, затем – ко второй. Далее уже все зависело от тебя лично – от способности к развитию своего природного дарования, от простой работоспособности, от умения переплавить автобиографическое в личностное, единичное – в характерное.
Именно эту способность молодого поэта к саморазвитию определил в напутственном слове к первой публикации, а затем – и к первой книге Юрия Полякова его «старший собрат по перу» (как он сам себя назвал) Владимир Соколов.
«Ю. Поляков, когда появилась его первая основательная публикация, окончил институт и уходил в ряды Советской Армии. За это время обострилось чувство любви, природы, дружбы. Особенно глубоко осозналось, как это всегда бывает в первой молодости, единственность всего, что тебе дается в жизни:
Конечно, счастье – это тоже тяжесть.
И потому чуть сгорбленный стою.
Не умер бы я, с ней не повстречавшись,
И жизнь бы прожил. Только не свою!
Но ведь если поэт хочет прожить «только свою» жизнь, он не только намерен, но и обязан быть самобытным», – завершает мэтр свой комментарий, деликатно не замечая ассоциативной переклички процитированного четверостишия со своими широко известными стихами 1976 года:
Это страшно – всю жизнь ускользать,
Уходить, убегать от ответа.
Быть единственным – а написать
Совершенно другого поэта.
Собственно говоря, в этом и состояла суть ученичества в те баснословные года. Любимого поэта надо было пристально читать, знать наизусть и, сближаясь с ним на минимальное расстояние, одновременно отталкиваться от него. Так Есенин учился у Блока и Клюева, а акмеисты – у Иннокентия Анненского. Это все же иной тип ученичества, чем простое подражание стилю того, кто тебе дорог в литературном пространстве. Может быть, поэтому среди тщательных учеников Бродского нет ни одного самобытного поэта, зато среди его ранних «учителей» такой есть – Евгений Рейн, и это свидетельствует о том, что сам нобелевский лауреат был учеником, избравшим с первых шагов путь не подражания, а самобытности.
Я думаю, Юрий Поляков не случайно оказался в ареале Владимира Соколова, поэта по преимуществу городского, даже можно сказать, «московского», и при этом, может быть, самого тонкого и достоверного из поэтов России.
Соколов появился на свет в Лихославле Тверской области, но в ранние годы переехал на московское жительство и полюбил, и воспел наш город, как никто другой. Он высмотрел в нем такие милые подробности старины, так искренне полюбил все ее «украшенья и увечья», «таинственную глубину» московских двориков, «бочком» выползающие из переулка трамваи, аллеи «в белом трауре зимы», все эти Таганки и Ордынки, Лихоборы и Маросейки. Не отринул при этом и урбанистические ее пейзажи, «кружевную сталь» портальных кранов, «белоснежные башни» новостроек – «большой строительный каркас зимы».
Юрий Поляков родился на Маросейке, это его «малая родина». Жил в коммуналке, в заводском общежитии. Он человек городского быта, городского взгляда на вещи. Москва для него – не как для большинства из нас, появившихся на свет в провинции, вожделенный город «сбывания» детской мечты и юношеской фантазии. Его Москва – многомерная, многоплановая. Подобно Владимиру Соколову, он видит ее сразу во всех временах, и во всех – приемлет.
Я ищу девятнадцатый век
В подворотнях,
Как неярким апрелем припрятанный снег
От лучей посторонних.
Старый дом. В нем уже не зажжется окно:
Новоселье – поминки…
Мне шагать через век – от Бородино
До Ходынки.
Есть в модерне какой-то предсмертный надлом…
Переулки кривые.
Революция за поворотом. Потом
Сороковые.
Где-то рядом автомобили трубят
И дрожит мостовая.
Мне в глаза ударяет высокий Арбат.
Я глаза закрываю.
Поляков, может быть, самый московский поэт своего поколения.
Сегодня редко мыслят «поколениями», скорее – противоборствующими «школами». Как говорится, «распалась связь времен», и победивший индивидуализм вытеснил из обихода на обочину этот пресловутый возрастной водораздел, оставив, как плеяду, – лишь поэтов «военного поколения» да знаменитых «шестидесятников».
Хотя, честно говоря, и со «школами» все не просто; тот же Соколов сказал когда-то, как отрезал:
Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод и жар.
Вот и я думаю, что, по большому счету, в русской поэзии «школ» нет, а поколения – есть. Взять хотя бы, к примеру, такое отличие, как музыкальные предпочтения одного и того же возраста в разные времена, или же – модные веянья, одномоментные книжные открытия, теперь вот – компьютерные игры и гаджеты. Те, кто в 18 лет дурел от «The Beatles», вряд ли понимают, почему спустя всего четверть века люди того же возраста сходят с ума от реперов.
Есть общность людей одного возраста и в жизни, и в литературном процессе – конечно, когда сам «литературный процесс» не размыт профессионально, не смешан в болтушке времени, как неудобоваримый коктейль высокого умения с отчаянным дилетантством.
Литературные сверстники Юрия Полякова возникли на авансцене в середине 70-х и к началу 80-х уже оформились в поколение; именно тогда у большинства из них вышли первые книги: Геннадий Красников (1981), Андрей Чернов (1980), Игорь Селезнев (1981), Владимир Салимон (1981), Марина Кудимова (1982), Михаил Поздняев (1984), Олеся Николаева (1980); можно назвать еще несколько имен, может быть, ныне менее убедительных. А также добавить к списку – моих ровесников Татьяну Бек, Евгения Блажеевского, Петра Кошеля, Владимира Урусова, Александра Щуплова, бывших всего на 3–4 года старше тех, кто родился в начале пятидесятых.
Самыми ранними и успешными в этой генерации считались дебюты Олега Хлебникова (1975) и Николая Дмитриева (1975).
В предисловии к уже посмертной книге последнего Ю. Поляков написал: «Николай Дмитриев был и остается самым значительным открытием моего поэтического поколения… Прошло без малого 30 лет, а во мне до сих пор живет светлая, почти счастливая оторопь от первого прочтения стихов Николая Дмитриева. Я вдруг понял, что столкнулся с одним из тех редких случаев (известных мне в основном по классике), когда слова не сбиваются в стихи усилием филологической воли, а таинственным образом превращаются в поэзию, как вода – в вино…»
Сегодня без перечисленных выше поэтов трудно представить любую честную хрестоматию конца XX – начала XXI века. Но «хрестоматийность» Николая Дмитриева была очевидна уже при его вхождении в литературу, не случайно многие его стихи наперебой цитировали в критических статьях, взять вот хотя бы это:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, но все же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет подряд
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.
С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы батьку снайпер выждал
В чехословацких клеверах.
Характерно, что опыт родителей, участвовавших или не участвовавших в Великой Отечественной, но ставших ее трагическими современниками, так или иначе тревожил многих в поколении Ю. Полякова. И это закономерно: всего десять или меньше лет отделяло дни их рождения от событий, перекроивших и потрясших весь мир. Воистину не было в отечестве нашем семьи, которую так или иначе не задело бы это античной выделки время. И в пятидесятые оно еще не стало историей – все было слишком горячо и болезненно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































