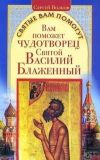Текст книги "Русь юродская"

Автор книги: Юрий Рябинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как легко и просто было жить в Москве при нем
Блаженный Иван Яковлевич
В романе Ф. М. Достоевского «Бесы» в главе «Пред праздником» герои приезжают в дом к какому-то купцу посмотреть, как на редкостную диковину, на юродивого Семена Яковлевича. По словам жены писателя – Анны Григорьевны – в этом фрагменте «Федор Михайлович описывает посещение им известного московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши». Мы еще успеем познакомиться с биографией этого Корейши, но прежде предоставим слово классику: Достоевский изумительно красочно изображает один день своего Семена Яковлевича, блаженного и пророчествующего. Этот колоритный эпизод может больше рассказать о повседневной жизни юродивого, нежели иное подробное жизнеописание.
Итак, Достоевский пишет: «Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудни… Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом… Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек лет пятидесяти пяти, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и с спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка; ноги, кажется больные, держал в туфлях. Я слышал, что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только что откушал уху из легкой рыбки и принялся за второе свое кушанье – картофель в мундире, с солью. Другого ничего и никогда не вкушал; пил только много чаю, которого был любителем… В комнате было людно – человек до дюжины одних посетителей… Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет сорока пяти, стоявший на коленях… ближе всех на виду… и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал.
Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Веселые и жадно-любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнеты, пенсне и даже бинокли; Лямшин, по крайней мере, рассматривал в бинокль… Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками.
– Миловзоры! Миловзоры! – изволил он выговорить сиплым баском и с легким восклицанием.
Все наши засмеялись: что значит миловзоры? Но Семен Яковлевич погрузился в молчание и доедал свой картофель. Наконец утерся салфеткой, и ему подали чаю.
Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко не всякому, обыкновенно указывая сам, кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своею неожиданностью. Минуя богачей и сановников, приказывал иногда подать мужичку или какой-нибудь ветхой старушонке; другой раз, минуя нищую братию, подавал какому-нибудь одному жирному купцу-богачу. Наливалось тоже разно, одним внакладку, другим вприкуску, а третьим и вовсе без сахара. На этот раз осчастливлены были захожий монашек стаканом внакладку и старичок-богомолец, которому дали совсем без сахара. <…>
– Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь, я так давно желала с вами познакомиться, – пропела, с улыбкой и прищуриваясь, пышная дама.
Семен Яковлевич даже не взглянул на нее. Помещик, стоявший на коленях, звучно и глубоко вздохнул, точно приподняли и опустили большие мехи.
– Внакладку! – указал вдруг Семен Яковлевич на купца-стотысячника; тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком. – Еще ему сахару! – приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан; положили еще порцию. – Еще, еще ему! – Положили еще в третий раз и, наконец, в четвертый.
Купец беспрекословно стал пить свой сироп.
– Господи! – зашептал и закрестился народ.
Помещик опять звучно и глубоко вздохнул.
– Батюшка! Семен Яковлевич! – раздался вдруг горестный, но резкий до того, что трудно было и ожидать, голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене. – Целый час, родной, благодати ожидаю. Изреки ты мне, рассуди меня, сироту.
– Спроси, – указал Семен Яковлевич слуге-причетнику.
Тот подошел к решетке.
– Исполнили ли то, что приказал в прошлый раз Семен Яковлевич? – спросил он вдову тихим и размеренным голосом.
– Какое, батюшка Семен Яковлевич, исполнила, исполнишь с ними, – завопила вдова, – людоеды, просьбу на меня в окружной подают, в Сенат грозят; это на родную-то мать!..
– Дай ей!.. – указал Семен Яковлевич на голову сахару.
Мальчишка подскочил, схватил голову и потащил ко вдове.
– Ох, батюшка, велика твоя милость. И куда мне столько? – завопила было вдовица.
– Еще, еще! – награждал Семен Яковлевич.
Притащили еще голову. „Еще, еще“, – приказывал блаженный; принесли третью и, наконец, четвертую. Вдовицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул: все это бы сегодня же могло попасть в монастырь, по прежним примерам.
– Да куда мне столько? – приниженно охала вдовица. – Стошнит одну-то!.. Да уж не пророчество ли какое, батюшка?
– Так и есть, пророчество, – проговорил кто-то в толпе.
– Еще ей фунт, еще! – не унимался Семен Яковлевич.
На столе оставалась еще целая голова, но Семен Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт.
– Господи, господи! – вздыхал и крестился народ. – Видимое пророчество.
– Усладите вперед сердце ваше добротой и милостию и потом уже приходите жаловаться на родных детей, кость от костей своих, вот что, должно полагать, означает эмблема сия, – тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесенный чаем монах от монастыря, в припадке раздраженного самолюбия взяв на себя толкование.
– Да что ты, батюшка, – озлилась вдруг вдовица, – да они меня на аркане в огонь тащили, когда у Верхишиных загорелось. Они мне мертву кошку в укладку заперли, то есть всякое-то бесчинство готовы…
– Гони, гони! – вдруг замахал руками Семен Яковлевич.
Причетник и мальчишка вырвались за решетку. Причетник взял вдову под руку, и она, присмирев, потащилась к дверям, озираясь на дареные сахарные головы, которые за нею поволок мальчишка.
– Одну отнять, отними! – приказал Семен Яковлевич оставшемуся при нем артельщику.
Тот бросился за уходившими, и все трое слуг воротились через несколько времени, неся обратно раз подаренную и теперь отнятую у вдовицы голову сахару; она унесла, однако же, три.
– Семен Яковлевич, – раздался чей-то голос сзади у самых дверей, – видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?
– К морозу, – произнес Семен Яковлевич.
– Семен Яковлевич, что же вы мне-то ничего не ответили, я так давно вами интересуюсь, – начала было опять наша дама.
– Спроси! – указал вдруг, не слушая ее, Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях.
Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику:
– Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить?
– Не драться, рукам воли не давать, – сипло отвечал помещик.
– Исполнили? – спросил монах.
– Не могу выполнить, собственная сила одолевает.
– Гони, гони! Метлой его, метлой! – замахал руками Семен Яковлевич.
Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты.
– На месте златницу оставили, – провозгласил монах, подымая с полу полуимпериал.
– Вот кому! – ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич.
Стотысячник не посмел отказаться и взял.
– Злато к злату, – не утерпел монах от монастыря.
– А этому внакладку, – указал вдруг Семен Яковлевич на Маврикия Николаевича.
Слуга налил чаю и поднес было ошибкой франту в пенсне.
– Длинному, длинному, – поправил Семен Яковлевич.
Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему, все наши так и покатились со смеху. <…>
Дама из нашей коляски, вероятно желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо вопросила Семена Яковлевича, по-прежнему с жеманною улыбкой:
– Что же, Семен Яковлевич, неужто не изречете и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала.
– В… тебя, в… тебя!.. – произнес вдруг, обращаясь к ней, Семен Яковлевич крайне нецензурное словцо.
Слова сказаны были свирепо и с ужасающею отчетливостью.
Наши дамы взвизгнули и бросились стремглав бегом вон, кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу».
Крайне нецензурное словцо – это, очевидно и попросту говоря, что-то из родной матерщины. Нам неоднократно приходилось слышать от разных лиц, в том числе и от духовенства, мнение, что употребление матерщины – верный признак лжеюродивого. Настоящий блаженный, каким бы безумным он ни был, никогда ничего подобного не произнесет, потому что-де на нем Дух Святой почивает и т. п. Но это чрезвычайно упрощенный подход. Прежде всего заметим, что были самые настоящие, неподдельные юродивые, причисленные впоследствии к лику святых, которые матерились на чем свет стоит! Мария Дивеевская, например, отнюдь слов не выбирала. Если бы действительно речевая манера служила неким критерием оценки подлинности безумных Христа ради, то все лжеюродивые немедленно заговорили бы языком старой профессуры. Они же не дураки, чтобы выдавать себя! Но в том-то и дело: юродивый – самый настоящий! от Бога! – совершенно лишен какого бы то ни было представления об этических нормах. Если уж он не считает «нецензурным» поведением появиться на людях совершенно голым, как Василий Блаженный, то тем более он не будет заботиться о культуре речи и стараться следить, как бы ни обронить ненароком нецензурное словцо.
Иван Яковлевич Корейша фигура очень неоднозначная – об этом, кажется, можно судить хотя бы по фрагменту из Достоевского. Этот юродивый не только не был канонизирован за полтора века прошедших после его смерти, но и вообще отношение к нему людей Церкви довольно противоречивое: кто-то почитает Ивана Яковлевича как святого, а кто-то и просто верующим православным его посовестится признать.
Иван Яковлевич родился в Смоленске в семье священника. Его фамилия – Корейша, – по московским стандартам звучащая довольно экзотично, там, в Смоленске, произносилась еще более причудливо – Корейш. Видимо, Иван Яковлевич был белорусом. Как-то уже на склоне лет, давно находясь в московской Преображенской больнице для умалишенных, он сделал надпись на своем портрете и, между прочим, поставил там дату – «1850 рока». На белорусском и малороссийском диалектах «рок» – означает год. Значит, и прожив не одно десятилетие среди великороссов, Иван Яковлевич не вполне расстался с некоторыми белорусскими речевыми особенностями.
Обратим попутно внимание, что до революции Смоленская губерния вполне официально считалась Белоруссией. На диалектологической карте 1914 года почти вся Смоленщина, до Вязьмы включительно, закрашена тем же самым «белорусским» цветом, что и соседние западные губернии – Могилевская, Витебская, Минская. А в советское время Смоленская область стала почему-то закрашиваться уже «русским» («великорусским») цветом. Так куда же делись смоленские белорусы? Может быть, их депортировали? Ничуть не бывало! Они так и остались жить на своей земле. И сейчас там живут их потомки. Только называются они уже русскими.
Пример этих смоленских белорусов показывает, насколько же искусственным, волюнтаристским было ленинское размежевание России на республики и разделение единого русского народа на три «национальности».
Нужно заметить, что самое понятие «русские» до революции существенно отличалось от нынешнего. Существовало как бы два уровня принадлежности к русскому народу: кроме того, что русскими часто именовались все, кто исповедовал русскую веру, кто принадлежал к Греко-Российской церкви, но внутри этого широкого понимания были еще и собственно русские люди, то есть по крови русские – таковыми считались все восточные славяне. И вот уже в рамках этого узкого понятия самоидентифицировались многочисленные равноправные региональные этнокультурные общности – поморы, белорусы, русины, кержаки, донцы, украинцы, сибиряки и т. д.
Особо следует остановиться на украинцах. Нынешние приднепровские украинцы – это лишь одни из многих русских украинцев. Известно, украйнами славяне называли окраины своих земель. И не только русские так называли, но, например, и сербы – Српска Крайна. На Руси же в разное время существовало несколько украйн: украйна Псковская, украйна Студеного моря, Сибирская украйна. И жители каждой из этих местностей вполне могли бы в качестве самоназвания усвоить производное от того наименования своей малой родины, какое употреблялось в политическом и культурном центре государства, то есть называться украинцами. Но первыми усвоили и стали так называться именно жители Приднепровья. При этом вплоть до ХХ века приднепровские украинцы не забывали, что они русские люди, живущие к тому же в самой колыбели Руси. Не случайно гоголевский Тарас Бульба называет себя русским казаком, его национальное самосознание ни в коем случае не ограничивается Запорожской Сечью: он ощущает себя в ответе за всю свою полсветную родину – от Карпат до Великого океана.
Большевикам вольно было «национальностями» объявить только украинцев приднепровских, белорусов и всех великороссов – чрезвычайно неоднородных в этнокультурном отношении, – причем придать областям их расселения какую-то видимость национальных государств. Если бы они придумали учредить еще Поморскую ССР, Донскую ССР, Уральскую, Сибирскую, Гуцульскую и другие, то сейчас восточнославянских «национальностей» было бы не три, а сколько угодно больше.
Восточнославянский народ один и единый – русские люди. Пример со смоленскими русскими белорусами это вполне доказывает. Оказавшись после большевистского размежевания на одной административно-политической территории с великороссами – в т. н. РСФСР, – они без малейшего противления стали именоваться русскими, потому что и прежде были русскими, только не в нынешнем понимании, а в старом.
Но вернемся к Ивану Яковлевичу. Как часто поступают поповичи, он пошел по стопам отца: окончил смоленскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Однако священнического сана Иван Яковлевич принять не пожелал. И определился в духовное училище.
Но и педагогом он не стал. Любивший с самого детства проводить время в уединении за духовно-нравственными книгами, Иван Яковлевич тяготился учительской деятельностью. Он оставил училище и отправился в путешествие по русским святыням: побывал на Соловках, в Киеве. Придя в Нилову пустынь, он пожелал остаться там с братией. Целых три года Иван Яковлевич исполнял в монастыре все возложенные на него послушания. Но однажды он оставил обитель и возвратился в Смоленск. Там он снова стал учительствовать.
И вот в это-то время с Иваном Яковлевичем происходит неожиданное превращение, некий духовный перелом, приведший его на путь юродства. Причем утверждать, что он сошел с ума, нет никаких оснований. Во всяком случае какого-то события, очевидно, способного губительно повлиять на психику Ивана Яковлевича, его жизнеописание не приводит. Случившаяся с ним перемена объясняется единственно его осознанным стремлением к затворничеству и к постижению тайн Божьих, «почерпаемых им из книг Священного Писания».
Но просто так взять и уйти, оставив в недоумении своих учеников и их родителей, Иван Яковлевич не мог – это выглядело бы уж совсем необъяснимым чудачеством. И тогда он, изображая безумие, стал юродствовать. Он поселился на каких-то огородах в старой бане. Но покоя и одиночества Иван Яковлевич там не нашел. Скоро всему Смоленску стало известно, что их земляк Корейша, прославившийся своей ученостью и безукоризненными нравственными качествами, сделался юродивым. Наверное, в представлении смолян это было что-то вроде чудотворца. Потому что немедленно весь город бросился в баню к Ивану Яковлевичу со всякими нуждами – кому-то нужен совет, кому-то пророчество, кто-то чает исцеления.
Чтобы как-то умерить интерес земляков к собственной персоне, Иван Яковлевич повесил на бане объявление, гласящее, что всякий соискатель его высокой аудиенции должен являться перед ним не иначе как вползая в апартаменты на коленях. С одной стороны, понятно, что интерес к нему после этого не только не уменьшился, а, напротив, возрос. Но с другой стороны, очевидно, душевнобольной человек не способен на такой демарш.
И не важно – действительно ли Корейша хотел таким образом оградиться от наплыва посетителей или, на самом деле, у него имелись какие-то дальновидные планы собственной популяризации, в любом случае выбранный им прием выдает в нем человека отнюдь не умалишенного.
После этого число визитеров резко сократилось – немного находилось охотников вползать к Корейше, как к китайскому императору, на коленях. Наконец-то Иван Яковлевич мог в своем затворе спокойно читать книги и петь псалмы. Так он провел несколько лет.
Но в устоявшуюся, казалось бы, его жизнь вмешалась война. После жесточайшего трехдневного сражения, 7 августа 1812 года, русские оставили Смоленск, и в город вступила наполеоновская армия. Какова это была битва за Смоленск, красочно живописует в своих «Письмах русского офицера» Ф. Н. Глинка: «Я видел ужаснейшую картину, я был свидетелем гибели Смоленска. Неприятель устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых россиян… Русские не уступили ни на шаг места; дрались как львы… Наконец, утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью… Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви… и все, что может гореть, запылало!.. толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву».
Иван Яковлевич не присоединился к толпам бежавших от огня смолян. Возможно, он вообще оказался единственным жителем Смоленска, оставшимся в городе. О том, что Смоленск достался победителю выгоревшим дотла и совершенно безлюдным, свидетельствует адъютант Наполеона Сегюр. Когда французская армия вошла в Смоленск, пишет месье Сегюр, «свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы».
О коротком периоде жизни Ивана Яковлевича под французами достоверных сведений нет. В жизнеописании говорится только, что он часто появлялся вблизи неприятельского лагеря, причем французы всячески оскорбляли его и поносили. Попробуем же на основании этого скупого свидетельства представить, как именно вел себя и чем занимался Иван Яковлевич в оккупации.
Для чего он появлялся в расположении неприятеля? Это же противоречит элементарному здравому смыслу. Французы могли принять его за шпиона, и тут уж Ивана Яковлевича ждали бы не только оскорбления или побои, а, видимо, и смертная казнь. Но, очевидно, за шпиона французы его не принимали. А принимали, вне всякого сомнения, за сумасшедшего. Поэтому и ограничивались лишь насмешками.
Но почему же человек, который только недавно старательно укрывался от людей, затворившись в старой бане на задворках, вдруг сам пошел к людям? И к кому? К врагам, которые могли запросто лишить его живота.
Ответить на эти вопросы несложно, достаточно вспомнить поведение в подобных ситуациях некоторых предшественников Ивана Яковлевича. Когда Иоанн Грозный пришел «с великою яростию», по словам летописи, в Псков, к нему навстречу не смиренное духовенство вышло с крестами и хоругвями и не льстивое купечество с откупными – их бы Грозный тут же пустил под нож, – а прискакал на палочке юродивый Никола и, в сущности, прилюдно унизил царя, обвинив его в богопротивной кровожадности, и тем спас Псков от разорения.
Вот таким же безумным, а значит, неподответным изобличителем являлся во французский стан Иван Яковлевич. Уж о том, какие именно он применял методы воздействия на врага, мы гадать не будем. Но ясно, что это была его борьба. Он донимал неприятеля своим юродством, так же как Денис Давыдов не давал французам покоя партизанскими набегами.
Кажется, это еще раз убедительно подтверждает, что сумасшедшим, каким его принимали французы, Иван Яковлевич на самом деле не был. Для него безумие служило оружием. Как, впрочем, и для всякого юродивого. С этим оружием Корейша не расстанется уже никогда. Только противник у него будет другой: вместо безбожных иноземцев он станет теперь сражаться с врагом рода человеческого, вселившимся в некоторых соотечественников. А впрочем, тем же остался противник…
После войны Иван Яковлевич опять уединился в своей баньке. К посетителям стал относиться более лояльно: принимал их изредка, давал советы, подсказывал что-то. И вот в этот период он совершил первое свое значительное, ставшее широко известным, чудо – верно предсказал одним людям события, предотвратив которые они в результате смогли избежать великой беды.
Это случилось в 1817 году. В Смоленске проездом тогда оказался один важный вельможа – человек немолодой и более, чем состоятельный. Он как-то познакомился с бедной вдовой-чиновницей, у которой была молодая красавица дочка. И воспылал такой страстью к этой дочке, что пустился в самые тяжкие авантюры. Прежде всего, он очень осторожно разведал: а не готова ли девушка в принципе быть содержанкой? Но, убедившись, что и для нее самой, и для ее матушки такие фривольности совершенно неприемлемы, старый повеса решил действовать иначе. Рекомендуясь человеком свободным от брачных уз, он, по заведенному обычаю, явился к чиновнице просить руки ее дочки. Настрадавшаяся в нужде вдовица просто-таки голову потеряла от столь лестного предложения столичного вельможи. Разумеется, она была согласна! Ее только смущало непременное условие жениха обвенчаться не здесь, в родном городе невесты, ввиду всех знавших ее с пеленок близких, а почему-то в Петербурге. Причем вельможа настаивал, чтобы матушка непременно отпустила дочку с ним одну.
Чиновница оказалась в полной растерянности: как ей быть? Вроде бы и партия складывается отменно выгодная. Но вместе с тем условия жениха вызывали в ней тревогу, беспокойство, настораживали. И тогда кто-то посоветовал ей сходить к их местному мудрецу Ивану Яковлевичу: уж он-то верно подскажет, как им следует поступать. Матушка бегом побежала к Корейше.
И что же она узнала?! Юродивый, выслушав вдову, категорически наказал вельможе не доверяться и дочку с ним не отпускать. Никакого брака у них быть не может, рассказывал Иван Яковлевич, потому что жених уже человек женатый и к тому же многодетный.
Это было великим потрясением для родительницы. На ближайшем же свидании она решительно объявила вельможе, что отныне все сношения с ним разрывает. Ей бы нужно было просто отказать вежливо этому господину, сославшись на какую-нибудь причину, например на нездоровье дочки. Но неразумная, а скорее, может быть, разгневанная обманом и бесстыдными намерениями вельможного проходимца мать выложила несостоявшемуся жениху все, что ей было о нем известно.
Вельможа вознегодовал. Он стал доискиваться: откуда же эта вздорная старуха могла узнать о нем все сокровенное?! При его положении и связях это было сделать несложно. Кто-то подсказал ему, что вдова давеча ходила к местному безумному ясновидящему и тот, верно, каким-то образом ее и надоумил. И вот тогда весь свой гнев вельможа обрушил на Ивана Яковлевича. Под предлогом, что его безумие-де представляет опасность для общественного порядка, вельможа добился, чтобы Ивана Яковлевича поместили в дом умалишенных. И поскольку в Смоленске такое учреждение до сих пор лежало в руинах после сражения 1812 года, Ивана Яковлевича решено было отвезти прямо в Москву. Причем сделали это заговорщики тайком, чтобы люди не узнали: многие простые смоляне очень почитали Ивана Яковлевича. Поэтому чтобы не произошло никаких беспорядков в городе, юродивого схватили, связали по рукам и ногам, уложили в простую крестьянскую телегу, накрыли грязными рогожами и быстро увезли. Больше в родном Смоленске Иван Яковлевич никогда не был.
В Москву его привезли 17 октября 1817 года. В Преображенской больнице для умалишенных Ивана Яковлевича, будто чрезвычайно опасного буйного безумного, поместили в подвале и приковали там к стене в дальнем углу. Впоследствии, будучи уже в относительно благоустроенной палате, Иван Яковлевич не однажды рассказывал посетителям о своем путешествии в Москву, о том, как он поступил в больницу и как его здесь разместили. Кто-то из визитеров записал этот рассказ. Вот как изображал свои злоключения сам юродивый. «Когда суждено было Ивану Яковлевичу переправляться в Москву, – рассказывает он о себе в третьем лице, – то ему предоставили и лошадь, но только о трех ногах, четвертая была сломана. Конечно, по причине лишения сил несчастное животное выдерживало всеобщее осуждение, питаясь более прохладою собственных слез, нежели травкою. При таком изнуренном ее положении мы обязаны были своей благодарностью благотворному зефиру, по Божиему попущению принявшему в нас участие. Ослабевшая лошадь едва могла передвигать три ноги, а четвертую поднимал зефир, и, продолжая так путь, достигли мы Москвы, а октября 17-го взошли и в больницу. Это начало скорбям. Возчик мой передал обо мне обвинительный акт, и тот же день, по приказу строжайшего повеления, Ивана Яковлевича опустили в подвал, находящийся в женском отделении. В сообразность с помещением дали ему и прислугу, которая, по сребролюбию своему, соломы сырой пук бросила, говоря: чего же тебе еще? Дорогой и этого не видал; да вот еще корми его всякий день, подавай воды с хлебом, а в бане жил, что ел? Погоди, я сумею откормить тебя; у меня забудешь прорицать!»
Не правда ли, речь Ивана Яковлевича не лишена не только юмора, которого, говорят, у душевнобольных категорически не бывает, но и некоторого изящества сочинителя-дилетанта.
В подвале Иван Яковлевич просидел три года. Перевели его из этого карцера в нормальную палату лишь после того, как в больнице сменилось руководство. Новый старший доктор Саблер взялся за исправление своей должности с того, что обошел все закоулки вверенной ему больницы. И вот в подвале, в дальнем темном углу, он, к совершенному своему изумлению, обнаружил человека, прикованного цепью к стене и лежащего на полусгнившей сырой соломе. Доктор в ужасе воскликнул: «Боже! Слабый человек, и выносит такую пытку! Отчего, скажите, пожалуйста, он так жестоко содержится?!» Кто-то из персонала показал д-ру Саблеру бумаги, в которых какой-то русский Вильфор указывал содержать Ивана Яковлевича, как Эдмона Дантеса, под неослабным надзором, соблюдая строжайшую тайну. «Да ведь он уже скелет и не в силах встать без посторонней помощи! – так и не мог умерить разгневанного тона старший доктор. – А вы держите его на цепи! Стыдно! Позорно! Извольте сейчас же снять цепь и вынести его наверх в чистую комнату!»
С этих пор Иван Яковлевич стал занимать в больнице привилегированное положение. Его поместили в отдельную просторную и светлую комнату и позволили принимать визитеров без ограничения. А визитеров было очень немало!
Невиданной популярности Ивана Яковлевича среди москвичей предшествовал случай по-настоящему чудесный. В той же Преображенской больнице много лет уже жил еще один блаженный Александр Павлович. Помимо многочисленных посетителей, к нему часто приходил молодой фабрикант-суконщик Лука Афанасьевич. Не было такого сколько-нибудь значительного праздника или еще какой-нибудь памятной даты, чтобы он не пришел к юродивому с поздравлениями. И вот приходит как-то миллионщик к Александру Павловичу в день собственных именин. Гостинцы несет в корзинке. Все вроде бы обыкновенно, привычно. Но юродивый в этот раз почему-то встречает его, как никогда, восторженно, будто произошло что-то из ряда вон выходящее: он бросается обнимать и целовать фабриканта. «Как ты счастлив! – говорил Александр Павлович. – Как ты счастлив, радость моя! Истинно благословен час рождения твоего!» Фабрикант ничего не понимает: что случилось? в чем причина такого восторга его блаженного друга? Александр же Павлович, видя недоумение гостя, говорит ему: «Ты вот, друг мой, смущаешься, а я радуюсь за тебя, радуюсь тому, что Бог удостоил тебя послужить не одному мне, а еще и тому, кто гораздо выше меня! Постарайся же, ангел мой, постарайся с любовью послужить доброму делателю винограда Христова, за то и сам получишь награду; ступай отыщи его, он находится под нами, в подвале». Не правда ли, чем-то эта восторженная речь юродивого напоминает слова Пророка и Крестителя: идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви.
Суконщик добился, чтобы его пропустили в подвал к человеку, названному делателем винограда Христова. О чем он говорил с Корейшей, неизвестно. Но, видимо, Иван Яковлевич произвел на него сильнейшее впечатление. Потому что после визита этого фабриканта в подвал к прикованному к стене юродивому потянулись посетители.
Ну а уж когда Ивана Яковлевича перевели в благоустроенное помещение, визитеры просто-таки хлынули к нему. Случалось, что к юродивому проходило до шестидесяти человек в день! Именно здесь, в этой палате, его и навестил в свое время Ф. М. Достоевский.
Больничное начальство придумало даже способ извлекать из массового наплыва посетителей пользу: всякий гость Ивана Яковлевича, прежде чем быть к нему допущенным, бросал двадцать копеек в выставленную специально кружку. За месяц выходила немалая сумма. Эти деньги д-р Саблер распорядился употреблять на улучшение содержания больных. Таким образом, благодаря Ивану Яковлевичу больница получила новую значительную статью доходов.
Имея полную возможность устроить себе довольно комфортное существование, Иван Яковлевич предпочел оставаться тем же аскетом, каким он был в подвале и в бане. Он постелил в углу, возле печки, какую-то дерюжку, и она прослужила ему постелью сорок лет! Но днем на ней Иван Яковлевич почти никогда не лежал: кроме нескольких ночных часов, он все время был на ногах – ходил из угла в угол, стоял то здесь то там, даже ел стоя!
Чтобы не позволять душе лениться и еще более усугубить телесные истязания, Иван Яковлевич придумал постоянно толочь стекло: он брал бутылку, разбивал ее и затем растирал осколки на камне другим камнем в мелкий песок, в пыль! Он исключительно ответственно относился к этой заботе: следил, чтобы в достатке было материала – стекла, – а готовая продукция не залеживалась на рабочем месте.
При Иване Яковлевиче состоял служащий из отставных солдат – добросердечный такой, неприхотливый, ворчун Мирон. Человек, видимо, далекий от элементарной духовной грамоты, он искренне не понимал, что такое значит юродствовать, в чем состоит значение этого подвига, и считал Ивана Яковлевича обычным умалишенным, неопасным, к счастью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?