Текст книги "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое"
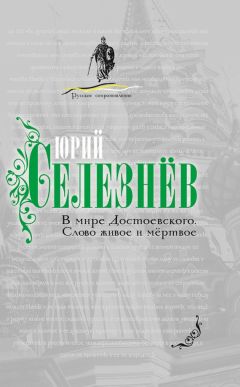
Автор книги: Юрий Селезнев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Но Афанасьев и сам был поэт. Поэт научного изыскания. Его «Поэтические воззрения славян на природу» ценны и по сей день и останутся еще долго таковыми не столько своей собственно научной методологией или даже выводами и обобщениями, сколько поэтическим рассказом о духовной, культурной жизни наших предков. Труд Афанасьева направлял мысль современников не в болото архаики, но, напротив, вызволял эту мысль из плена представлений о древних славянах как полудикарях, сидящих в болоте с камышинками во рту.
Труд Афанасьева был убедительным свидетельством истинности той мысли, которую уже в начале нынешнего века высказал М. Горький, – мысли о сущности народности, о народности как основании самосознания нашей национальной культуры. «Народ, – сказал М. Горький, – не только сила, созидающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них – историю всемирной культуры… Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, каковы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа… индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах».
И, наконец, необходимо сказать еще об одном и, думается, наиболее важном вопросе, возникающем в связи с познанием истоков истории народного самосознания. История нашего народа, история нашей Родины – это и история притяжения и сплачивания вокруг себя многих и разных народов. Этот факт общепризнан и утвержден в первых же словах нашего Государственного гимна:
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь…
Признание этого факта – отнюдь не повод для национальной кичливости или – равно – нравственной (трудовой, воинской, гражданской, патриотической, как, впрочем, и всякой иной) расслабленности и бездумности. Напротив, это признание обязывает к вполне осознанной ответственности народа за судьбы страны, а стало быть и всего мира. Дабы «не слыть, но быть» (лозунг-завет, читаемый на сохранившемся до наших дней щите одного из русских воинов эпохи Александра Невского) – быть тем народом, на который сама история возложила такую ответственность, народ наш должен обладать ясным самосознанием, высочайшими духовными качествами. Мы обязаны осмыслить важнейший вопрос: «Каковы духовно-нравственные предпосылки этой притягательности, этой центростремительной энергии, этой сплачивающей, воссоединяющей силы народа?» – вопрос государственной и всемирно-исторической значимости. Ответить на него невозможно без ясного знания истории, в том числе и истории народного самосознания, отраженной в культуре, в нашей словесности, уходящей в глубочайшую древность, когда и закладывались и определялись навечно те нравственные крепы, которые наш народ пронес через тысячелетия своего нелегкого исторического пути. Опыт этого пути отчеканен и в заветах отцов и дедов – заветах, актуальных сегодня не менее, если не более, нежели в древние эпохи, – эпохи первочеканки: «С родной земли – умри не сходи», «За правое дело – стой смело», ибо «Бог не в силе, а в правде». Правда – как солнце, божество древнего славянина; неслучайно называет его: «солнышко-правденышко».
Наши идеологические противники не хуже нашего понимают важность проблемы русского народа как единящей, цементирующей силы Советского государства. Вот почему антисоветизм все более явно обнаруживает формы откровенной русофобии. Русофобия есть не что иное, как стратегия империалистического «первого удара» по нравственному центру нашей державы, по самой важной крепе нашего Союза. Значительное место в этой стратегии отводится и планам идеологического разрушения основ национального самосознания, исторической памяти. Взорвать, отравить, засыпать истоки – значит решительно изменить русло полноводной реки, ее жизнеспособность. Подрубить корни – значит лишить могучее древо жизни народа живительных соков земли, иссушить плодоносящие ветви.
Познание истоков народной нравственности, корней мироотношения, представлений народа о добре и зле, правде и кривде, прекрасном и безобразном – не самоцель, но путь к осознанию тех ценностей, тех оснований жизни, которые должны оставаться незыблемыми.
Словом, как утверждает народная мудрость, держись за дубок – дубок в землю глубок. Держись, добавим, но и береги: и этот заветный дубок – древо жизни, и эту землю, ибо эта земля – твоя колыбель, твоя мать, твоя Родина.
1983
Поэзия природы и природа поэзии
Я вопрошал природу, и она
Меня в свои объятья приняла…
Лермонтов
1
Среди разнообразных форм русского орнамента один из наиболее характерных образов– четырехугольник, пересеченный прямыми линиями, которые образуют внутри него как бы четыре поля с точками в центре каждого из них.
Как показывают археологические и этнографические материалы, это один из самых устойчивых образов русской орнаментики вообще. Он столь же обычен в современном рисунке народных тканей, сколько и в тканях XI–XII веков. По существу, тот же рисунок украшает посуду начала нашей эры, найденную при раскопках на Нижнем Днепре. Он же наиболее характерен и для Трипольской культуры, один из центральных очагов которой находился в районе Среднего Днепра и расцвет которой относится к IV–III тысячелетиям до н. э.
Пожалуй, такая неизменность может послужить наглядным образом редкой консервативности определенной формы художественного сознания. Представим, что было бы с искусством вообще или с той же, например, живописью, если бы такое сознание владело художниками со времен палеолита до наших дней… А уж о поэзии и говорить не приходится. Сравним для примера хотя бы такие стихи:
Всю землю в цветы апрель одевает,
Весь собор людской в радость призывает,
Листвие древо зеленым венчает…
(Симеон Полоцкий)
О весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
(А. Блок)
Первые принадлежат одному из ведущих русских поэтов конца XVII, вторые – самого начала XX века. Разница в поэтическом мышлении, как видим, разительная, а ведь их отделяют не шесть и даже не два тысячелетия, а «всего лишь» чуть более двух столетий… Но обратимся и к такому поэтическому ряду:
Не буря соколов занесла через поля широкие – галицкое войско несется к Дону Великому!
(«Слово о полку Игореве», XVII в.)
Не ветра шумят холодные,
Не пески бегут зыбучие, —
Снова горе подымается,
Словно злая туча черная…
(Народная песня, XII в.)
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
(Пушкин, 1-я треть XIX в.)
Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты…
(Л. К. Толстой, 2-я пол. XIX в.)
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
(С. Есенин, 1-я четверть XX в.)
Родимая! Что еще будет Со мною? Родная заря Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя…
(II. Рубцов, 2-я пол. XX в.)
Не правда ли, каждый из этих отрывков художественно индивидуален? Не менее очевидно и творческое своеобразие каждого из их создателей. Но вместе с тем мы наблюдаем и удивительную, присущую всем им внутреннюю общность, характеризующую поэтический образ мира русской поэзии в целом. Такая устойчивая, но, конечно, далеко не единственная черта, как параллелизм мира природы и мира человека, как видим, «сопутствует» ей на протяжении, по крайней мере, семи столетий. Но если учесть, что уже и для автора «Слова о полку Игореве» этот поэтический «прием» не столько индивидуален, сколько глубоко традиционен, то, может быть, и не будет столь уж фантастично отнести истоки такого видения мира к тому же IV тысячелетию до н. э., к которому восходят и первые известные нам изображения упомянутого выше орнаментального рисунка. И, может быть, прежде чем говорить о консервативности или даже косности мышления, отраженной в этой шеститысячелетней традиции, стоило бы понять смысл и самого образа, и столь удивительной его сохранности.
Четырехугольник, пересеченный крест-накрест, не случайное «украшение», но идеограмма поля с точками-семенами. Это один из важнейших отличительных знаков древней земледельческой культуры, сложившейся еще в эпоху энеолита и явившейся истоком дальнейшего развития таких культур, как древнеиндийская, древнеиранская, древнегреческая, древнеславянская… Это был не просто случайный рисунок, но именно знак определенной культуры, с ее особыми представлениями о мире. Он как бы вобрал в себя наиболее глубинные черты народного бытия. Об этом говорит множество фактов. Так, белорусская этнография XIX века, например, свидетельствует: «Когда строился дом, то предварительно на земле чертился такой знак, а затем глава семьи отправлялся на четыре поля, окружавшие усадьбу, и с каждого приносил на голове камень, который и клал в центре каждого поля квадрата». Каждый из этих камней и становился краеугольным основанием дома. Не в те ли времена, в которые уходит традиция, сложилась поговорка «Не красна изба углами, а красна пирогами» и не таится ли в ней глубинная мировоззренческая взаимосвязь между такими краеугольными камнями и точками-зернами в идеограмме поля? Во всяком случае, эта идея, пройдя через несколько тысячелетий, находит законное место и в поэтическом образе мира русских поэтов XIX и XX веков.
Да, если видеть в этой черте русской поэзии только определенный поэтический прием, то вполне уместно удивиться и еще одному образчику косности художественного мышления. Однако прием ли это? В каких бы формах ни отражала поэзия параллель «природа – человек», перед нами всюду открывается в видимых и осязаемых образах один из важнейших законов бытия – закон диалога. Что это значит?
В мире все взаимообусловлено, все находится в многообразных отношениях друг к другу: человек – другой человек (мать, друг, брат, враг и т. д.); человек и общество; человек (или человечество) и природа (или мир в его целом) и т. д.
Эти отношения могут быть равноправными или же неравноправными, когда одна из сторон может не считаться с другой, навязывать ей свои условия, понятия и т. д. Такие взаимоотношения в самом широком смысле называются монологическими. Они, как правило, эгоистические, потребительские.
Я – центр мира, мир существует для меня – вот формула монологического сознания.
Диалог же как форма отношения к миру предполагает обязательное наличие второго равноправного, равноценного участника, с которым только и возможен диалог.
Я и мир; мир во мне, и я в мире – вот образ сознания русской поэзии.
Поэтический образ мира, о котором мы говорили, воспроизводит такие отношения, когда человек и природа как бы смотрятся друг в друга, раскрывают свой сокровенный смысл в диалоге. «Мгновенное», индивидуальное состояние человека в таком поэтическом образе как бы включается в вечную жизнь природы, соотносится с ней, поверяется ею. И процесс этот отнюдь не односторонен, он диалогичен в самом широком смысле этого понятия. Прекрасно сказал М.М. Пришвин: «Мы в природе соприкасаемся с творчеством жизни и соучаствуем в нем… Дело человека высказать то, что молчаливо переживается, миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир».
Знак древних земледельцев «украшает» и женские изображения и статуэтки и в этом случае означает: «она понесла во чреве».
«Невольно возникает ассоциация с христианским божеством плодородия – Богородицей, девой-матерью, изображаемой нередко так, что на ее животе показан не родившийся еще ребенок Иисус Христос… В Древней Руси культ Богородицы слился с местным культом рожениц… Мы знаем, как тесно магия плодородия полей переплетена с магией человеческого плодородия», – пишет академик Б. Рыбаков.
Не случайно, видимо, и в народном (а не церковном) сознании культ Богоматери сливался с древним культом Матери Сырой Земли, то есть земли, оплодотворенной дождем, «понесшей во чреве». Идея семени есть идея зарождения новой жизни, а весь знак в целом – символ идеи самой жизни.
Тот же знак, но уже в несколько иной форме, символизировал другую сторону той же идеи жизни. Круг. Это был знак соединения «земного» – природного и человеческого – с «небесным», точнее с космическим. Круг – древнейший знак, обозначающий солнце. Мироотношение, отраженное в этом знаке, столь же существенно и для образа мира русской поэзии.
Высоко солнце восходило, далеко осветило —
Во все чистое поле, через синее море,
Через синее море, через быструю речку… —
это запев одной из старинных народных песен, а далее в ней рассказывается о «частной» судьбе девушки. Также, как и в следующей:
Туманно красно солнышко, туманно,
Что в тумане красна солнышка не видно;
Кручинна красна девица, печальна,
Никто ее кручинушки не знает…
Только ли в «параллелизме» здесь дело? Да и зачем такие прямо-таки космические параллели? Однако вспомним, например, стихи Лермонтова:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит:
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Казалось бы, что особенного: ну, выходит поэт на дорогу– не такое уж «всемирное» событие. Откуда, зачем вдруг этот «космизм»: «Пустыня внемлет богу», «…звезда с звездою говорит»? Впрочем, может быть, такой диалог «ни из-за чего» с целым Миром – индивидуальная особенность художественного мироотношения именно этого поэта?
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Снова «частная» ситуация, и вдруг:
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
(Тютчев)
И у Есенина:
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил.
Образ дороги в русской поэзии, как и в русской литературе в целом, приобрел в творчестве самых разных по художественному видению поэтов характер закономерной необходимости. Вспомним былинных и сказочных богатырей на распутье, вспомним удивительные песни, сложенные народом о дороге, чего стоит только «Не одна во поле дороженька пролегала…».
Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у бога…
(И. Аксаков)
Простор – вот что, пожалуй, более всего и характеризует образ мира, созданный русской поэзией. Если в приведенных выше стихах – Есенина, например, образ звезды над дорогой рассматривать сам по себе, он может быть воспринят как конкретное воспроизведение вечернего пейзажа. Но в контексте русской поэзии в целом выявляется и вне – или даже надындивидуальная неслучайность «сугубо есенинского» образа. Нет, «звезда с звездою говорит» и «синяя свечка – звезда» не просто пейзажи. Это еще и вольно или невольно проявившаяся в индивидуальном видении поэтов общая, присущая русской поэзии закономерность. Какой бы частный эпизод, какое бы «мгновенное» состояние души, сознания ни лежали в основе стихотворения – у истинного поэта образ всегда открыт миру, внутренне сопричастен ему, духовно сопряжен с ним.
Рассмотрим хотя бы схематично, как создается внутреннее пространство (простор) образа мира в стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» и Тютчева «Вот бреду я вдоль большой дороги…». Думается, напоминать об очевидной художественно-творческой индивидуальности каждого из поэтов нет надобности. И в том и другом случае перед нами сразу же возникает далевой образ дороги, образ устремленности вперед и в будущее. Далее устанавливается та же беспредельность назад, в прошлое: «И не жаль мне прошлого ничуть»; у Тютчева она более поэтически сокровенна: «Улетел последний отблеск дня», «память рокового дня».
Однако образ у обоих поэтов не линеен: тут же утверждается и другая художественная координата «вертикальной» бесконечности вверх. «В небесах торжественно и чудно!» У Тютчева: «Все темней, темнее над землею…» А затем и «вниз»: «Но не тем холодным сном могилы…»; у Тютчева опять-таки образ «под землею» – смерти-могилы дан в «намеке», но совершенно явно ощутим в полунамеке строфы «Завтра память рокового дня…».
Стоило бы сказать и о «расширении» этого образа. Стихотворения открывают как бы частные ситуации: «Выхожу один я…» и «Вот бреду я…». Я— поэтический центр того и другого образов. Эта центральная точка их поэтического мира не замкнута на себе и в себе, она открыта земному «дольнему» миру: «Пустыня внемлет богу», «Вот тот мир, где жили мы с тобою…» Происходит как бы расширение внутреннего пространства образа от «точки» – центра до тех пределов, когда вдруг становится видно далеко во все концы земли (вспомним блоковское: «Выхожу я в путь, открытый взорам…»). И, наконец, эта «дольняя» бесконечность художественно сопрягается и с «вселенской»: «И звезда с звездою говорит». У Тютчева: «Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня?» И в одном и в другом случае точка Я сопряжена с Миром в его Целом. Человек и мир связаны единым духовным состоянием сопричастности… Оттого и «частный» случай, индивидуальное состояние поэта всемирно, оттого его образ мира духовно бесконечен.
Мы помним, что древние изображали знак Космоса солнечным кругом (славянское «колесо» – круг от «коло» – солнце). Круг же был одновременно и символом бесконечности. Таким образом, если мы захотим установить общий знак образа мира обоих поэтических шедевров, мы получим не что иное, как древнее, уходящее в глубь по меньшей мере шести тысячелетий изображение.
2«Космизм» русской поэзии проявляется не в отдельных образах, пусть даже и столь устойчиво традиционных, как рассмотренный нами поэтический параллелизм: человек – природа – космос. И тем более не в отдельных «космических» терминах, но прежде всего в том духовном состоянии причастности миру, которое создается стихотворением в его целом. В состоянии духовного диалога Я с Миром. Такой диалог может быть «скрыт». Чаще всего он сокровенен, но его присутствие всегда ощутимо.
Вспомним, например, такие стихи Фета:
Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Казалось бы, простая зарисовка, наблюдение. И вдруг – откуда такой порыв! А вернее – прорыв из «пейзажа» в бесконечность, из мира «жанровой зарисовки» в мир необходимости духовно-родственного соединения с «далеким-близким»:
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!
Это крик о невозможности быть одному. И пусть этот диалог в данном случае «только» с другом, в нем, как в зерне, – весь смысл и «вселенского» чувства. «Надо, чтобы стало тесно в себе и очень больно от этого…» – записывает Пришвин в дневнике; и эта «личная боль», которая у большинства так и остается личной, и только, – у истинного поэта «имеет всемирное значение жажды… найти родную душу для встречи».
У Лермонтова есть удивительные стихи «Когда волнуется желтеющая нива…». Далее, как мы помним, следуют другие «когда» – образы русской природы, а все стихотворение завершается «логическим» «тогда»:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
«Свежий лес», «звук ветерка», «малиновая слива», «ландыш серебристый», «студеный ключ» – все это не просто элементы конкретного пейзажа, но те реалии природы, которые более всего «душу облекают в плоть» (С. Есенин). Отсюда и естественный, природный космизм такой поэзии. Это духовное состояние, когда «мгновение» равноценно вечности, когда частица бытия говорит о целой Вселенной, когда совершающееся в душе поэта одновременно отражается «на земле и в небесах».
Личное поэтическое «я» осуществляет себя как бы перед лицом всего Мироздания.
Оставаясь в высшей степени личностным, такое сознание соотносится с сознанием всего народа. В стихотворении семнадцатилетнего Лермонтова, строфа из которого послужила эпиграфом к этой статье («Я вопрошал природу, и она Меня в свои объятья приняла…»), совершенно точно определено такое состояние:
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу…
Вопрос о соотношении в поэзии личного и общенародного вообще один из наиболее глубинных. Тысячелетиями времена года определяли общенародные жизненные ритмы, циклы, которые накладывали особую несмываемую печать на быт и бытие как отдельного индивида, так и всего народа в целом.
Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с радостью,
С великой милостью… —
так издревле поет парод. Весна – веселье природы, время года, более всего говорящее о ее бессмертии, о неодолимости жизненных сил, о вечном возрождении.
Еще весны душистой нега
К нам не успела снизойти,
Еще овраги полны снега…
Его возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях.
(А. Фет)
Вспомним лермонтовские «разливы рек… подобные морям», некрасовский «Идет-гудет Зеленый Шум», блоковские строки «О, весна без конца и без краю…». Можно привести десятки неповторимых поэтических воплощений «весеннего» чувства – все они отражают и нечто надличностное – общенародные поэтические воззрения па природу весны.
Вот что пишет, например, о своем сугубо личном отношении к весне Пушкин: «Октябрь уж наступил… Теперь моя пора: я не люблю весны…» («Осень, Отрывок»), Но вот в «Евгении Онегине» читаем:
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга,
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года…
Здесь уже дано не личностное, но общенародное восприятие весны. И это всеобщее чувство как бы перебарывает личную неприязнь поэта к весне:
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны…
Да вот ведь и народ-то поет не только свое, «общее»: «Веселитеся, подружки: к нам весна скоро придет», но и индивидуальное: «Скучно, матушка, весной мне жить одной…» Личностное не поглощается общим ни в лирике народных поэтов, ни в народной поэзии, но всегда соотносится с ним.
Это «общее» и есть своеобразный поэтический знак глубоко природной причастности неповторимой личности поэта духу общенародного бытия.
Конечно, поэзия имеет свои законы, и этот знак причастности, как правило, и сам более личностен, не столь наглядно зрим, как «орнаментальный образ», прошедший неизменный путь в несколько тысячелетий. Но ведь и этот образ «косности сознания» отмечает общее в меняющемся и развивающемся мире.
А ведь при слове «поэзия» тотчас же возникает мысль о свободе: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум…» (Пушкин). И, может быть, не случайно слово «стихи» в русском языке созвучно со словом «стихия», которое, в свою очередь, нерасторжимо опять-таки со словом «свобода»: «Прощай, свободная стихия…» Действительно, творчество – а поэтическое, кажется, более всего – и есть одно из величайших проявлений свободы человеческого духа. Но… истинная поэзия вместе с тем и величайшая необходимость. Необходимость внутреннего духовного единства со своим народом. Вы помните, конечно, эти удивительные стихи Пушкина:
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Истинная внутренняя свобода и неподкупность поэтического голоса дают право поэту быть не… свободным, но – эхом… народа. Думается, этот глубоко социальный поэтический образ у Пушкина не случайно взят из природы. Природа роднит мир человека с Целым Мира. Есть глубокая закономерность в том, что в русском языке мир – община, общество, мир – не война и мир – Вселенная – слова-близнецы. В меняющемся, «текущем», катастрофическом мире с его «относительностью» личных понятий, устоев, с его быстрой сменой эстетических и этических оценок Природа – живой образ Вечности и непреложности внеличностных, общенародных ценностей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































