Текст книги "Убежище"
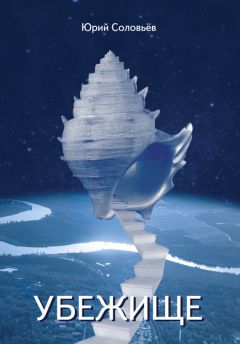
Автор книги: Юрий Соловьёв
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Юрий Соловьев
Убежище Книга стихотворений
Возвращение Брана
Нынешний «мировой порядок» способствует оглуплению людей еще больше, чем все предыдущие. Вернуться на литературные кухни не получится, но там мы были сплоченнее и тверже, ибо обретали чувство локтя. Можно радоваться, что с нашим поколением дело не так уж плохо, но о судьбе ноосферы (например, поэзии) поневоле задумываешься. «Если людям надо, они сохранят» – эта смиренная мантра Мандельштама помогла не одному поколению стихотворцев спокойно уйти в безвестность. Возможно, «во глубине сибирских руд» и сейчас сияют для самих себя чудесные самородки, готовые быть вот-вот погребенными под бездушными волнами истории и, до нас не доходит самое интересное, живое, уникальное, то, что разглядеть современникам труднее всего, но все в руках Господних. Как бы там ни было, но стихи Юрия Соловьева в безвестность не канули, более того, поставленные сейчас рядом со стихами кумиров постсоветского периода, ставят под сомнение привычную литературную картину.
Создание литературной репутации – отдельная статья и профессия, но на фоне опыта Юрия Соловьева значение игровых, иронических школ, ставших «визитной карточкой» 90-ых, отходит в тень, занимая все более скромное место. Стихи его еще не получили подобающего приема в нашей культуре (возможно, она к этому не готова), хотя бы потому, что по своей природе, духовному заряду и мастерству исполнения они слишком отличны от общепринятых продуктов постмодерна. Факт их написания стал для меня одним из немногих духовных оправданий переломной эпохи. Думаю, их публикация с некоторого момента стала бы неизбежной. Туман рассеивается. Есть надежда, что в нем вот-вот проступят и новые дорожные знаки, послышатся голоса, способные хоть что-то объяснить, если, конечно, нам это еще нужно.
«Уверенность в потусторонней славе
не свойственна участнику молчанья
и, может быть, порочна для того,
кто наблюдает эти формы жизни.
…Им укоризна питательнее.»
Не удивлюсь, если автор и впрямь не заинтересован в «тленном вниманье» и искренне удивляется обнаружив, что «и вот получается – ободряешь кого-то своим присутствием в речи». Он вряд ли принадлежит к обитателям башни из слоновой кости – время распорядилось с его талантом бесцеремонно, но он остался верен своему дарованию и не пошел на поводу у обстоятельств. Стоицизму, спокойствию, уверенности в своей правоте Юрия Соловьева можно лишь поклониться. Чувствуется, что за созданием этих стихов стоит нечто большее, чем обычное поэтическое самолюбование и самовыражение. В мире слишком много важного и неразгаданного, проявляющегося именно сейчас и нуждающегося в назывании и обозначении. Личное на этом фоне несущественно.
«Кто еще посчитает себя тем единственным Римом,
тем зверем,
что пока неразделен, сдерживает племена
от распри, от ереси, что
ограждает вселенную?
…кто назовется
населенной землей, замысленной свыше…»
Кажется, люди забыли, что подобное существует: цинизм торгашеского географического передела заставил многих поверить в рукотворность бытия, более того, смириться с тем, что история делается далеко не чистыми руками. Мы наблюдаем за поведением «разделяющих и властвующих», привыкая к мысли будто наша судьба вершится не на небесах, а где-нибудь в Бильдербергском клубе. Мало кто относится к мирозданию с таким же безграничным доверием, а к обществу с таким же праведным безразличием как автор. Горечь – пожалуй, единственное, что выдает реальное отношение поэта к ходу вещей.
«Костры не согреют, топор не решит,
не скажет свирепый латинский гранит,
зачем отправляться теперь на восток,
песками, костьми расшифровывать рок,
и нежитью множить развалины стран,
и дико кричать: Босэан!.. Босэан!..»
Крестовые походы, кочевые набеги («сарматский череп на вид – беспечная рожа, воспоминание Азии, воля безволья»), обращения к Византии, «орел которой переплавился в крест», записки времен тридцатилетней войны, магический князь Одоевский и «пограничный немец» Герберштейн – участвуют в духовном поиске автора, но не в качестве архивных отсылок, а действенно, актуально, в виде живого отклика на явления сегодняшнего дня, хотя бы потому что его внутренняя жизнь происходит сейчас, на наших глазах. Любой стоящий поэт создает собственную мифологию – это можно сказать и об Юрии Соловьеве – но с одним существенным замечанием. Он не фантазирует, не лепит отсебятины, игра смыслов и звуков интересует его постольку поскольку, беспочвенность чужда ему, даже враждебна. Главная интрига этой книги как раз в том и заключается, что за предложенными текстами стоит прочная мировоззренческая основа, книжное знание, которое, пройдя через душу поэта, перестает быть книжным и догматическим. Автор ни в коей мере не иллюстрирует своего миропонимания, он живет им и оно также естественно для него, как и умение говорить. Обращение к некоторой первозданной традиции (думаю можно определить позицию Юрия Соловьева и так) во многом схожа с обращением к древности вообще. Именно в прошлом предчувствуются тени более совершенных цивилизаций, определены законы духовности и сокровенного знания. Мне трудно представить себе честного перед самим собой художника, знакомого с культурой древнего мира, и стоящего на позициях прогресса. Продолжающееся из века в век оскуднение духа, утрата преемственности поколений, связи с природой, переход философии и литературы на популярный уровень, все, что принято называть кризисом современного общества, несмотря на кажущуюся объективность процессов, вовсе не означает того, что мы должны принимать их как должное. Поэзия Юрия Соловьева тому подтверждение. Бунт, крик, неистовство обличений нерационально. Нужна ежедневная подвижническая работа, смирение, терпимость, способность называть вещи своими именами, поиск самых простых слов и формулировок, поскольку только они способны быть восприняты читателем, отвыкшим от многозначности и глубины. На мой взгляд, вольно или невольно, автор с этой задачей справляется. В практическом применении это – вопрос стиля.
«Такая памятка дана,
изданье, древнего древней,
его держаться, как корней –
беречься. Дальше мгла одна,
и люди следуют за ней».
Стихи Соловьева лаконичны, сухи, лишены образной красочности, уводящей от сути дела. Каждое слово, каждая строка призваны работать. Проходных моментов «взахлеб» в этом тексте не существует, – попросту не позволяет графика письма. И пунктуацией автор пользуется по назначению – он не разглядывает слова, любуясь множественностью смыслов их соединений, ему нужно быть понятым – такое простое, но почему-то редкое теперь качество. Все экспериментируют, не ставя себе целью достижения результата – и это стиль творчества и жизни, а Соловьев берет готовые формы и как бы стеснительно выставляет их напоказ. Книга написана за несколько заходов (о чем свидетельствуют даты написания стихотворений), но плодотворность этих вдохновений не выявляет ни поспешности, ни обаятельной небрежности, которые всегда простительны в подобных случаях. Наоборот афористичность некоторых стихов говорит о серьезной работе над словом: удивительно, что ему удалось записать эти откровения настолько быстро и точно. Обращения к фольклору и сказке приводят к канонической, единственно возможной форме, как оно и должно быть, например, в народной песне. «Я вчера с петухом сошлась, а под утро змеем снеслась, и по мне что князь, что язь, что под мышкой серная мазь».
Замечательны ритмические переходы в пределах одного стихотворения, прием используется сейчас многими, но у Соловьева это получается с той правильной резкостью, уловив которую хочется согласно кивнуть. Основной корпус стихотворений написан в нейтральной, немного мрачноватой интонации, избегающей пафоса и какого-либо надрыва. На этом фоне с небывалой пронзительностью смотрятся редкие «автобиографические сюжеты», по-хорошему «трогательные», благодаря тщательно подобранным деталям, реальным и выдуманным. Таково стихотворение «Памяти Багиры», посвященное девушке, покончившей жизнь самоубийством и схожей в своей беспомощности с плюшевой игрушкой в руках у автора: оно не принижено до житейского уровня, а сохраняет метафизическое напряжение, словно речь идет о «разумных светилах» или «человеческих числах». Таинственность колдовского действия и очарование странного детства особенно хороши в «Куколках»:
«Когда стемнеет и забудутся имена,
женский голос запоет куколкам о подземных путях.
Голос сложит свои волокна на манер соломенного столбика,
выкормит куколок, и оденет их. И почти оживит
снопики и метелки, загодя вязанные –
к временам, когда перестанут выкапывать корешки
и отливать фигурки,
потому что свечной воск сильнее воска болванчиков,
и подобия осели прахом в душе».
Верлибры (ими написана примерно половина книги) – жанр более сложный и говорящий о сочинителе гораздо больше, чем метрический стих. Так вот. У Соловьева он предельно функционален, а в лучших случаях строится на уровне сообщения (вести). Пресловутые прозаизмы и дневниковость обошли автора стороной: он передает именно то, что сказать необходимо, ни больше – ни меньше. Здесь главную роль играет не импровизация, не узорчатость, не искусное чередование слов и пауз, и даже не звучность высказывания или «обмирщение речи», – автор просто вербализует свою мысль, которая вряд ли могла быть выражена иным способом, чем посредством поэзии.
«Но именно их, потому что
дома их пусты,
но именно их, потому что
их слух до сих пор безразличен и чист,
но именно их позовут
и спасут, и покажут им.
Только б они захотели.»
Факт существования поэта неумолимо предполагает наличие тяжбы с самим мирозданием (не путать с тяжбой с жизнью), вопрос лишь в том, насколько высоко поднята планка в этом споре. Свободолюбцы и политические диссиденты отдыхают – «открывший эту книгу, посчитал бунт ангелов единственным событьем» – испытать противоречие материи и духа на своей шкуре куда серьезнее. Столь же утомительно наследие первородного греха и страшного суда (его автор именует утешительным). Однако, несмотря на приметы времени, он старается не стращать читателя почем зря, сводя проблему к емкой образной формуле:
«Что может быть радостнее такого заката
и карающей длани над утомившей толпой?
И почему бы миру теперь не стать долиной Иосафата?»
Книга состоит из четырех частей (как времена года), ясных, прозрачных, композиционно оправданных. «Реликвии», «Медное море», «Город без памяти» и «Оракулы» – самостоятельные величины, составляющие единое целое. Вообще книга выглядит очень продуманной, законченной, выстраданной, если хотите. Даты тоскливого безвременья под стихами смотрятся вызывающе – они несут что-то большее, чем отметка о завершении работы или графическая законченность – именно поэтому я заговорил о поэзии девяностых. «Времена» – автор постоянно обращается к ним, словно сравнивая культурные пласты человеческой истории с пустоватым воздухом современности.
«Слова и времена – вот приговор,
все остальное только варианты
осуществленья приговора.»
«Глубина моей памяти невелика,
словно год неполный я помню
семь последних лет, а раньше будто и не жил.»
«Так получилось, что я позабыл много больше,
чем было написано на роду.»
«Я проживаю времена несмело,
почти не побывав во временах».
Древность, «замковая гора», «цитадель», «замшелое и сводчатое лоно Великой Матери» становятся единственным убежищем, где еще можно сохранить связь времен. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены».
«Наползает на нас материк из нетающих плит,
обращает нас в древность и студит в нас гордость и норов».
Враждебность людей к вещам, обладающим неопознанной глубиной, к любому древнему опыту, мистической практике или строгой философии – поразительна и на первый взгляд необъяснима. Обычно от такого творчества стыдливо отмахиваются, стараются его не замечать. Именно поэтому «моя пузырится шкура на кострище Царя Петра». Испытание невниманием – более изощренная практика. Так происходило с «Цитаделью» Экзюпери, традиционализмом Генона, антропософией Штайнера и т.д. Я слышал, что в свое время предпринимались попытки придать военному трибуналу наследие Ницше. С бытовой точки зрения это можно объяснить инстинктивным нежеланием людей усложнять себе жизнь лишним знанием, утраченной способностью к вдумчивому чтению, привычкой пользоваться готовыми ответами. С другой стороны, очевидна заинтересованность «профессионалов» – на определенном фоне их творчество обесценивается и сходит на нет. Но гораздо более правдоподобным мне кажется то, что сакральное знание подтачивает основы нынешнего уклада, принципиально поверхностного и существующего лишь благодаря отвлечению масс от интеллектуальной и духовной деятельности. Колосс на глиняных ногах чувствует опасность преемственности культур, допуская на рынок урезанную или упрощенную информацию, которая и без того тонет в общем якобы неконтролируемом потоке. Поэзия Юрия Соловьева на некоторое время оказалась задвинутой на второй план из-за того, что показалась кому-то темной и дискомфортной. Она действительно выходит за рамки чистой лирики, опустившейся до фиксации нюансов частного существования, и даже за рамки – светской поэзии. По своей природе она несет в себе некоторую сверхзадачу (даже идеологию, что для нашей расшатанной литературы факт небывалый). Идеологию, способную отсеивать и объединять.
«Возвращение Брана» – один из ключевых текстов этой книги – основан на кельтской легенде о путешественнике Бра-не, оказавшемся на райских островах, уставшем от бесконечного блаженства и пожелавшем хоть одним глазком увидеть родину. Если он ступит на родную землю – рассыплется в прах. Так оно, увы и случилось.
«Я на родине был всего-то досужей басней,
рассказом, сказкой, участью, что прекрасней
любой другой – и любой же другой злосчастней.
Я рассыпался в прах, чтобы череп мой бедный служил
землякам талисманом, обителью тайных сил…
Но теперь слова не слышны, берега во мгле,
и только невнятный шепот ползет по земле,
да в любые края вольно полететь золе…»
Замечательный образ «нашего безнадежного дела» – гораздо более убедительный в своей перелетной романтичности, чем свинцовый «водопровод, сработанный рабами Рима». Конечно, эта поэтика не могла родиться на пустом месте. Имя Юрия Стефанова (именно его Ю.Соловьев считает своим учителем и неоднократно обращается к его памяти в своих стихах), объясняет генезис его творчества. Я тоже воспользуюсь случаем выразить благодарность «магическому невозвращенцу» и «созерцателю незримого» за столь яркого ученика, и с печалью отмечу, что собеседников таких в наших столицах теперь не сыскать.
Вадим Месяц
I. реликвии
«Страшны языковые времена…»
Страшны языковые времена.
Я раздвигаю корешки – и вижу
расплавленные буквы и слова,
меж бездною и бездной – только сеть
еврейской азбуки или германских рун,
или глаголицы неведомой крючки,
черты и резы. И зеленый страж
двенадцати архангельских ворот
не смотрит в мою сторону. Вхожу
в замшелое и сводчатое лоно
Великой Матери. А дальше – ничего,
безмолвие, ни тьма, ни океан,
а просто – словно бы «не бысть ничтоже»,
как в летописи в некий год пустой.
Все так. Закрытые глаза и пустота
перед сетчаткой, позади сетчатки,
пустой и бесконечный коридор,
который и не коридор, и кончились слова,
и мрак, и свод обрушился, и мне уже не выйти
ни к языкам, ни к временам…
1993
«Бесцветная прядь жематийских болот…»
Бесцветная прядь жематийских болот,
припухлость и русский болезненный рот –
вот все, что я вспомню, и все, что останется мне.
Беспечная поросль от неких, не знавших границ,
создание узеньких улиц, широких страниц,
что мало мне виделось въяве, но чаще – во сне.
Здесь странная связь. Что в крови голубой, что в словах –
великая радость. Но больше – забвенье и страх,
тропический рок и астральные злые углы,
и ранняя темень, и пласт плодородной золы.
А ты – меж корней, но укрыться тебе не дано.
И тускло мерцает в Европу глухое окно.
Под жирных причалов безмолвие век изнемог.
И солнце болтается в небе, что твой осьминог.
1992
«Тишайшим небом разговор не начат…»
Тишайшим небом разговор не начат
о мраке, самом первом из чудес.
Отшельники заполонили лес,
впустую о полуночном судачат.
Их держит круг из камня и травы,
светила движутся по каменным просветам,
путь разведен по сторонам и метам,
колеса скрючились, окаменели львы,
свинец созвездий, тусклая коса
хрустит костями в мире чресполосиц,
и медлит меднорукий змееносец,
тринадцатый, пустая полоса.
1995
«Время ссорится из-за объедков…»
Время ссорится из-за объедков,
но что значат месяц и год,
если бунт безымянных предков
мои жилы в ночи порвет?
И припомнит уроки, обеты,
и возложит вину и срок,
и заставит читать приметы
в злобном воздухе, как меж строк,
в тряске, словно под флейту Пана,
к потаенным входить словам,
за охотою окаянной
по снесенным нестись головам.
И заставит меня заткнуться
многим множеством острых вещей,
и законом – извечно тянуться
по тоскливой тропе палачей.
То ль топор, то ли пуля-дура,
то ли пытошная пора,
и моя пузырится шкура
на кострище Царя Петра.
1993
«От зеленой пучины спасенья нет…»
От зеленой пучины спасенья нет,
волн тяжелых тяжелый звон.
Собирает силу темных планет
меднохвостый демон Дагон.
Лапы плавающих на глубине
небо хлопают по краям…
И вдобавок мы заблудились во сне
и таскаемся по морям.
1995
«Неживая влага недужных рук…»
Неживая влага недужных рук,
незаконная вязь у недужных снов,
ты забудься, забудь запереть засов
и проснись на первый совиный звук.
Влага капля за каплей сомкнется в слог,
он совьется в тропу, в перепутье пут.
Пронесут. Не спрашивай, что пронесут –
пронесется вопрос в переборе ног,
в перестуке капель и звоне подков,
в скрипе спиц на колесах в густых лесах.
Ты ищи себя в чаще, в чужих глазах,
в молчанье или в обрывках слов.
Не в полных словах затаился ты,
не сеть глаголов – устав камней.
Прячься, иль с первым лучом костеней,
иль черной ночью сочти черты
на еле видных стволах дерев,
на еле слышных всхлипах птиц,
на лицах стариц, отроковиц,
захлебнись сединою, вмиг постарев.
В неживых пространствах найдется нить,
змеем, корнем выползет на ладонь –
и корчуй, изводи, разводи огонь –
нежить в нетях, но нынче тебе не жить.
1993
«Князь Одоевский раздувает зеленый огонь…»
Князь Одоевский раздувает зеленый огонь
В своем Одоеве, прячется одвуконь
в камышах, утверждая, что это – объезд
подвластных крестьян и разных таинственных мест.
Князь Одоевский перепутал слова, все книги съел,
был на острове Патмос – князя варили в котле,
и князь состарился, пЕрепел перепЕл,
и пришла старуха гадать ему на золе.
Тебе, говорит, князь,
не путь, а коновязь,
ты дальше стогов не лазь,
а сиди, распутывай вязь.
Я вчера с петухом сошлась,
а под утро змеем снеслась,
и по мне что князь, что язь,
что под мышкой серная мазь.
Эх, не масть, думает князь,
да откуда взялась эта мразь,
эта изморось да роса,
да плешь, что изъест леса…
А старуха ему твердит –
зуб один, да прочно сидит,
что гранит, что хризолит,
что монах, что содомит…
Не грусти, что состарился, князь –
на тебя разевают пасть…
Князь Одоевский блюл посты,
поутру подстригал кусты,
парк вгоняя в голландский вкус…
Говорил, что сам он индус,
что живет девятый век,
что друг его – царь Ватек,
и, когда они с ним умрут,
не зароют их, а сожгут.
1993
«Едет, едет кошка верхом на зайце…»
Едет, едет кошка верхом на зайце,
она глаза отводит всем, кто ее видит,
полная луна над нею сияет,
полная луна топчет ей дорожку.
На поляну выскочил верховой заяц,
трава на поляне вровень с дальним лесом,
кому трава приходится славною кумою –
не выходит ночью, не встречает кошку.
Погоняет ловко, светит глазом зайцу
всадник хвостатый, куст укропа в лапе.
Тихо, ветер дремлет, прах не подымает –
проезжает кошка через лес дремучий.
Реку переплыла, по селу промчалась,
вылетает в поле, как заправский рейтар,
не закаплет дождик, не чихнет младенец.
На колючем поле исчезли заяц с кошкой.
А дальше в деревню клубок покатился,
беленький клубочек, маленький да ловкий,
кто б к нему ни вышел – любого подденет,
если побежишь – все равно догонит…
1993
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































