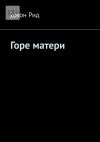Текст книги "Орбека. Дитя Старого Города"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Но всегда ли только в игрушках эти вещи находятся? – спросил Славский.
– Почти всегда, – отвечала Люльер. – Но скажи мне, – добавила она очень тихо, – он непомерно богатый?
Славский почти издевательски усмехнулся.
– Если вы только отгадываете, – сказал он, – то у вас пророческий взгляд, едва несколько недель назад он унаследовал огромное состояние.
– А! – воскликнула Люльер и поглядела искоса на Орбеку, как бы сама себя испытывая, сумела бы быть к нему нежной.
Мы уже немного обрисовали нашего героя; был это человек немолодой, никогда нельзя его было назвать красивым, имел, однако, в физиономии что-то грустное, милое и был, что называется, симпатичным. Говорила из неё великая резигнация и мягкость. Впрочем, лицо имел одно из тех, что и в молодости не слишком свежее, и в старости не слишком облачное и увядшее. Сразу он не мог понравиться женщине, но можно было к нему сильно и навеки, имея сердце, привязаться. Орбека был до избытка чувствительным существом, хоть от этой болезни всю жизнь разумом напрасно старался вылечиться.
Так прошёл обед, гастрономическую ценность которого только холодная Люльер, гурманка и знаток, была в состоянии оценить. Другие гости были слишком поглощены. Иероним заедал ревностью, хоть иногда до него долетала улыбка Миры, высланная для смягчения его боли; Славский занимался остроумной соседкой больше, чем тарелками, а об остальном нам говорить не нужно…
Рюмки, ловко меняемые, одни уступали другим, вина смешивались, наконец пришли токай и десерт, и встали от стола в том состоянии возбуждения, веселья, блаженства, к которым всегда приводит добрый обед в приятной компании.
Люльер подала руку Славскому, пожав с дивной улыбкой руку подруги; эта улыбка была такой красноречивой, что Мира зарумянилась, – хозяйку взял сам Орбека. Иероним снова представлял одинокий и грустный арьергард. На утешение он был хорошо захмелевший и как кузен дома (недавно назначенный) по дороге себе позволил напевать.
В салон принесли чёрный кофе в настоящих турецких чашках на филигранных подставках.
Иероним не имел лучшего занятия, как выйти на балкон и облокотиться грустно на его поручни, размышляя о ничтожестве женской любви. Люльер думала, что будет любезной, когда оттащит Славского; в углу салона остались Орбека и Мира, наполовину заслоненные зелёными вазонами. Тихим шёпотом протекал разговор, обоим как-то хорошо было, а столько имели бесконечно интересных вещей для рассказа друг другу.
Затем среди этой блаженной тишины со стороны прихожей долетел шум и непонятный шорох голосов. Какой-то грубый, громкий, охрипший, мужской голос, казалось, спорит со слугами и постепенно приближается к салону. Уже были слышны тяжёлые шаги по полу, страшные, как топот статуи командора в «Дон Жуане».
Мира, всегда чрезвычайно чувствительная, едва это дошло до её уха, побледнела, глаза её заискрились, сорвалась с сидения и побежала к дверям, как бы пытаясь предотвратить какое-то неприятное и не впору явление.
Но едва пробежала несколько шагов, этот голос дошёл до салона уже отчётливей. Очевидно, хозяйка пыталась избавиться от какого-то навязчивого пришельца, который вламывался силой.
– Но почему же нет входа, дорогая Мирцу, amour chèri! – воскликнул за теми дверями незнакомый гость.
А через мгновение:
– Ну, что это? Что это? Если бы я был немного захмелевшим, но je suis de bonne sociètè, глупости и неприличия не сделаю. Но пустите! Что это! J’ai donc mes entrèes и не напрасно! Салона от меня защитить не можете, когда…
Тут как бы речь была сдавлена приложенной к устам ладонью, а через мгновение хозяйка вбежала в салон, испуганная, пунцовая, и упала при Орбеке на стул.
– А, что за несносная авантюра… – сказала она с поспешностью, – человек… которого терпеть не могу… навязчивый… и всегда во хмелю… и такой грубиян… а, прошу прощения. Но где же Иероним?
Однако, прежде чем Иеронима удалось вызвать с балкона и докончить эти слова, на пороге показалась очень оригинальная фигура.
Был это немолодой мужчина, в парике, на котором качалась несуразно надетая шляпа-треуголка; одетый по-французски, при шпаге, с кружевным жабо, с пальцами, блестящими от перстней, с красным лицом, опухшим, явно спитым, отвисшими губами, слезящимися глазами, настоящий тип старого гуляки. Хотя он опирался на трость с деревянным набалдашником, качался на ногах. Насмешливо зажмуренными глазками он повёл по собранию.
– Bonsoir la compagnie! – произнёс он грубым голосом. – А это кто? – спросил он, указывая тростью на Орбеку.
Но, подняв трость, он должен был ухватиться за дверной косяк.
– Au diable! Вино великолепное и голову штурмующее не на шутку у этого нашего амфитриона. Pardon! Возвращаюсь с обеда. A, je viens cuver mon vin chez la bonne petite Mira.
Говоря это, он как-то дошёл до стула и упал на него всей тяжестью, аж мебель закачалась.
Нетрудно было догадаться, что человек, который в таком состоянии так смело входил к женщине, должен был иметь на это какие-то права. Мира также чувствовала, как её убило это явление спившегося чиновника. Но – был это один из её поклонников, которого некогда, по-видимому, хорошо общипала, ещё иногда давал из себя выщипывать по золотому перу. Что же тут было с ним делать?
С чрезвычайной самоуверенностью склонилась Мира к уху Орбеки.
– А! Прошу прощения, пан! Это шамбеляниц, мой кровный, грустный человек, с той фамилией! О, мой Боже! Оn abuse de notre faiblesse, не имела никогда отваги выпроводить его. Это человек, которого ненавижу. Прошу вас, в таком состоянии прийти к женщине!
Орбека, уже ослеплённый, мог только соболезновать судьбе Миры, но не вчитывался в глубину этой катастрофы.
Тем временем притянутый Иероним вышел с балкона и, может, не без некоторого чувства удовлетворённой мести увидел шамбеляница, которого случай привёл, чтобы расколдовать так сильно околдованного Орбеку. Пришедший заметил его.
– А! Ты также тут? Правда! Ты тут теперь на службе! Где же la petite? Кто там с ней? C’est du nouveau?
Он покачал головой.
– Мирцу, – откликнулся он, – всё-таки когда приходит старый приятель, из памяти, если не к его сердцу, то к его опорожнённому кошельку, стоит ему улыбнуться. O est-elle? За вазонами. Знаю этот уголок, но мне там бывало тесно.
Люльер, сначала также немного посмеявшаяся этой авантюре, сжалилась над подругой. Грубый гость поглядел на неё, она погрозила ему на носу.
– А! Ты тут! Прошу прощения, не заметил, – махнул себя по голове. – Однако же я вошёл в шляпе, но мне тут всё можно. Мира est une bonne petite.
– Но тихо, ради Бога, – топая ногой, произнесла Люльер, – уважайте…
– Ну, что мне уважать? Гм? Тебя? Farceuse? Или её? Или тех, что бывают? Pardon!
– Шамбелянцу! – крикнула Люльер. – Je vous ferai mettre á la pôrte.
– Ну, попробуйте, на это нужны четыре человека, а столько у вас нет, пожалуй, взяли бы где-нибудь взаймы.
– Что же с тобой стало? – спросила Люльер. – Обезумел что ли?
– Но нет. Я был на обеде у Н. Ха! Был ли это только обед? Нет! Это был завтрак, да, и мы пили… напивались… Выходя оттуда… Кто же меня сюда привёз? А! Приятель… Я подумал, куда пойти; домой не к спеху. Сын мог мне выдумать ту штуку, что Хам Ною, я был бы вынужден его проклинать, а это неприлично. Думаю, а куда же, если не к той маленькой Мирци, которую люблю. А! Слово чести, сегодня мою любовь чувствую помолодевшей…
Люльер дёрнула его за рукав и оторвала кружева. Тот посмотрел на рваные манжеты.
– Ты не права, что испортила мои брабанты, которые дорого стоят. Лулу, дай же мне хоть ручку, когда Мира занята! Ну, дай! Не знаешь, как после вина пахнут женские пальчики. Ну дай! Не укушу!
Люльер, смеясь, подала ему руку, а старик прилип к ней и вздохнул, потом голова медленно склонилась на грудь, руки опустились на подлокотники и, погружаясь в кресло с улыбкой на устах, – уснул.
Иероним поглядывал на это равнодушно, Славский с презрением, которого вовсе не думал скрывать, Люльер с каким-то насмешливым состраданием. Бедная хозяйка плакала, а эти слёзы из глазок, минутой назад блестевших кокетством и весельем, разоружили Орбеку, который всего значения происходившего в простоте душевной даже не понял.
Видя общую озабоченность, Славский взялся за шляпу и кивнул приятелю, ему казалось самой подходящей вещью как можно скорее уйти и избежать новой истории за обедом.
Но этот спешный уход и по такому поводу смешивал все планы Миры. У Миры заранее уже был составлен весь план, на после обеда были заказаны кони для прогулки в Виланов, на завтра тоже какая-то партийка будто бы сама намечалась в Виланове, и так далее.
Затем вдруг прибытие пьяного Адониса позорило её дом, отталкивало человека, для которого хотела выступить во всём блеске и очаровании, раскачало ледяной замок.
Но что же было делать? Удержать казалось опасным, убегать самой из дома – не очень приличным.
– Моя дорогая, – шепнула ей Люльер, приближаясь к заплаканной, – я имею тебе что-то предложить: оставим тут этого грубияна, пойдём, езжай со мной, я договорилась с судьёй С, что встретимся там вечером. Не смею предлагать этим господам, – добавила Люльер, – но если бы были так любезны, то нас бы сопровождали, потому что бедный Иероним останется на страже циклопа, чтобы, проснувшись, не побил тут всё.
Славский поглядел на Орбеку, тот был грустный; не то, чтобы это его поразило, потому что страсть есть наибольшим из софистов, но страдал над досадой, какую испытала Мира, а готов был для утешения её не в Виланов, а в Америку с ней плыть.
– Если пан Орбека хочет ехать, я не препятствую, но меня, дамы, простите, потому что я человек работы, подневольный, и как раз должен…
Орбека поглядел на него, но Славский был невозмутим, пожал приятелю руку с улыбкой и сказал потихоньку:
– Тебя уже, по-видимому, не спасу, – сказал он, – но признаюсь тебе, что меня это утомляет. Я нужен тебе на что-нибудь?
Орбека шепнул:
– Но ты был бы мне очень приятен. Ещё тише спросил Славский:
– Ты там нужен на что-нибудь? Ты ещё мог бы и имел повод отступить. Мой Валентин…
– Но, пан, не баламуть нам пана Орбеку, – шепнула умоляюще Мира, которая плохое впечатление последних минут обязательно хотела исправить поездкой, – прошу вас.
– О! Нет, нет! – сказал Славский весело. – Говорю о делах. Я знаю, что Орбека из-за чрезвычайно важных дел должен был ехать во Львов.
– Но какие же дела могут быть важнее просьбы красивой женщины? – спросила Люльер.
Славский поклонился.
Они потихоньку вышли из салона, в котором над спящим шамбелеяницем стоял Иероним, раздумывая, какой ему штукой отплатят, и сошли по лестнице. Славский снова вёл Люльер, которая, глядя на Лакедемончика, улыбалась, а Мира свои слёзы и горе выливала на лоно нового приятеля.
Орбека был уже так слеп, что, кроме этих слёз, кроме этого горя и мучений, ничего не видел, не слышал ничего, и готов был на самые большие жертвы, чтобы вытереть эти заплаканные глаза.
ROZDZIAŁ VII
Это старая как мир история, грустная как могила… Вспомните Клеопатру, которую невольники приносят завёрнутую тому, которого решила очаровать; Далилу и Самсона, Омфалу и Геракла, и тысячи других классических и неклассических повестей, в которых женщина клала побеждённым у своих ног заранее предупреждённого о её легкомыслии мужчину. Что говорить, когда этот мужчина ни Самсон, ни Геракл, ни Цезарь? Ибо нет ничего более слабого, чем мужчина, которому улыбнётся это счастье, что зовётся любовью, и чаще всего… Вы, наверное, видели в лесах южных стран, на стенах и руинах любовные плющи, опоясывающие стволы, покрывающие руины? Как же нежно обвиваются они на груди своих возлюбленных! Увы! Деревья сохнут в этих объятиях и стены крошатся.
А на верху зеленеет плющ, как красиво поведал Фредро.
Хотя старая это история – того плюща и тех, прошу прощения, стволов, она не менее психологически интересна.
Каждая из таких историй имеет свои новые стороны, что-то, чем от иных отличается, что добавляет к общей истории… любви.
Нам также кажется, что и в той, которую мы рассказываем, найдутся достаточно интересные отступления – хоть, может быть, не так удачно представленные, как мы желали бы.
Прогулка в Виланов, хоть Мира по поводу шамбеляница была раздражённая и гневная в душе, принесла предвиденный эффект. Раздражение делало её более живой, более смелой, более странной, а фантазия и отвага никогда красивой женщине ущерба не наносят.
С этого события она взяла повод, говоря по-стародавнему, для жалоб на Варшаву, столицу, её общество, людей, и отвращение, какое к ним показывала, всё обратилось на пользу Орбеки. Он был жителем деревни.
Люльер только раз прервала её, тихо прошептав:
– Но, жизнь моя, всё-таки если бы тебе приказали закопаться на деревне, ловя тебя на слове?..
Мира сделала вид, что не слышит.
Поздним вечером, отправив около Мокотова коней, они вернулись пешком, не спеша, в Варшаву. Орбека проводил их до дверей дома. Тут уже должны были расстаться, Люльер шла впереди на лестницу, когда хозяйка повернулась к Орбеке.
– Когда увидимся? – спросила она. – Ведь ты должен чувствовать, как я, что мы должны видиться и видиться. Значит, когда? Где?
Было это так неловко, но разве самолюбие не объяснит всегда похвальней неловкость?
– Я должен ехать во Львов? – сказал несмело Валентин.
– Во-первых, что за должен? Есть люди, созданные для дел, пусть они за нас их делают, во-вторых, если бы уж была необходимость, то ты вернёшься. Когда? Скоро?
– Но, не знаю в самом деле.
– Знаешь что, останься.
– Не знаю, – колеблясь, добавил Орбека.
– Люльер от меня убежала, а так была рада с тобой поговорить. Ты пришёлся мне по сердцу. А! Стыжусь, что это говорю, но… не принимай же этого за зло. Завтра, вечером, буду в Мнишковском Саду, приезжай, пан, ведь завтра уехать не можешь.
Так они расстались, но Орбека уже был рабом.
Простая, холодная рассудительность показывала ему эту женщину, какой она была, рисовала её, дом, окружение, общество, Люльер. Этот Иероним, этот шамбеляниц, весь тон, речь, настойчивость… нужно было быть слепым, чтобы не догадаться о прошлом, часть которого заходила на настоящее, и однако, однако, Орбека, слабый, всё себе сумел объяснить с хорошей стороны.
Славский на следующий день не пришёл к нему, так был уверен, что там со своим холодным рассуждением и советами ни на что не пригодится. Это задело Орбеку, но пошёл вечером в Сад, и до поздней ночи остался на разговоре с Мирой, которая так вела дела, что всё ближе, с чрезвычайной ловкостью приближалась к нему. Была она уже так уверена в себе и победе, что с утра этого дня, неизвестно, под каким предлогом, отказала в доме Иерониму, бедному юноше, который служил ей как пёсик и до рубашки разорился ради неё. Хотя она назвала его кузеном, чувствовала, что присутствие этого родственника будет ей мешать, раздражать, отбивать и отталкивать Орбеку.
При расставании с Иеронимом было всё, что присуще разрывам этого рода: слёзы, отговорки, гнев, примирение, ручательства в нерушимой привязанности, признания, просьбы. Иероним, который думал, что был любим, вышел из этого испытания пришибленный, измученный, потеряв интерес ко всей жизни, и в тот же день выехал их Варшавы, дольше в ней жить не в состоянии.
Площадь для нового здания была очищена, ловкая пани даже так распорядилась, чтобы иметь как можно меньше гостей, хотела полностью отдаться великому интересу – ибо был это для неё только интерес, ничего больше.
Сердце не принимало в этом ни малейшего участия, затронулось бы, может, если бы встретило трудности для борьбы, но у неё шло аж до избытка легко; если какое чувство и пробудилось в ней к Орбеке, то, пожалуй, сострадание.
В этот вечер из Сада она велела ему проводить её до дома. У лестницы он хотел с ней проститься, но шли вместе, подавал ей руку, разговор был непомерно оживлённым. На пороге та же история, в салоне просила его отдохнуть; потом почувствовала себя голодной, приказала подать ужин, приглашая на него гостя. Вино снова в нём играло некоторую, хоть второстепенную роль. А потом как-то так вязались, плыли, выплёскивались одни за другими рассказы, что, сидя рядом друг с другом, одни, вдвоём, забылись до полуночи. С балкона видна была луна и деревья, ночь была весенняя, чудесная.
Такие минуты никогда не забываются. Орбека вышел размечтавшийся, пьяный, ослабленный, так, что уже о Львове не думал, решил послать доверенное лицо, а сам поселиться в своём доме на Подвале.
На четвёртый или пятый день Мира пошла с паном Валентином, вот так, из любопытства только, посмотреть, как выглядит тот его дом, и нашла его старым, улицу неприятной, а тут как раз выдалась единственная возможность. После пана С. продавали дворец в Краковском предместье за несколько тысяч, за бесценок.
– Если бы ты его купил, я бы у тебя сразу сняла первый этаж. Представь себе, как бы приятно мне было, ты мог бы поселиться внизу, постоянно был бы ко мне близко, а я такая бедная, недотёпа, что без чьей-либо опеки никогда обойтись не могу.
Орбека смолчал, но спустя неделю дом на Подвале был продан за бесценок, а дворец куплен достаточно дорого; прекрасная пани хлопнула в ладоши, узнав об этом, хотела сразу въехать, но новый владелец просил повременить. Камсетшер обновил и украсил для неё первый этаж, послали за мраморным камином в Италию, за обоями – в Париж, за мебелью – в Вену.
Орбека сразу устыдился своей слабости, но стыд этого рода не продолжается долго, человек осваивается с положением, объясняет себе, лжёт, оправдывая себя ошибками других и… потом… уже с лица сотрёт остатки девичьего срама. Славский отстранился от него, других знакомых он почти не имел, легче ему было в этом одиночестве с ней. Мира же не спешила ради него завязывать отношения, чтобы никто таким лёгким, как ей казалось, человеком не воспользовался.
С чрезвычайной ловкостью, с непомерным инстинктом она постепенно обвивала его сетями. Поддельная великая скромность и боязливость были одним из средств, которые использовала. Орбека не мог ни на шаг продвинуться дальше того, что ему было дозволено при первом знакомстве. Когда весь город считал его за близкого друга Миры, он был только самым близким её слугой. С несмелой натурой, уважающий женщину, он не имел отваги продвинуться на шаг дальше, эта чистая любовь была ему милее всего, а Мира хорошо рассчитывала, что лёгкой для него быть не должна.
Тем временем она старалась утвердить свою власть, а иногда пробовала немного капризы, также очень дественные.
Из прошлой жизни остались ей, кроме неудобных знакомств, таких, как, например шамбеляниц, ещё более страшные долги. Даже во времена наивысшей своей красоты Мира без них как-то обойтись не могла. Было это тогда в хорошем тоне – иметь долги. Купцы охотно давали кредит. Но когда суммы увеличивались, а ничего не плыло, начинали быть докучливыми. Во время знакомства с Орбекой Мира была в довольно неприятном положении по этой причине; напоминали, преследовали её, должна была закрывать двери, но когда разошлась новость, что крупный зверь снова попался в сети, кредиторы притихали, не желая мешаться.
Некоторые, однако, рассчитав время, прикинув обстоятельства, постепенно появлялись снова. Мира не знала уже, как от них избавиться, а не хотела ещё ничего требовать от Обеки, ждала… Он на самом деле был очень услужливым, но она не изучила ещё, какое впечатление на него произведёт сдирание живьём кожи.
Одним из самых ловких и докучливых кредиторов был пан Джоли, экс-француз, модный ювелир, человек, который и в кредит давал бриллианты не самой первой моды, и выкупал за бесценок драгоценности, и деньгами ссужал, и служил посредником в многочисленных деликатных делах.
Джоли, который прибыл в столицу как челядник сорок лет назад, было лет шестьдесят, но ещё был красивый, элегантный и очень живой. Его тучность немного мешала, но чересчур ловко её носил и крепко.
Джоли был в очень близких отношениях с Мирой. Неизвестно, с каких расчётов следовало ему несколько сот дукатов, в доме их не было и двадцати, а доход на три года вперёд был давно съеден.
Одного утра Джоли, которого много раз уже под видом мигрени, прогулки, сна, гостей и т. п., она отправляла от дверей, в этот раз в них долбил достаточно резко. Час был ранний, Мира велела его впустить. Она лежала, свернувшись клубком на канапе, на двух розовых лапках держа не менее розовое лицо. Укладывали её светлые распущенные волосы, она была похожа на херувима.
Восхищённый Джоли остановился на пороге.
– Пани графиня, если долгов не платите, то сами виноваты; как можно, будучи такой чудесно красивой, не иметь миллионов для разбрасывания?
Эта лесть была в то же время нахальством, но кредиторам многое прощается, а лесть как фимиам всегда по вкусу, хоть не очень подобранная.
– Какой ты скучный, мой Джоли, – отвечала Мира, – ради жалких нескольких сот дукатов так мне покоя не даёшь, когда ты у меня тысячи заработал.
– Но, дорогая пани графиня, – сказал Джоли, беря стул и садясь без церемонии, – тут дело идёт не столько об оплате, сколько о договорённости.
– О какой?
– Я хотел знать, что с вами делается. Какие виды? Может, если бы ничего не было, то бы всё-таки что-то нашлось.
– Но оставь меня в покое, – румянясь, отпарировала эксподчашина. – Мне кажется, что иду замуж… и богато.
– А! За кого?
Она тихонечко шепнула ему: «За Орбеку».
– Не знаю, – сказал Джоли, но после минуты раздумья и брошенных вопросов, оказалось, что знал, о ком речь.
– Какую бы ты мог мне великую оказать услугу, а может, одновременно и себе, – шепнула после минутного раздумья Мира. – Много ли тебе причитается?
Джоли достал портфель и прочитал 300 и 256 дукатов.
– Слушай и пойми меня хорошо, – начала она говорить потихоньку с искрящимися глазками. – Тебе следует пятьсот пятьдесят дукатов.
– И шесть, – добавил Джоли.
– Я тебе выдам квитанцию на шестьсот пятьдесят.
– А сто нужно добавить? – прервал холодно ювелир. – Но не имею, слово чести, не имею.
– А! Нет, – смеясь, воскликнула Мира. – Орбека купил дворец после пана С. Первый этаж заняла я, он живёт внизу. Если бы вы пошли с расчётом, так немного резко напирая, будто бы по ошибке, к нему. Вам нет необходимости говорить, что нужно и меня там в розовом и чёрном цвете обрисовать и… в то же время испробовать, какой это человек для дел. S’il lâche son argent facilement; ou…
– О! О! Я понимаю и принимаюсь, – сказал ювелир, – завтра утром дам вам ответ.
Мира хотела его снабдить более обширными инструкциями, но пан Джоли почти этим обиделся, и заверил, что справится, и ни в коем разе ущерба не сделает. Сказав это, он вышел.
Можно себе представить, с каким нетерпением ожидала Мира новостей об обороте этих деликатных переговоров, которые начала для проверки грунта. Какой-то дивной случайностью выпало, что этого дня Орбека, который бывал часто по несколько раз, а всегда почти хоть на минуту должен был каждый день видеть Миру, не пришёл.
Поэтому она допускала, что проверка не удалась, что долг мог устрашить либо оттолкнуть Орбеку, что вся её работа была обращена в ничто. Под вечер разболелась её голова, а когда подошла Люльер, хоть ей ни в чём не признавалась, ловкая придворная легко могла понять по лицу Миры, что её угнетает какого-то беспокойство.
Но узнать не могла. Её это сильно заинтриговало, исследовала, однако, напрасно. Мира сбывала ни тем, ни этим, жалуясь на свет и людей.
Ночь прошла неспокойно, долгое утро было мучительным, в одиннадцать объявили приход пана Джоли. Мира бросилась ему навстречу. Ловкий дипломат имел мраморное лицо, почти ничего из него вычитать было невозможно.
– Что же ты сделал? Говори, что сделал? – воскликнула она порывисто.
– Но, сначала нужно знать, сделал ли я что-нибудь? – отпарировал с улыбкой ювелир.
– Ты безжалостен! Как же это было?
– План, отлично составленный вами, был выполнен с интеллигентностью, – сказал медленно ювелир. – Я пошёл во дворец кислый, нетерпеливый; я говорил в сенях так долго, что, наконец, выманил хозяина. Я сказал ему, что ищу вас, что имею дело, не терпящее отлагательств.
Он начал меня деликатно расспрашивать. Я поведал ему, естественно, на вас жалуясь, что вы из-за вашей благотворительности и посвящения другим вечно попадаете в хлопоты, я поведал, что вы мне должны, но добавил, что вы поручились за бедную семью и т. п.
– А, это отлично! А что же он?
– Спросил о величине долга, холодно. Я начал ему ещё говорить о вас, малюя, как был должен, он, казалось, колебался, потом, умоляя меня о самом строгом секрете, бумажку вашу взял и заплатил векселем на Кабрита.
Будучи у Кабрита, я убедился, что у него лежат там excusez du реи пятьдесят тысяч дукатов, но Кабрит мне говорил, что все голые магнаты, унюхав эти деньги, уже на часах. Если бы вы хотели меня послушать и вывезти его отсюда… потому что его, несомненно, оберут, а эта операция, – добавил Джоли с поклоном, – должна быть предоставлена вашим красивым ручкам.
Мира улыбнулась, сердечно поблагодарила Джоли, который наговорил ей любезностей, остроумий и, наконец, ушёл. Орбека пришёл поздно, но в хорошем настроении, с привычной своей покорностью и мягостью. Мира уже знала, что щипать его можно безнаказанно, была спокойной. День прошёл в домашней тишине на сладких беседах. Орбека остался до вечера. Немного выводило из себя прекрасную пани то, что, дойдя до положения друга дома, иного, казалось, не желает, не надеется. Был несмелый и простодушный аж до смущения, трудно было бедной женщине самой броситься ему на шею.
Он уже брался за шляпу, когда Мира, прощаясь, грустная, почти расплакалась сразу, а через минуту хорошо разревелась и получила спазмы. Это, естественно, задержало уходящего, но он ни о чём не догадался… Приводя в себя ослабевшую, он почувствовал, что она его сильно оттолкнула. Пан Валентин смешался и испугался, что мог чем-то заслужить её гнев, не понимал, что случилось… Она плакала, наконец из-за слёз добылись слова:
– Неблагодарный! Жестокий! О, Боже мой! Он меня не понимает.
Как по нити выкатился разговор, полный драматизма.
Мира приказала ему идти и не показываться больше на глаза; призналась, что он опасный, проговорилась ему с тем, что весь город обращает на неё внимание, что их разгадали, что понесла по его причине тяжёлый вред репутации. Орбека сам не знал, что с собой делать и как объясниться.
– А! – воскликнул он. – Разве, пани, не видишь, что я влюблён, что я сошёл с ума, что обо всём на свете забыл из-за тебя?
– Но что же будет! Что же будет с нами?! – прервала Мира. – Однако же мы так остаться не можем, моё имя… эти отношения… свет.
– Вина моя и не вижу иного спасения, как… удалиться, – сказал Орбека. – Прикажешь, пани…
Мира не могла ничего понять.
– Ты знаешь, – прибавил он, – что я женат.
– Как это? Когда был развод и жена твоя пошла за другого?
– Да, – отвечал потихоньку Валентин. – Но я клялся ей добровольно и как честный человек клятвы ей нарушить не могу. Чувствую себя связанным ею до смерти. Я не пан сердца, но должен быть паном моего слова и клятвы.
Был это, наверное, софизм, но по-своему очевидный для честного человека, Мира ещё не могла его понять, наконец, испугалась, видя, что расчёт на брак, ежели был не фальшивый, то добиться цели было гораздо труднее, чем казалось.
– Но ни церковь, ни закон, ни обычай не требуют от вас…
– Да, я сам только требую этого от себя, – сказал Орбека, – и сказанное слово всё-таки сдержу. Прости мне, пани, – воскликнул он, становясь на колени, – что я безумец, посмел, не в состоянии жениться, отдать тебе это бедное сердце… Великой для меня будет жертвой отпустить тебя, но вижу теперь, что это неизбежно. Навсегда моё сердце, мысли, желания остануться с тобой, но я… я завтра еду…
Молния не могла бы сильней поразить неловкую Миру, чем эти слова; в одно мгновение надо было сменить всю стратегию, план, и привязать к себе этого человека, если не обетом и присягой, то жертвой и счастьем.
Наши читатели, наверное, кроме того, уже составили хорошее мнение о Мире, чтобы без труда не догадаться, что могла справиться в самом безнадежном случае.
Несомненно то, что на следующей неделе экс-подчащина, которая так боялась клеветы, мнений, слухов, без колебания дала новый повод для них, занимая первый этаж дворца, в нижнем этаже которого поселился пан Орбека.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!