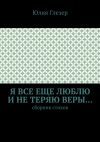Текст книги "Именины сердца. Разговоры с русской литературой"

Автор книги: Захар Прилепин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Леонид Юзефович:
«Хочу что-то сказать не столько о человеке как таковом, сколько о человеке во времени»
Леонид Абрамович Юзефович родился 18 декабря 1947 г. в Москве. В 1970-м окончил исторический факультет Пермского университета. В 1970–1972 гг. служил в армии в Забайкалье. С 1975 г. работал учителем истории в средней школе. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–XVII веков.
Литературный дебют состоялся в 1977 г. в журнале «Урал»: повесть «Обручение с вольностью». Автор романов «Самодержец пустыни», «Песчаные всадники», «Казароза», «Журавли и карлики». Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Князь ветра» (2001). Книги Леонида Юзефовича переведены на многие языки.
В последнее время работает для телевидения: автор сценария сериала «Гибель империи» (2004) о деятельности контрразведки в Петрограде времен Первой мировой войны и революции, а также сценариев к сериалам, поставленным по его книгам.
Не устаю повторять, что Леонид Абрамович Юзефович – мой учитель; хотя я не уверен, что ему нужны такие ученики.
Он – человек, наделенный безупречным вкусом и слухом, настоящий мастер. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.
Все остальное, что я думаю о Юзефовиче, – в моих вопросах к нему.
– Леонид Абрамович, я несколько раз слышал, что вы называете себя «рассказчиком историй». Мне кажется, что в этом нет и толики самоуничижения. Вы сами говорили (не ручаюсь за точность цитаты), что никакая эссеистика и публицистика не сравнится с мощно рассказанной историей. (Реальной историей, надо понимать?) И я согласен с этим.
И вот первый вопрос. Есть ли в русской литературе примеры подобного подхода: кто у нас брал и рассказывал некую мощную, любопытную историю? Известно, скажем, что Достоевский иные коллизии для своих романов черпал из газет, но это лишь получение импульса – и все. Сама традиция рассказа реальной истории, как я понимаю, сложилась уже в советское время. (Мы зарубежную литературу пока не берем.) Что такое «Железный поток» Серафимовича, как не мощно рассказанная история? И даже «Дом на набережной» Трифонова – тоже история, и тоже вполне реальная. Там есть десятки примеров самого разного рода.
Самое поверхностное родство можно найти между вами и, к примеру, отличным рассказчиком нескольких историй Пикулем. Но мне всегда казалось, что родство это весьма сомнительное. Вот, читая последний ваш, замечательный рассказ «Язык звезд» (или, скажем, ранее – «Казарозу»), мне казалось, что архитектура ваших произведений имеет куда большее родство, скажем, с Борхесом. Сад расходящихся тропок – каждый ваш текст. Детектива в них (который столь часто пропагандируют ваши издатели на обложках ваших книг) не то чтобы мало – он просто неважен по большому счету. Я вообще уверен, что с Акуниным (о котором часто поминают, говоря о вас) вы занимаетесь разными вещами. И не просто потому, что вы писатель, а он почти нет. А потому, что в ваших текстах более всего важна удивительная, рифмующаяся, очаровывающая, потайная структура мира, которую вы можете увидеть, разглядеть. Сошлюсь на Леонида Леонова, который говорил, что в его романах пять-семь этажей, а все бродят по первому. Большинство тех, с кем вас сравнивают, – одноэтажные, а ваши тексты – они с верандами, надстройками, подземными ходами, тупиками, шпилями… То есть, на мой взгляд, вы не просто рассказчик историй, но человек, способный эти истории обнаружить, понять и преподнести так, что они приобретают звучание иное, философское, метафизическое. Создается некая картина мира, где случайность (как один из престарелых романных приемов) перестает быть той случайностью, какой она была и в бульварной литературе, и в русской классической (вспомним вереницу случайностей хоть в «Герое нашего времени», хоть в «Докторе Живаго»), – но получает в ваших книгах какой-то новый смысл, который мне сложно сформулировать. Случайность как некая божественная ирония – быть может, так? Случайность: когда два диктатора в юности жили в одном захолустном городе, не зная друг друга; когда реальный поэт, реальный белый офицер, реальный красный офицер в разные годы любили одну женщину, не догадываясь об этом… Это некие божественные рифмы – которые, безусловно, куда более интересно обнаружить в истории (и вы умеете это делать как никто другой), чем придумать самому. И дело в том, что эти рифмы не просто нужно обнаружить, – на них надо иметь слух, и слух поэтический. У вас он есть, в отличие от очень многих рассказчиков историй.
…Получилось так, что я либо не задал первого вопроса вообще, либо задал сразу много вопросов. Если возможно, отрефлексируйте как-то сказанное мной. О литературной традиции «рассказчиков историй» в России, о детективах, о случайности и божественных рифмах…
– Захар, после стольких комплиментов в мой адрес мне положено говорить что-то выдающееся по мудрости и оригинальности, а ничего такого я сказать не могу. Я не мыслитель, и мое понимание жизни растворено в подробностях самой жизни. Мне проще рассказать историю – иногда подлинную, иногда придуманную, а чаще подлинную, но измененную, – чем потом сформулировать заложенный в ней смысл. Это скорее изъян, чем достоинство, но с возрастом мы научаемся более эффективно использовать то, что в нас есть, и меньше стремимся быть или хотя бы казаться тем, чем мы не являемся. В молодости все переживания по поводу ограниченности своих возможностей куда острее.
В русском языке английские story и history обозначаются одним словом – история. Правда, с той существенной разницей, что в первом значении оно имеет множественное число, а во втором – нет. В обывательском представлении история (history) состоит из историй, и в этом отношении я – обыватель. Трудность в том, чтобы найти такую историю из жизни, в которой отразилось бы время, то есть история общества. Я всегда хочу что-то сказать не столько о человеке как таковом, сколько о человеке во времени. У меня в юности был друг, который обожал две вещи – выпивать и спорить на отвлеченные темы. Однажды мы с ним выпивали и спорили о чем-то высоком, потом я пошел провожать его до автобусной остановки и лишь на улице обнаружил, что свои ботинки он забыл у меня в прихожей и идет по снегу в одних носках. Он тогда сказал мне примерно следующее: «Это потому, что истина для меня важнее, чем для тебя». Что это была за истина, я не помню, да и он, я уверен, тоже, но история осталась в моей памяти как знак времени, как символ семидесятых, когда кухонные разговоры за бутылкой порождали тип человека, в пылу полемики идущего по снегу в одних носках. В девяностые годы этот тип вымер окончательно. Выпивка и поиск истины до конца не разошлись, но исчезла иллюзия, что вот прямо сейчас, за столом или по дороге к автобусу можно раз и навсегда решить какие-то кардинальные проблемы бытия, по сравнению с которыми все остальное совершенно не важно. Сейчас даже двадцатилетние прекрасно понимают относительность такого рода решений. Что касается рифмовки событий, то это заложено в истории, как созвучия – в языке. Чем у поэта богаче словарный запас, тем неожиданнее рифма. Чем более широкой исторической реальностью оперирует прозаик, тем больше он видит таких совпадений. При этом важно не впадать в грех аналогии. Прошлое может многое сказать о настоящем не потому, что похоже на него, а потому, что в нем заметнее вечное.
А вот о роли случайности в моей прозе вы сказали очень точно, я сам об этом в таких категориях не задумывался. Действительно, в самом слове «случай» ясно проступает ваше его понимание как «божественной рифмы»: тут и «случка», и «лук», и еще многое другое, в чем ощущается соединение разных начал, сопряженных, как тетивой, некоей волей – возможно, высшей. Еще древние греки задумывались над тем, является ли случай орудием судьбы или, наоборот, доказывает относительность ее власти. Свои сомнения они разрешили в рамках идеологии, хитро снимающей этот вопрос. У греков были всемогущие мойры, они же парки, но была и отдельная богиня Тихэ, ведающая случайностями судьбы. Увы, для нас это не выход. Вопрос остается, и без учета его неразрешимости настоящая проза обойтись не может. Такая проза тем и отличается от журналистики, что в ней так или иначе присутствует метафизическое начало. Мы часто путаем его с мистикой, но это разные вещи. Мистика – примета массовой литературы.
Нередко считается, что внятно рассказанная история тоже характерна для литературы масскульта, но все дело в том, какие истории мы выбираем. Как мы их рассказываем – дело десятое. Куда важнее рассказать их вовремя. В юности меня, например, поразила вычитанная мною в «Русской старине» история мытарств одного провинциального чиновника, у которого в тридцатые годы XIX века нашли список еще не изданного тогда «Горя от ума», усмотрели в нем намеки на конкретных лиц из губернского начальства и обвинили беднягу в том, что он сам этот текст и сочинил. На этот сюжет написана одна из моих ранних повестей. Тогда в нем многое прочитывалось. Сегодня такая история меня заинтересовала бы исключительно как курьез.
– Вы еще много знаете подобных историй, которые стоит рассказать? Будет ли книга о генерале Пепеляеве?
– Историй знаю много и большинство их рассказать уже не успею. Мне шестьдесят лет, в этом возрасте у нормального человека творческий потенциал быстро падает, а критическое чувство нарастает. В итоге пишется все меньше и меньше. Уже начинаю сомневаться, что меня хватит на давно задуманную документальную книгу о генерале Пепеляеве, которым, как и Унгерном, я интересуюсь почти всю жизнь и собрал большой материал о нем, в том числе архивный.
– Я как-то написал вам в личном письме, что мне очень симпатична ваша философия истории, где, примитивно выражаясь, «нет плохих». Это действительно так? Или вы не любите плохих людей принимать в свои тексты? Или, как всякому хорошему историку, вам чуждо однозначное, прямолинейное восприятие истории?
– Мой друг, писатель и очеркист Владимир Медведев, написал однажды в своей книге о басмачестве в Средней Азии: «В прошлое нужно внимательно всматриваться, а не вперять в него укоряющий взгляд». Я полностью разделяю этот подход. К сожалению, «вперяющих» у нас традиционно больше, чем всматривающихся.
– Как вы, кстати, относитесь к альтернативной истории – г-на Фоменко и прочих?
– Трудов Фоменко не читал, но отношусь к ним плохо – по той простой причине, что не могут все историки, кроме него, идти не в ногу. Из «прочих» мне кое-что попадалось, все это разновидность исторического (или – ой?) фэнтези – самого, на мой взгляд, ублюдочного литературного жанра.
– Маргерит Юрсенар – чем вам интересна эта писательница? В России ее мало кто знает. Вообще вы могли бы сказать несколько слов о ваших литературных предпочтениях в западной литературе?
– Исторические романы – это, как правило, масскульт, сам я их терпеть не могу, хотя в детстве и отрочестве прочел великое множество. Француженка Маргерит Юрсенар принадлежит к числу немногих исторических романистов и эссеистов, писавших в соответствии с известной рекомендацией Алексея Толстого, которой сам он следовал далеко не всегда: «Все знать и все забыть». Имеется в виду, что знание эпохи необходимо, но не должно быть самоцелью. Все, что написано Юрсенар, – попытка воссоздать путь человека во времени, но путь, направленный в вечность. Впрочем, моими кумирами были прежде всего английские писатели: Джозеф Конрад, Ивлин Во, Сомерсет Моэм, Грэм Грин. Современных знаю плохо, но весной впервые прочел Салмана Рушди и сейчас закончил уже третью его книгу. Мне он интересен.
– … и о предпочтениях в русской литературе. Двадцатый век хоть как-то сопоставим с девятнадцатым? У нас была великая литература? Нет у вас ощущения, что у нас еще хаотизировано восприятие литературы минувшего столетия? Что есть величины мнимые, что есть величины забытые? Я, например, совершенно убежден, что Константин Воробьев куда более сильный писатель, чем Александр Солженицын. Но кто знает, кто такой Воробьев?
– Любимый русский классик – Николай Лесков. Это единственный писатель, у кого я прочел собрание сочинений от первого тома до последнего. Константина Воробьева в юности читал с восторгом и согласен, что он по достоинству не оценен. К сожалению, он рано умер. Не знаю, как сейчас, но раньше в нашей профессии существовало железное правило: русский писатель должен жить долго. Или трагически погибнуть. Многие, рано умершие своей смертью, не получили того, что принадлежит им по праву таланта.
– Самая дорогая для вас и удачная, на ваш взгляд, экранизация ваших романов?
– «Казароза» режиссера Алены Демьяненко, хотя фильм очень отличается от романа.
– Вы следите за литературным процессом? Все-таки упадок сегодня или подъем?
– По-моему, процентное соотношение хороших и плохих писателей во все времена одинаково, как в любой профессии. Другое дело, что писатель в наше время – профессия не самая востребованная. Негодовать по этому поводу и обвинять общество в бездуховности так же смешно, как возмущаться тем, что обществу требуются программисты, а не бондари. Функцию советского писателя сейчас отчасти взяли на себя журналисты, историки, священники и психотерапевты. При всем том хороших писателей у нас много, а есть просто замечательные. Тем, кто говорит об упадке литературы, советую взять подшивку литературных журналов шестидесятых-восьмидесятых годов прошлого века и начать читать все подряд.
– Политические взгляды есть у вас? Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию в России? Волнует ли она вас?
– Политические взгляды у меня неопределенные. Более того, я считаю, что писатель и не должен иметь определенных политических взглядов. Его задача – пытаться понять всех и откликаться на любые честные аргументы. Политическая ангажированность требует усечения реальности и рано или поздно мстит за себя оскудением способности видеть вещи в их противоречивой целостности. Противоречие нужно уметь принять как метафизическую данность и научиться жить с ним, а не пытаться избавиться от него, чтобы жить было проще. Что касается прогнозирования ситуации в России и где угодно, то как историк я хорошо знаю цену таким прогнозам. Никто и никогда ничего не мог предвидеть, все спекуляции на этот счет – полная ерунда.
Татьяна Набатникова:
«Государство однозначно ценнее и важнее отдельной личности»
Татьяна Алексеевна Набатникова родилась 14 октября 1948 г. в селе Верхние Краснояры (Алтайский край).
Окончила Новосибирский электротехнический институт и в 1981 г. заочно Литературный институт. Работала инженером в Новосибирске, редактором Западно-Сибирского издательства.
Первый рассказ опубликовала в 1951 г., тогда же вышла и первая книга. Автор книг «Домашнее воспитание», «На золотом крыльце сидели», «Каждый охотник», «Загадай желание», «Дар Изоры», «Не родись красивой», «День рождения кошки». Также известна как переводчик с немецкого языка.
Я немного знаю Татьяну Набатникову и читал ее книги. И краткое общение с этим человеком и не столь полное, как хотелось бы, знание ее прозы тем не менее оставили ясное и схожее ощущение – и от человека, и от его текстов, и вот от этого интервью, что ниже. Какое ощущение – я сейчас попытаюсь сам себе объяснить. То, что Татьяна Набатникова пишет и говорит, подается всегда доброжелательно (к слушателю и читателю) и очень сдержанно. Это, как правило, точно сформулировано, это составлено из, казалось бы, простых кубиков – но попробуй скажи, напиши, поживи в такой вот красивой простоте…
Я беседовал со многими литераторами, но всего несколько, быть может, двое из них произносили те четкие и чуткие мысли, которые я хотел бы сформулировать сам, первым, раньше их. Это признание могло бы показаться сомнительным комплиментом, если бы это был комплимент. Но это не комплимент, это я так думаю.
Самое удивительное, что и тот, второй человек – женщина… Черт знает что творится. То ли с женщинами, то ли с мужчинами, то ли еще с кем-то.
– Татьяна Алексеевна, я с общих вопросов начну. Если можно, расскажите о себе: откуда вы родом, как складывалась жизнь ваша – что удалось, что не удалось? Откуда, кстати, такое знание немецкого языка?
– Я родилась благодаря тому, что мой отец был ранен в финскую войну, из-за этого не попал на Отечественную и остался жив. Наше алтайское село было на треть населено хохлами, приехавшими на богатые сибирские земли еще в XIX веке, на треть – кацапами и на треть – немцами, сосланными в войну из Поволжья. Мы, конечно, там все перемешались и перероднились. Но немецкий я знаю не поэтому, а потому, что нас хорошо учили в школе. Не только языку, а вообще всему. Хорошие были учителя, хорошие врачи в селе, какое-то было все надежное, с большим запасом прочности. И никто из нас, выпускников сельских школ, не чувствовал себя подготовленным хуже городских – в том же Новосибирском электротехническом институте, где я училась. И там тоже язык хорошо преподавали. И когда много лет спустя он мне понадобился, восстановить его было нетрудно. Вообще такого равенства возможностей, какое было гарантировано нашему поколению, боюсь, уже не вернуть. Водительские права, например, я получила прямо в школе, в одиннадцатом классе, преподавали нам автодело. И если говорить о жизни в целом, она сложилась у меня так, как я ее себе представляла. Все, чего я хотела, я добилась, и непреодолимых препятствий к этому не было.
– У вас вышло девять книг. Я часто слышу от молодых, да и не только молодых литераторов, что вот, мол, им недодали того, что они заслужили по праву. Бывали у вас такие мысли?
– Я уверена, что все, чего человек заслуживает, он получает. Я приведу простой пример. В теннисе бывают спорные мячи: попал, не попал мяч в черту. Если противник «зажилил» мяч в свою пользу, можно даже не сомневаться, что следующий мяч он проиграет. В таких случаях мы говорим: «Бог не фраер!» И ему виднее, кому что дать. И «за какие такие заслуги» – тоже не нам решать. Не дал – значит, плохо я на него работала.
Честно скажу, обиженного вопроса «а я чем хуже?» у меня никогда не возникало. Всегда я точно знала, чем. И знала, что на чужое место мне бессмысленно претендовать, но и мое, единственное и неповторимое, занять никто не способен.
– Какой из переведенных текстов вам наиболее дорог? Вы, кстати, правите свои переводы при переиздании?
– Написанные или переведенные тексты мне дороги только в тот момент, когда я их пишу, когда составляю фразу, когда охочусь за этой жар-птицей и мне удается на лету поймать мысль, слово, мелодию, ритм.
Я представляю это так: мир держится и не распадается на груду энтропийного хлама только за счет того, что в каждое мгновение кто-то занят работой гармонизации, упорядочения, построения. Писатель – в равной степени, как и каменщик, и композитор, и бухгалтер со своими балансами. И мои усилия драгоценны лишь в тот момент, когда я их предпринимаю. Поэтому напрягаюсь я всегда максимально. И мой кирпичик будет вставлен в нужное место построения ноосферы. Но возвращаться к нему потом, смотреть, не косо ли он лежит в общей кладке, пытаться как-то сошлифовать неровности – это «поздняк метаться», как говорят.
На этот счет мне нравится одна легенда, не знаю, насколько она реальна. Якобы Гоголь однажды приехал в Оптину пустынь и там обнаружил рукописный разбор «Мертвых душ», сделанный одним монахом. Этот разбор показался Гоголю единственным, попадающим в точку, и он сокрушенно спросил монаха, почему же тот не опубликовал сей труд. И монах ответил: «Зачем, достаточно того, что он написан».
– Да, сказано замечательно…
Но мы все-таки пока публикуемся. Как переводчик, скажите, сильная советская переводческая школа – она исчезла, распалась, затерялась в сонме подделок, или есть еще мастера? Кого бы вы назвали как пример образцового переводчика?
– Ну вот Наталья Демурова, которая перевела «Алису в стране чудес». Мастера никуда не делись, они всегда есть, каждый в меру сил старается прыгнуть выше головы, потому что работа, сделанная качественно, доставляет самому автору безмерное удовольствие, не зависящее от гонорара. Конечно, мастер должен сначала вырасти.
Конечно, он сделает при этом массу ошибок. Как и врач, пока учится. Конечно, мера таланта у людей разная. Конечно, в этой профессии возраст работает на человека, просто потому хотя бы, что переводчику необходима обширная эрудиция в разных областях, а она накапливается с годами. И сейчас взять любого переводчика лет пятидесяти – он мастер, ничуть не хуже пресловутой «советской школы», уже хотя бы в силу того, что имеет возможность бывать в стране языка и знает детали тамошней жизни.
– Что ж, успокоили. А часто ли вы находите ошибки в чужих переводах? Можете назвать самые смешные или бесстыдные примеры?
– От ошибок в переводах никто не застрахован, даже в переводе с русского на русский. Вот уже несколько лет работает немецко-русская переводческая мастерская, раз в год собираются вместе шесть русских и шесть немецких переводчиков и обсуждают работы друг друга. Я участвовала в такой мастерской, мы там ловили друг друга на очень смешных, но неизбежных ошибках, потому что невозможно знать тонкости и сокровенные смыслы неродного тебе языка. Вот, например, очень опытная и сильная немка переводит русский текст, в котором герой сбегает вниз по лестнице, его преследуют, ему грозит смертельная опасность, и он думает: «Только бы не сковырнуться!» И она переводит это: «Только бы не поцарапаться». Бывают редкие случаи, когда у человека два родных языка плюс еще и талант. Таков Александр Нитцберг, у него русская мать и немецкий отец, а сам он одаренный поэт. Вот он Маяковского переводит. Только двуязычный может сделать это адекватно.
– Как вы оцениваете состояние современной русской литературы?
– Я потрясена и восхищена тем, что и та, и другая, и третья есть, что они не оскудевают и что не переводятся люди, которые этим (не НА это!) живут. Значит, есть в этом высший смысл, потому что лишних ресурсов у природы нет и зря бы она не стала подталкивать своих детей к этому бесперспективному занятию.
– О конкретных персоналиях будем говорить? Мне любопытно ваше мнение, кто, на ваш взгляд, из числа нынешних властителей дум останется в литературе надолго и полноправно: Распутин, Бондарев, Гранин? Кураев, Ким, Кабаков? Ерофеев, Дмитриев, Поляков? Улицкая, Петрушевская, Толстая? Лимонов, Проханов, Есин? Краснов, Личутин, Екимов? Иные, чьи имена я не назвал? И кто из них (или не из них) может сегодня являться моральным авторитетом для нации – занимать место, какое занимал, например, в свое время Лев Николаевич Толстой.
– Всех, кого вы назвали, я читала, все были хороши, все утоляли мою жажду (всякий раз другую), и некорректно было бы составлять из них рейтинг, кто кого круче. Время уже успело сделать некоторый отбор, и все эти имена в литературе остались, но вот надолго ли – из сегодняшнего дня невозможно увидеть. Я лично из всей мировой литературы больше всего «питательного духовного вещества» получила от Андрея Платонова. Но у каждого человека свой список, вычеркивать никого не будем.
– Но я все-таки спрошу отдельно. Вы как-то говорили, что на первом вручении премии «Национальный бестселлер» болели за Эдуарда Лимонова. Потому что он сидел в тюрьме или потому, что вы почитаете его как автора? И если почитаете – за какие тексты?
– Потому что он сидел в тюрьме. И потому, что почитаю как автора. За все тексты. Потому что он талантлив в каждой строчке, о какой бы ерунде ни писал. Я могу с ним соглашаться или не соглашаться, но не признать его литературной силы не могу, она меня обезоруживает.
– Сергей Шаргунов, которого вы часто и нежно хвалите, как-то сказал, что женская проза лишена метафизики, что он как бы и не видит особого смысла всерьез о женской прозе говорить – что вызвало веселую отповедь Ани Козловой на тему, а что, мол, такое эта метафизика, и неужели проза Елинек менее метафизична, чем проза Проханова. Отрефлексируете Сережины слова?
– Я у Елинек – с ударением на первом слоге…
– Прошу прощения…
–. .перевела два романа: «Алчность» и «Дети мертвых». Поначалу это потребовало от меня серьезного преодоления, но потом безумица победила меня полностью. Она создала новый литературный язык, она пишет не мыслями, не смыслами, а вторыми производными от смыслов, мановениями, музыкальными касательными. Это иррациональные тексты, войти в ее непривычную и агрессивную среду сложно, многое отторгает, но если все-таки протиснешься – это окупится.
Другое дело – спор «и поединок роковой» мужчин и женщин: ну как, чем нам мериться, если у одних длина, а у других глубина. И Аня Козлова хороша, и Шаргунов, и Елинек, и Проханов.
– Существует ли до сих пор раздел меж патриотической и либеральной литературой? Вреден он или полезен? Не проходил ли иногда этот раздел через вашу жизнь?
– Раздел, увы, существует, хотя премия «Национальный бестселлер» одной из задач ставила свести всех игроков – слева и справа – на одну площадку, где бы они тягались художественной силой. Думаю, эти усилия не прошли даром, но к окончательному примирению придет только ваше поколение, когда разрыв срастется. А наше поколение слишком уж резко размежевалось, распри еще не забылись. Для меня лично в литературе нет «нерукоподаваемых» персон. Какое право я имею осуждать кого-то за колебания или даже за предательство, когда неосуждаем остался даже Петр, трижды отрекшийся от своего учителя еще до того, как прокукарекал петух. В моей судьбе – да, была трагическая история. Какой-то был в начале девяностых год, когда все начали выяснять между собой отношения, и в Союзе писателей на Комсомольском проспекте написали оскорбленное письмо в защиту русского народа, которому никуда проходу не дают. И я это письмо тоже подписала. И вот встречается мне в поликлинике Дина Рубина, бесконечно ценимое мною во всех проявлениях писательское и человеческое существо, если можно так выразиться, и гневно сообщает, что она уезжает, эмигрирует в Израиль, чтобы больше не путаться у нас тут под ногами и освободить нам, наконец, проход. И я стою перед нею, хлопаю глазами – и нечего мне ей ответить. Потеря Дины Рубиной для меня была катастрофой.
Но сейчас мы с ней ничего, забыли эту трещину, – но мне до сих пор за тот день стыдно.
– Вы вспомнили о «Национальном бестселлере». А как вы вообще оцениваете премиальный процесс в России? Премии значимы? Они реально влияют на известность, на продажи? Они реально не ангажированы – вернее, ангажированы лишь личным мнением судейской коллегии? Помните ли вы, кстати, ваши премии? Они тогда повлияли на известность ваших книг?
– Премии проделывают очень важную работу отбора самого существенного и важного в текущей литературе. Так или иначе, премии прочесывают всю литературную местность, ничто значительное не увернется от какого-нибудь шорт-листа. Вот шорт-листы – самое главное. А кто получит главный приз – это уже вопрос везения. В советские же времена премии давали по другой системе отбора. Я, например, получала премию журнала «Юность» за рассказы по итогам года, она называлась «Имени Б.Полевого», получала премию им. Н.Островского – это была премия ЦК ВЛКСМ для молодых писателей – видимо, по рекомендации какого-нибудь отдела «по работе с молодыми», такие отделы (мы называли их «по борьбе с молодыми») были и в Союзе писателей, и в каждом издательстве. Была премия им. М.Шолохова, учрежденная СП СССР незадолго до развала, и я ее получала, а потом стал ее присуждать СП России.
Это всегда было приятно. И как теперь, так и тогда имя должно было не раз где-то помелькать, чтобы на твою книжку среагировал читатель.
– У меня несколько странный вопрос к вам. Он, вроде бы, обо мне, но на самом деле я тут ни при чем. Так сложилось, что мои книжки начинают понемногу выходить за пределами России. Но вот с Германией отношения никак не складываются: немецкие издатели находят мои сочинения слишком радикальными. Немцы до сих пор боятся всякого радикализма? Мне кажется, это чревато тем, что тяжелая, отрицательная, потайная энергетика в таком случае лишь накапливается. И может позже взорваться. Что вы думаете по поводу сказанного мной как специалист по немецкой литературе и человек, достаточно хорошо знающий Германию и современных немцев?
– Совершенно с вами согласна. Мне не нравится пословица «худой мир лучше доброй ссоры». Пресловутая политкорректность часто загоняет болячку в глубину, и она потом прорывается гнойным нарывом. А хорошая ссора обостряет отношения и помогает устранить подспудные ошибки. С теми же немцами мы уж как воевали, а как дружим теперь! Но они действительно после войны стали той пуганой вороной, которая куста боится.
Есть даже такая точка зрения, что национал-социализм, пресеченный в своем развитии поражением во Второй мировой войне, так и не успел прорастить свое разумное зерно, а недовершенная идея обречена на возвращение, и все равно придется пройти исторический путь до конца. Никакой страх радикализма не спасет.
– Современная немецкая литература и современная русская: есть ли схожие моменты, есть ли различия? Это важно понять: именно две наши страны достигли в XX веке абсолютного могущества, пережили ряд национальных катастроф, выжили – и теперь пытаются разобраться: кто мы, куда идем, зачем? Это, наверное, должно отражаться в литературе…
– Мы очень похожи. Даже не буду вдаваться в подробности, об этом долго можно говорить.
– А вообще литература имеет право быть радикальной, злобной, агрессивной? Это вопрос уже не только к вам как к писателю, но и вопрос к женщине.
– Наверное, она должна задевать жизненно важные центры: если «ярость благородная», если «очистительный огонь» – пусть бы опаляла, только бы гноем зеленым не заливала. Без катарсиса, то есть без очищения пламенем, просветление не достигается.
Существует святоотеческая литература, полная благости, но читают ее люди, уже прошедшие очищение, уже проплакавшие себе глаза слезами раскаяния. А светская литература – да она просто обязана быть радикальной.
– Есть политические взгляды у вас? Необходима ли писателю гражданская позиция?
– Вряд ли он без нее обойдется. Все, начиная с выбора героя, выдает позицию писателя. Если говорить о моих политических взглядах, то они связаны с расой и кровью. Поясню. Вот рождается мальчик какого-то имперского народа – китайского, положим, немецкого или русского. У него в крови записана сверхзадача: он должен пойти и погибнуть, но той пядью земли, куда упадут его кости, его империя прирастет. А рождается мальчик какого-то подавляемого и подчиненного народа, кровь диктует ему совсем другую задачу: выжить любой ценой и сохранить генетический код. Поведение этих двух мальчиков будет совершенно разным. И иерархия ценностей будет разная. Для имперского мальчика на первом месте будет Бог, на втором государство и только на самом последнем он сам, грешный. А для второго мальчика будет все наоборот: на первом месте он, носитель генокода, на втором месте государство, ну и где-то там Бог, если на него останется. Мы сами не вольны в выборе политической позиции. Этот выбор определяет популяция, история, код, записанный в крови. Для меня государство однозначно ценнее и важнее отдельной личности. Вы скажете, вот потому-то личность у нас и попирается так беззастенчиво! Да, отвечу я вам с горечью и смирением, вот именно поэтому. И с этим ничего не поделаешь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?